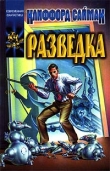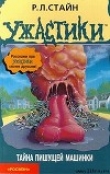Текст книги "Понимание медиа: Внешние расширения человека"
Автор книги: Маршалл Мак-Люэн
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Архимед как-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Сегодня он ткнул бы пальцем в наши электрические средства коммуникации и сказал: «Я обопрусь на ваши глаза, уши, нервы и мозг, и мир будет вертеться в любом ритме и на любой манер, как только я пожелаю». Эти «точки опоры» мы и сдали в аренду частным корпорациям.
Арнольд Тойнби посвятил немалую часть своего труда «Постижение истории» анализу вызовов, с которыми пришлось столкнуться на протяжении многих веков самым разным культурам. К западному человеку в высшей степени подходит предложенное Тойнби объяснение того, как в обществе активных воинов реагируют на свои увечья хромые и калеки. Они становятся специалистами, подобно Вулкану, бывшему кузнецом и оружейником. А как ведут себя целые сообщества, когда их завоевывают и порабощают? На службу им приходит та же стратегия, которой придерживается в обществе воинов хромой человек. Они начинают специализироваться на чем-то и становятся для своих господ незаменимыми. Вероятно, именно долгая человеческая история порабощения и впадения в специализм как контрраздражитель наложила на фигуру специалиста клеймо услужливости и малодушия – клеймо, которое он носит на себе до сих пор. Капитуляция западного человека перед собственной технологией с ее развившимися до наивысшей точки специализированными требованиями всегда казалась многим наблюдателям нашего мира своего рода порабощением. Однако, в отличие от сознательной стратегии специализации, принимаемой пленниками завоевателей, тут складывающаяся в итоге фрагментация была добровольной и исполненной воодушевления.
Ясно, что фрагментация, или специализм, как техника достижения безопасности в условиях всевозможного рода тирании и угнетения несет в себе опасность. Идеальное приспособление к любой среде достигается путем тотального перенаправления энергий и жизненных сил на то или иное статичное состояние существа. Даже малейшие изменения в среде застают очень хорошо приспособленных в таком состоянии, когда у них нет ресурсов для того, чтобы встретить новый вызов. В любом обществе в таком незавидном положении находятся глашатаи «конвенциональной мудрости». Их безопасность и статус опираются полностью на одну-единственную форму приобретенного знания, а потому нововведение означает для них не новшество, а уничтожение.
Родственной формой вызова, с которой всегда сталкивались культуры, является простой факт наличия границы или стены, по ту сторону которой существует другой тип общества. Само существование бок о бок двух форм организации порождает немалую напряженность. На этом, по сути, и строились символистские художественные структуры прошедшего столетия. Тойнби отмечает, что вызов цивилизации, располагающейся бок о бок с племенным обществом, снова и снова демонстрировал, что вся экономика в целом и все институты более простого общества оказываются «дезинтегрированы дождем психической энергии, порожденным цивилизацией» более сложной культуры. Когда рядом сосуществуют два общества, психический вызов более сложного из них воздействует на более простое в форме взрывного выброса энергии. Чтобы получить исчерпывающие данные по этому вопросу, не нужно далеко ходить. Достаточно взглянуть на повседневную жизнь тинэйджера, живущего в пучине сложного городского центра. Как варвара контакт с цивилизацией привел в неистовую подвижность, разразившуюся в массовую миграцию, так и тинэйджер, вынужденный участвовать в жизни города, неспособного принять его в качестве взрослого, впадает в «беспричинный бунт». Прежде подростку давалась надежда на будущее. Он был подготовлен к тому, чтобы ждать своего шанса. Но с тех пор, как появилось телевидение, порыв к участию положил конец отрочеству, и в каждом американском доме выросла своя Берлинская стена.
Тойнби щедро снабжает нас примерами самых разных форм вызова и коллапса и особенно склонен указывать на частое и тщетное бегство в футуризм или архаизм как стратегии встречи с радикальным изменением. Указывать на былые дни конских экипажей или грядущее пришествие антигравитационных средств передвижения не есть адекватная реакция на вызов, брошенный автомобилем. Между тем, этими двумя стандартными способами заглядывания назад и вперед привычным образом пользуются, чтобы избежать прерывностей настоящего опыта с их требованием восприимчивого ознакомления и оценивания. Видимо, только увлеченный своим делом художник способен к встрече с актуальностью настоящего.
Тойнби снова и снова настаивает на культурной стратегии подражания примеру великих людей. Это, разумеется, означает отдание культурной безопасности во власть воли вместо отдания ее во власть адекватного восприятия ситуаций. Каждый мог бы съязвить, что здесь дает о себе знать британская вера в характер, сопровождаемая недоверием к интеллекту. Принимая во внимание безграничную способность людей гипнотизировать самих себя в присутствии вызова вплоть до полного его неосознания, можно утверждать, что сила воли столь же полезна для выживания, сколь и интеллект. Сегодня, чтобы быть вполне осведомленными и сознательными, мы нуждаемся также и в воле.
Арнольд Тойнби приводит в качестве примера эффективную встречу технологии и творческую постановку ее под контроль в эпоху Возрождения, показывая, как возрождение децентрализованного средневекового парламента спасло английское общество от опутавшей континент монополии централизма. В книге «Город в истории» Льюис Мэмфорд рассказывает странную историю о том, как одному небольшому городку в Новой Англии удалось воплотить образец средневекового идеального города, отказавшись от стен и смешав город с сельской местностью. Когда технология эпохи могущественно подталкивает в одном направлении, мудрость вполне может потребовать уравновешивающего подталкивания в другом. В наш век интегрирующее давление электрической энергии уже нельзя встретить разбрасыванием или экспансией; она может быть встречена лишь децентрализацией и подвижностью многочисленных маленьких центров. Например, наплыв студентов в наши университеты – это не взрыв, а имплозия. И стратегией, в которой мы остро нуждаемся для того, чтобы справиться с этой силой, является не укрупнение университета, а создание многочисленных групп автономных колледжей взамен централизованного университетского комплекса, сложившегося у нас по образцу европейского государственного аппарата и индустрии девятнадцатого века.
Таким же образом и ярко выраженные осязательные воздействия телевизионного образа не могут быть встречены простыми изменениями в содержании телевизионных программ. Творческая стратегия, основанная на правильно поставленном диагнозе, предписала бы глубинный или структурный подход к существующему письменному и визуальному миру. Если мы так и будем упрямо придерживаться общепринятого подхода к этим процессам развития, то наша традиционная культура будет сметена с лица земли, подобно тому, как это произошло в шестнадцатом веке со схоластикой. Если бы схоласты с их сложной устной культурой поняли Гутенбергову технологию, они могли бы создать новый синтез письменного и устного образования вместо того, чтобы сойти со сцены истории и позволить захватить всю сферу образования простой визуальной странице. Устные схоласты не справились с новым визуальным вызовом печати, и разразившаяся в итоге экспансия (или взрывное распространение) Гутенберговой технологии обернулась во многих отношениях облучшением[134]134
В оригинале неологизм improverishment, образованный из соединения слов improvement (улучшение, усовершенствование) и impoverishment (обеднение).
[Закрыть] культуры; так объясняют теперь произошедшее такие историки, как Мэмфорд. Арнольд Тойнби, рассматривая в «Постижении истории» «природу роста цивилизаций», не только отбрасывает понятие укрупнения как критерий реального роста общества, но и говорит: «Географическая экспансия чаще всего бывает спутницей фактического упадка и совпадает с „эпохой проблем“ или эпохой универсального государства – обе представляют собой стадии упадка и дезинтеграции».
Тойнби выдвигает принцип, согласно которому эпохи проблем, или быстрого изменения, рождают милитаризм, а именно милитаризм производит империю и экспансию. Старый греческий миф, учивший, что милитаризм был. создан алфавитом («Царь Кадм посеял зубы дракона, и из них проросли вооруженные воины»), идет на самом деле гораздо глубже, чем история, рассказанная Тойнби. Понятие «милитаризм» представляет в действительности лишь невразумительное описание и вообще не содержит анализа причинности. Милитаризм – это тип визуальной организации социальных энергий, обладающий специалистским и взрывным характером, а потому было бы просто многословием говорить, как Тойнби, что он создает крупные империи и вызывает социальный упадок. Вместе с тем, милитаризм – это форма индустриализма, или концентрации больших запасов гомогенизированных энергий в немногочисленных видах продукции. Римский воин был человеком с сошником. Это был умелый работник и строитель, который перерабатывал и упаковывал ресурсы многих обществ и отправлял их домой. До появления машинного оборудования единственной массовой рабочей силой, которая могла быть задействована в переработке сырья, были солдаты и рабы. Как указывает греческий миф о Кадме, фонетический алфавит был величайшим механизмом переработки людей для гомогенизированной военной жизни, известным античности. Эпоха греческого общества, которая, по признанию Геродота, была «переполнена большим количеством проблем, чем в двадцати предыдущих поколениях вместе взятых», была временем, которое нашему письменному ретроспективному взгляду кажется одной из величайших эпох в истории человечества. Но, как заметил Маколей,[135]135
Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (1800–1859) – английский историк, публицист и государственный деятель. Главное сочинение: 5-томная «История Англии от воцарения короля Якова II» (1848–1861).
[Закрыть] неприятно жить в те времена, о которых мы с таким упоением читаем. Последовавшая далее эпоха Александра Македонского увидела экспансию эллинизма в Азию и проторение путей для дальнейшей римской экспансии. Между тем, это были те самые столетия, когда греческая цивилизация стала очевидным образом рассыпаться на части.
Тойнби указывает на странную фальсификацию истории археологией, ведь сохранение многочисленных материальных объектов прошлого не является показателем качества обыденной жизни и опыта той или иной эпохи. На протяжении всего периода эллинского и римского упадка постоянно возникают технические усовершенствования в военном оснащении. Тойнби доказывает свою гипотезу на примере развития греческого земледелия. Когда предприимчивость Солона отучила греков от смешанного сельского хозяйства и переориентировала на программу специализированного производства продуктов для экспорта, это привело к счастливым последствиям и славному всплеску энергии в греческой жизни. Когда следующая фаза развития того же специалистского акцента привела в действие преимущественную опору на рабский труд, произошел заметный рост производства. Однако армии технологически специализированных рабов, обрабатывавших землю, отравили социальное существование независимым землевладельцам и скромным крестьянам и породили странный мир римских городов, переполненных оторвавшимися от корней паразитами.
Специализм механизированной промышленности и рыночной организации в гораздо большей степени, чем римское рабство, поставил западного человека перед вызовом моно-фракционного[136]136
По-английски mono-fracture, что почти созвучно идущему следом слову manufacture. Непереводимая игра слов.
[Закрыть] мануфактурного производства, или энергичного схватывания всех вещей и операций «по одной за раз». Этот вызов сказался на всех сторонах нашей жизни и позволил нам совершить триумфальную экспансию во всех направлениях и во всех областях.
ЧАСТЬ II
ГЛАВА 8. УСТНОЕ СЛОВО
ЦВЕТОК ЗЛА?[137]137
Аллюзия к названию стихотворного сборника Ш. Бодлера «Цветы зла».
[Закрыть]
Вот как выглядят в напечатанном виде несколько секунд звучания популярного музыкального шоу:
«Это была Патти Бэйби, девушка ножки которой танцуют сами собой, а вот и Фредди Кэннон явился вечерком на шоу Дэвида Микки оба-на шуба-дуба ну и как вам все это нравится ууу! Следующим номером у нас „Качаясь на звезде“, уууууух, скользим в лучах лунного света. Уаааааа ну и как вам… один из лучших парней с вами сейчас… всеобщий любимец очаровашка вечером в дециметровом диапазоне! сейчас на часах 22 минуты десятого, алллл-райт! у нас продолжается хит-парад, все, что вам нужно, это позвонить по телефону 5-11-51, повторяю еще, 5-11-51, где можно назвать номер, который вы бы хотели услышать в нашем хит-параде».
Дейв Микки попеременно воспаряет ввысь, стонет, раскачивается, поет, солирует, говорит речитативом и носится туда-сюда, все время реагируя на собственные действия. Он движется целиком и полностью в устной, а не письменной сфере опыта. Именно так создается участие аудитории. Устное слово драматически захватывает все человеческие чувства, тогда как высокограмотные письменные люди склонны говорить как можно более связно и буднично. Чувственное вовлечение, естественное для культур, в которых письменность не является преобладающей формой опыта, проскальзывает иногда в туристических путеводителях, например, в следующем отрывке из путеводителя по Греции:
«Вы заметите, что многие греки проводят, по-видимому, массу времени, перебирая бусинки, связанные в своего рода янтарные четки. Никакого религиозного значения им не придается. Это комболойа, или «четки для нервных», доставшиеся в наследство от турок; греки пощелкивают ими, находясь на земле, в небесах и на море, дабы отогнать невыносимое молчание, опасность воцарения которого нависает над ними всякий раз, как только возникает заминка в беседе. Это делают пастухи и полицейские, этим занимаются портовые грузчики и торговцы в своих магазинах. И если вы проявите любопытство и поинтересуетесь, почему лишь очень немногие из гречанок носят бусы, то узнаете, что это оттого, что их мужья присвоили их себе ради простого удовольствия пощелкивания. Будучи более эстетичной, чем обычное валяние дурака, и не столь дорогостоящей, как курение, эта навязчивая привычка говорит о тактильной чувствительности, характерной для народа, создавшего величайшую в западном мире скульптуру…»
Там, где в культуре отсутствует тяжелый визуальный стресс, создаваемый письменностью, проявляется иная форма чувственного вовлечения и культурного оценивания, и в нашем путеводителе по Греции ей дается причудливое объяснение:
«…не удивляйтесь тому, как часто в Греции вас поглаживают, обнимают и ощупывают. В конце концов, вы можете почувствовать себя домашней собакой… в любящей семье. Это пристрастие к поглаживанию кажется нам тактильным продолжением уже упомянутой ранее ненасытной греческой любознательности. Ваши хозяева словно пытаются выяснить, из чего же вы сделаны».
Крайне отличающиеся друг от друга свойства устной и письменной речи легко изучать сегодня там, где мы оказываемся в максимально тесном соприкосновении с бесписьменными обществами. Один туземец, единственный грамотный человек в своей группе, рассказывал, что выступает для других в роли читателя, когда те получают письма. Он говорил, что чувствует настойчивое побуждение заткнуть пальцами свои уши, когда читает вслух, дабы не нарушать приватную атмосферу этих писем. Это интересное свидетельство о ценностях приватности, взращиваемых визуальным стрессом фонетического письма. Без влияния фонетического письма такое разведение чувств и отделение индивида от группы вряд ли возможны. Устное слово не дает того расширения и разрастания визуальной способности, которое необходимо для формирования привычек индивидуализма и приватности.
Это помогает оценить природу устного слова, в противоположность слову письменному. Хотя фонетическое письмо обособляет и расширяет визуальную власть слов, его отличают относительное несовершенство и медлительность. В то время как способов написания слова «ночью» крайне мало, Станиславский обычно обращался к своим молодым актерам с просьбой произнести и проинтонировать его пятьюдесятью разными способами, а аудитория записывала различные выражаемые таким образом оттенки чувства и смысла. Многие страницы прозаической и повествовательной литературы были посвящены попыткам выразить то, что должно было предстать в итоге как всхлипывание, стон, смех или пронзительный крик. Письменное слово последовательно выговаривает вовне то, что в устном слове выражается быстро и имплицитно.
Кроме того, в речи мы склонны реагировать на каждую возникающую ситуацию, отзываясь тоном и жестом даже на собственный акт говорения. Письмо же стремится быть своего рода обособленным, или специалистским действием, в котором содержится мало возможностей или призывов для реагирования. Грамотный человек и письменное общество[138]138
В английском языке слова «грамотный» и «письменный» передаются одним словом, literate. В связи с этим можно упомянуть о былой синонимичности слов «грамота» и «письмо» (например, «китайская грамота»); в современном русском языке эти слова претерпели некоторое семантическое расхождение.
[Закрыть] развивают в себе ужасающую способность вести себя во всех делах с поразительной отстраненностью от тех чувств и того эмоционального вовлечения, которые непременно испытывали бы неграмотный человек и бесписьменное общество.
Французский философ Анри Бергсон жил и писал в той традиции мышления, в которой считалось и считается до сих пор, что язык – это человеческая технология, ослабившая и подточившая ценности коллективного бессознательного. Именно расширение человека в речь позволяет интеллекту отстраниться от несоизмеримо более широкой реальности. Без языка, полагает Бергсон, человеческий интеллект остался бы целиком и полностью вовлечен в объекты своего внимания. Язык делает для интеллекта то же, что для ступней и тела колесо. Оно позволяет им перемещаться от предмета к предмету с большей легкостью и скоростью, но со все меньшей и меньшей вовлеченностью. Язык расширяет и усложняет человека, но вместе с тем и разделяет его способности. Коллективное сознание, или интуиция человека сужается под воздействием этого технического расширения сознания, коим является речь.
Бергсон утверждает в «Творческой эволюции»,[139]139
Бергсон А. Творческая эволюция. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1997.
[Закрыть] что даже сознание – это расширение человека, окутывающее пеленой тумана блаженство единения в коллективном бессознательном. Своим воздействием речь отделяет человека от человека, а человечество от космического бессознательного. Как расширение, или выговаривание (вынесение вовне) всех наших чувств сразу, язык всегда считался богатейшей из свойственных человеку форм искусства – той самой формой, которая отличает человека от животного.
Если человеческое ухо можно сопоставить с радиоприемником, способным расшифровывать электромагнитные волны и перешифровывать их в звук, то человеческий голос можно сравнить с радиопередатчиком, способным переводить звук в электромагнитные волны. Способности голоса переводить воздух и пространство в вербальные формы вполне могла предшествовать менее специализированная экспрессия, заключенная в криках, кряхтениях, жестах и повелениях песни и танца. Конфигурации чувств, находящие свое продолжение в различных человеческих языках, столь же многообразны, как стили одежды и искусства. Каждый материнский язык учит своих пользователей совершенно уникальному способу видеть мир, чувствовать его и действовать в этом мире.
Наша новая электрическая технология, расширяющая наши чувства и нервы до глобальных масштабов, будет иметь огромные последствия для языка. Электрическая технология нуждается в словах не больше, чем цифровая вычислительная машина в числах. Электричество прокладывает путь к расширению в мировом масштабе самого процесса сознания, причем без всякой его вербализации. Возможно, такое состояние коллективного сознания было довербальным состоянием человека. Язык как технология расширения человека вовне, чью власть разделять и отделять мы очень хорошо знаем, возможно, и был той самой «Вавилонской башней», с помощью которой люди пытались добраться до высших небесных сфер. Сегодня компьютеры обещают дать нам средства мгновенного перевода любого кода или языка в любой другой код или язык. Короче говоря, компьютер обещает нам достичь с помощью технологии того состояния всеобщего понимания и единения, которое восторжествовало на Пятидесятницу.[140]140
Согласно «Деяниям святых апостолов» (2, 1-8), в день Пятидесятницы произошло сошествие Святого Духа: «При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося ветра… И явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать… Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились».
[Закрыть] Следующим логическим шагом должен был, видимо, стать уже не перевод, а отход от языков к общему космического сознанию, во многом похожему, быть может, на то коллективное бессознательное, о котором мечтал Бергсон. Можно провести параллель между состоянием «невесомости», сулящим нам, по уверениям биологов, физическое бессмертие, и состоянием безмолвия, которое могло бы даровать нам вечную коллективную гармонию и мир.
ГЛАВА 9. ПИСЬМЕННОЕ СЛОВО
ОКО ЗА УХО[141]141
Перефразированное ветхозаветное правило «око за око», данное Богом Моисею (Ис. 21, 24; Лев. 24, 20; Мат. 5, 38). У Маклюэна это выражение лишено кровожадного смысла и означает всего лишь замену уха (слухового восприятия) глазом (зрительным восприятием), прежде всего вытеснение устного слова письменным.
[Закрыть]
Принц Модупе писал о том, как впервые столкнулся с письменным словом в дни своего пребывания в Западной Африке:[142]142
Modupe I was a Savage L Museum Press, 1958
[Закрыть]
«Одним из загроможденных мест в доме отца Перри были книжные полки. Постепенно я начал понимать, что значки на страницах – это пойманные в капканы слова. Каждый мог научиться расшифровывать эти символы и, освобождая пойманные слова из капканов, снова превращать их в речь. Типографские чернила залавливали мысли в ловушки; теперь те могли вырваться на свободу не более, чем думбу из западни. Когда на меня нахлынуло полное осознание того, что это означает, я пережил такое же волнение и изумление, как тогда, когда моему взору впервые предстали яркие огни Конакри. Я содрогнулся от непреодолимого желания самому научиться делать эти дивные вещи».
В разительном контрасте со страстной решимостью этого туземца находятся сегодняшние тревоги цивилизованного человека, связанные с письменным словом. Для некоторых жителей Запада письменное или печатное слово стало вещью очень осязаемой. И в самом деле, сегодня пишут, печатают и читают гораздо больше, чем когда-либо раньше. Но вместе с тем существует и новая электрическая технология, несущая угрозу этой древней технологии письменности, построенной на фонетическом алфавите. Оказывая содействие расширению нашей центральной нервной системы, электрическая технология, по-видимому, отдает предпочтение инклюзивному и участному устному слову в противовес специалистскому письменному. Наши западные ценности, строящиеся на письменном слове, уже подверглись ощутимому воздействию со стороны таких электрических средств коммуникации, как телефон, радио и телевидение. Наверное, именно поэтому многим высокообразованным людям в наше время оказывается довольно трудно анализировать этот вопрос, не впадая в моральную панику. Впридачу к тому есть еще одно обстоятельство, состоящее в том, что за всю более чем двухтысячелетнюю историю существования своей письменности западный человек так и не потрудился как следует изучить или понять роль фонетического алфавита в сотворении многих основополагающих образцов своей культуры. А потому может показаться, что теперь уже слишком поздно приступать к изучению этого вопроса.
Представьте себе, что вместо того, чтобы вывешивать звездно-полосатый флаг, нам приходилось бы писать слова «американский флаг» поперек куска ткани и вывешивать его. Хотя эти символы передавали бы одно и то же значение, производимый ими эффект был бы совершенно разным. Перевести богатую визуальную мозаику звездно-полосатого флага в письменную форму значило бы лишить его большинства качеств целостного образа и корпоративного опыта, хотя абстрактная буквальная привязка оставалась бы при этом во многом той же. Возможно, эта иллюстрация поможет нам наглядно представить, какого рода изменение переживает племенной человек, овладевая письменной грамотой. Из его взаимоотношений с социальной группой почти полностью изымается эмоциональное и корпоративное семейное чувство. Он обретает эмоциональную свободу, позволяющую ему обособиться от племени и стать цивилизованным индивидом, человеком визуальной организации, обладающим единообразными установками, привычками и правами наряду со всеми другими цивилизованными индивидами.
Греческий миф об алфавите гласил, что Кадм – царь, которому будто бы принадлежала заслуга введения в Греции фонетического алфавита, – посеял зубы дракона, и когда они взошли, из них вышли вооруженные воины. Как и любой другой, этот миф емко резюмирует продолжительный процесс в мгновенной вспышке озарения. Алфавит означал власть, авторитет и контроль военных структур, способных действовать на расстоянии. Сочетавшись браком с папирусом, алфавит возвестил о конце стационарных храмовых бюрократий и жреческих монополий на знание и власть. В отличие от доалфавитного письма, которым, со всеми его бесчисленными знаками, трудно было овладеть, алфавит можно было освоить за считанные часы. Приобретение столь экстенсивного знания и столь сложного умения, какие представляло доалфавитное письмо – применяемое к тому же к таким тяжеловесным материалам, как глина и камень, – гарантировало касте писцов монополию на жреческую власть. Более легкий для освоения алфавит и легкий, дешевый, транспортабельный папирус сообща привели к переходу власти от жреческого класса к военному. Все это предполагается в мифе о Кадме и зубах дракона, включая упадок городов-государств и рост империй и военных бюрократий.
С точки зрения расширений человека, в мифе о Кадме крайне важна тема драконьих зубов. Элиас Канетти в книге «Масса и власть» напоминает нам, что у человека и в особенности у многих животных зубы являются очевидным инструментом власти.[143]143
См.: Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С. 225–227.
[Закрыть] Разные языки богаты свидетельствами силы и меткости зубов в схватывании и пожирании. А потому естественно и уместно, что власть букв как агентов агрессивного порядка и меткости была выражена как расширение зубов дракона. Зубы в своем линейном порядке подчеркнуто визуальны. Буквы не только зрительно похожи на зубы, но и их способность вовлекать зубы в дело строительства империи отчетливо видна в нашей западной истории.
Фонетический алфавит – технология уникальная. Существовало много типов письма, пиктографического и силлабического, но только в фонетическом алфавите семантически бессмысленные буквы используются для передачи семантически бессмысленных звуков. Это полнейшее разделение и разведение зрительного и слухового мира было, с точки зрения культуры, жестоким и безжалостным. Фонетически записанное слово приносит в жертву миры смысла и восприятия, оберегаемые такими формами, как иероглиф и китайская идеограмма. Эти культурно более богатые формы письма не предлагали, однако, человеку никаких средств для внезапного перехода из магически прерывного и традиционного мира племенного слова в холодный и единообразный мир визуального средства коммуникации. Многовековое применение идеограммы не ставило под угрозу цельносплетенную паутину семейных и племенных тонкостей китайского общества. С другой стороны, в сегодняшней Африке – как две тысячи лет тому назад для галлов, – одного поколения обученных алфавитной грамоте достаточно, чтобы по крайней мере инициировать высвобождение индивида из племенной паутины. И этот факт никак не связан с содержанием алфабетизированных слов; он есть результат внезапного разрыва между слуховым и визуальным опытом человека. Только фонетический алфавит производит такой резкий раскол в опыте, даруя своему пользователю око вместо уха и высвобождая его из племенного транса резонирующей словесной магии и паутины родственных отношений.
Следовательно, можно утверждать, что фонетический алфавит (и уже он один) является технологией, ставшей средством создания «цивилизованного человека», то есть обособленных друг от друга индивидов, равных перед письменным правовым кодексом. Обособленность индивида, непрерывность пространства и времени и единообразие кодов – вот главные признаки письменных и цивилизованных обществ. Племенные культуры вроде индийской или китайской могут быть несравненно выше западных культур в плане широты и утонченности восприятий и способов самовыражения. Однако нас интересуют здесь не ценностные вопросы, а конфигурации обществ. Племенные культуры не могут допустить даже возможности существования индивидуального, или обособленного, гражданина. Пространство и время в их представлении не являются непрерывными и однородными, а могут растягиваться и уплотняться в своей интенсивности. Именно в способности алфавита переносить на всё, что есть вокруг, образцы визуального единообразия и непрерывности ощущается культурами то «сообщение», которое он им передает.
Будучи интенсификацией и расширением зрительной функции, фонетический алфавит уменьшает в любой письменной культуре роль других чувств: слуха, осязания и вкуса. То, что этого не происходит в таких, например, культурах, как китайская, где применяется нефонетические письмо, позволяет этим культурам сохранять в глубинах своего опыта тот богатый запас образного восприятия, который в цивилизованных культурах, пользующихся фонетическим алфавитом, обычно подвержен эрозии. Ибо идеограмма – это емкий гештальт, в отличие от аналитической диссоциации чувств и функций, каковой является фонетическое письмо.
Достижения западного мира – и это очевидно – свидетельствуют о колоссальной ценности письменности. Но в то же время многие склонны возражать, что наша структура специалистской технологии и специалистских ценностей обошлась нам слишком дорого. Линейное структурирование рациональной жизни фонетической письменностью, безусловно, вовлекло нас в некий взаимосвязанный набор согласованностей, достаточно поразительный, чтобы сделать оправданным гораздо более широкое его исследование, нежели предпринятое в этой главе. Возможно, есть лучшие подходы, построенные на совершенно других принципах: например, рассматривать сознание как отличительный признак рационального существа. Вместе с тем в любой момент существования сознания целостное поле осознания не содержит в себе ничего линейного или последовательного. Сознание – не вербальный процесс. И все же на протяжении многих столетий существования фонетической письменности мы отдавали предпочтение цепи умозаключения как признаку логики и разума. Китайское письмо, напротив, вкладывает в каждую идеограмму целостную интуицию бытия и разума, что оставляет лишь крайне скромную роль визуальной последовательности как признаку умственного усилия и разумной организации. В письменном обществе Запада до сих пор считается благовидным и приемлемым говорить, что что-то из чего-то «следует», как если бы действовала какая-то причина, создающая такого рода последовательность. Еще в восемнадцатом веке Давид Юм доказал, что ни одна последовательность, природная или логическая, не говорит ни о какой причинности. Последующее просто добавляется к предыдущему, а не причинно им порождается. «Аргумент Юма, – говорил Иммануил Кант, – пробудил меня от догматического сна». Ни Юм, ни Кант, однако, не выявили скрытой причины нашего западного пристрастия к последовательности как «логике», а искать ее следует во всепроникающей технологии алфавита. Сегодня, в электрическую эпоху, мы чувствуем себя столь же свободными изобретать нелинейные логики, как мы уже изобретаем неевклидовы геометрии. Даже конвейерная линия как метод аналитической последовательности, предназначенный для механизации всякого рода изготовления и производства, отступает в наши дни под натиском новых форм.