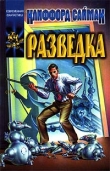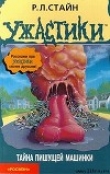Текст книги "Понимание медиа: Внешние расширения человека"
Автор книги: Маршалл Мак-Люэн
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
ГЛАВА 28. ФОНОГРАФ
ИГРУШКА, КОТОРАЯ УЖАЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ ГРУДНУЮ КЛЕТКУ
Фонограф, обязанный своим рождением электрическому телеграфу и телефону, не проявлял своей электрической формы и функции до тех пор, пока магнитофон не освободил его от механических нарядов. То, что мир звука является в сущности единым полем мгновенных взаимосвязей, придает ему близкое сходство с миром электромагнитных волн. И этот факт быстро связал фонограф с радио.
Насколько превратно поначалу воспринимался фонограф, видно из замечания, сделанного дирижером духового оркестра и композитором Джоном Филипом Соусой.[368]368
Соуса (Sousa) Джон Филип (1854–1932) – американский капельмейстер и композитор, сочинитель военных маршей. Сочинил около 140 военных маршей, отличающихся своими ритмическими и инструментальными эффектами, в том числе таких, как «Звезды и полосы навсегда» (1896), «Semper Fidelis» (1888), «Вашингтонский пост» (1889), «Колокол свободы» (1893). Также писал оперетты, из которых наибольший успех имела в свое время оперетта «Эль-Капитан» (1896).
[Закрыть] Он рассуждал: «С фонографом вокальные упражнения выйдут из моды! Что будет тогда с национальным горлом? Не захиреет ли оно? А что будет с национальной грудной клеткой? Не ужмется ли она?»
Один факт Соуса очень точно подметил: фонограф – это расширение и усложнение голоса, вполне способное сократить индивидуальную вокальную деятельность подобно тому, как автомобиль редуцировал деятельность пешеходную.
Как и радио, которому он все еще поставляет программное наполнение, фонограф является горячим средством коммуникации. Без него двадцатый век как эпоха танго, регтайма и джаза имел бы иной ритм. Вместе с тем, фонограф был предметом многих недоразумений, что демонстрируется и одним из ранних его названий – «граммофон». Его воспринимали как форму звукового письма {грамма – буквы). Также его называли «графофоном»; игла выполняла роль ручки. Особенно популярно было представление о нем как о «говорящей машине». Эдисон[369]369
Эдисон (Edison) Томас Алва (1847–1931) – американский изобретатель в области электротехники и предприниматель. В 1869–1876 гг. разработал ряд приборов, в том числе прибор для передачи на расстоянии информации (биржевых курсов), усовершенствовал пишущую машинку. В 1877 г. изобрел фонограф. По проекту Эдисона в Нью-Йорке была построена первая в мире электростанция постоянного тока общего пользования. В 1887 г. возглавил созданный им собственный изобретательский центр.
[Закрыть] запоздал со своим подходом к решению его проблем, рассматривая его поначалу как «повторитель телефона», то есть как хранилище данных с телефона, позволяющее телефону «предоставлять бесценные записи вместо того, чтобы быть приемником сиюминутного и скоротечного общения». Эти слова Эдисона, опубликованные в июне 1878 года в «Норт Американ Ревью», показывают, насколько недавнее еще тогда изобретение телефона уже обладало способностью окрашивать мышление в других областях. Так, в проигрывателе следовало видеть своего рода фонетическую запись телефонного разговора. Отсюда такие названия, как «фонограф» и «граммофон».
За фактом немедленного обретения фонографом популярности стоял всеобщий электрический взрыв вовнутрь, придавший аналогичный новый акцент и значимость актуальным речевым ритмам в музыке, поэзии и танце. И все-таки фонограф был не более чем машиной. Поначалу электромотор и электрическая цепь в нем не использовались. Однако, обеспечив механическое расширение человеческого голоса и новых мелодий регтайма, фонограф оказался вытолкнут в центр некоторыми главными течениями эпохи. Сам факт принятия нового выражения, речевой формы или танцевального ритма уже есть прямое свидетельство некоторого реального изменения, с которым они значимым образом связаны. Взять, например, сдвиг английского языка в вопросительное настроение, произошедший после появления фразы «А как насчет того?» Ничто не могло бы заставить людей вдруг начать снова и снова употреблять такое выражение, если бы не было какого-нибудь нового акцента, ритма или нюанса в тех межличностных отношениях, которые сделали его уместным.
Именно работая с записью на бумажной ленте, сделанной с помощью точек и тире азбуки Морзе, Эдисон заметил, что звук, издаваемый ею при проигрывании на высокой скорости, напоминает «едва различимый человеческий разговор». Тогда его осенило, что с помощью нанесения зазубрин на ленту можно записывать телефонное сообщение. Стоило Эдисону войти в электрическое поле, как он сразу осознал ограниченность линейности и бесплодие специализма. «Взгляните, – говорил он, – это выглядит примерно так. Я отправляюсь отсюда с намерением прийти сюда в ходе эксперимента, скажем, по увеличению проводимости атлантического кабеля; но когда я прошел часть пути по своей прямой линии, я встречаюсь с неким феноменом, и он выводит меня в ином направлении. В итоге появляется фонограф». Ничто не могло бы драматичнее выразить поворот от механического взрыва к электрическому сжатию. Сама карьера Эдисона была воплощением этого изменения в нашем мире, и он часто застывал в растерянности между этими двумя формами процесса.
В самом конце девятнадцатого века психолог Липпс[370]370
Липпс (Lipps) Теодор (1851–1914) – немецкий философ, психолог, эстетик. Сыграл важную роль в систематизации немецкой психологии конца XIX в. В последние годы жизни разрабатывал психологию искусства, в основу которой было положено понятие «вчувствования».
[Закрыть] с помощью своего рода электрического аудиографа обнаружил, что единственный удар колокола представляет собой емкое вместилище всех возможных симфоний. Примерно таким же путем шел к решению своих задач Эдисон. Практический опыт научил его, что все проблемы уже содержат в зародыше все ответы, надо лишь найти средство сделать их эксплицитными. В его случае все обернулось так, что его решимость дать фонографу, как и телефону, прямое практическое применение в бизнесе привела к тому, что он не обратил внимания на этот инструмент как средство развлечения. Неумение разглядеть в фонографе будущее средство развлечения было на самом деле непониманием смысла электрической революции в целом. В наше время мы уже свыклись с фонографом как игрушкой и утешением; но такое же измерение развлечения приобрели пресса, радио и телевидение. Вместе с тем, доведенное до крайности развлечение становится основной формой бизнеса и политики. Электрические средства в силу своего тотального «полевого» характера склонны упразднять фрагментарные специализации форм и функций, которые мы долгое время принимали как наследие алфавита, печати и механизации. Короткая и сжатая история фонографа включает в себя все фазы письменного, печатного и механизированного слова. Лишь несколько лет тому назад пришествие электрического магнитофона избавило фонограф от его временного втягивания в механическую культуру. Магнитная лента и долгоиграющая пластинка внезапно сделали фонограф средством доступа ко всей музыке и речи мира.
Прежде чем перейти к революции, совершенной магнитофонной записью и долгоиграющей пластинкой, нам следует отметить, что ранний период механической записи и воспроизведения звука заключал в себе один крупный фактор, роднящий их с немым кино. Ранний фонограф производил живой и резко очерченный опыт, имевший немало общего с теми переживаниями, которые рождало кино Мака Сеннетта.[371]371
Сеннетт (Sennett) Мак (наст. имя и фамилия – Майкл Синнотт, 1880–1960) – американский режиссер и актер. С 1902 г. работал комедийным актером, певцом, танцором в театрах Нью-Йорка. С 1908 г. киноактер; с 1910 – режиссер. В 1912 г. основал собственную киностудию «Кистон», на которой впервые снимались Ч. Чаплин, М. Норман, Г. Ллойд и другие блестящие актеры. С 1916 г. выступал главным образом продюсером. Сеинетта по праву считают основоположником американской кинокомедии, основанной на нагромождении абсурдных ситуаций и остроумных трюков; одним из первых образцов этого жанра стала снятая на студии Сеннетта серия короткометражных фильмов «Кистонские полицейские».
[Закрыть] Однако подспудное течение механической музыки странным образом печально. Именно гению Чарли Чаплина удалось обуздать в кинофильме это удручающее качество глубокой печали и нагрузить его оживленной яркостью и динамичностью. Поэты, художники и музыканты конца девятнадцатого века дружно настаивают на своего рода метафизической меланхолии, скрыто присутствующей в крупном индустриальном мире большого города. Фигура Пьеро занимает такое же ключевое место в поэзии Лафорга,[372]372
Лафорг (Laforgue) Жюль (1860–1887) – французский поэт. За свою недолгую жизнь написал несколько сборников стихов: «Жалобы» (1885), «Подражание государыне нашей Луне» (1885), «Последние стихи» (1891).
[Закрыть] как и в живописи Пикассо или музыке Сати.[373]373
Сати (Satie) Эрик Альфред Лесли (1866–1925) – французский композитор. В начале века сочинил несколько сборников пьес для фортепиано («3 пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре», «Спорт и развлечения» и др.). В 1916 г. написал первое произведение для театра – балет «Парад». Лучшим его сочинением признана симфоническая драма с голосом «Сократ» (1918) на текст одноименного диалога Платона.
[Закрыть] Не является ли механическое, в лучшем случае, лишь примечательным приближением к органическому? И разве не способна великая индустриальная цивилизация производить все в изобилии для каждого? Ответ: да. Но Чаплин и воспевавшие Пьеро поэты, художники и музыканты довели эту логику до конца и пришли к образу Сирано де Бержерака – человека, больше всех любившего, но никогда не находившего ответной любви. Таинственный образ Сирано – любящего человека, которого не любили, да и не могли любить, – был пойман в фонографическом культе блюза.[374]374
Blues в английском языке означает как «блюз», так и «печаль».
[Закрыть] Попытки обнаружить истоки блюза в негритянской народной музыке, возможно, ведут в неправильном направлении. Между тем, английский дирижер и композитор Констант Ламберт[375]375
Ламберт (Lambert) Констант (1905–1951) – английский композитор, дирижер и музыкальный критик; сыграл ключевую роль в становлении английского балета. Основные музыкальные произведения: балет «Гороскоп» (впервые поставлен в 1938 г.), песенный цикл «Восемь китайских песен» (1926). Его критическая работа «Музыка, эй! Исследование музыки в период упадка» (1934) – блестящее исследование музыки ХХ в.
[Закрыть] в книге «Музыка, эй!»[376]376
Lambert С. Music Но! A Study of Music in Decline. L.: Faber and Faber, Ltd., 1934.
[Закрыть] описывает блюз как предшественник джаза периода после первой мировой войны. Он приходит к выводу, что великий расцвет джаза в двадцатые годы был массовой реакцией на заумное богатство и оркестровую утонченность периода Дебюсси[377]377
Дебюсси (Debussy) Клод Ашиль (1862–1918) – французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.
[Закрыть] и Делиуса.[378]378
Делиус (Дилиус, Delius) Фредерик (1862–1934) – английский композитор. Его ранние оркестровые пьесы («Флорида», 1886–1887; «Над холмами и далеко-далеко», 1895; и др.) и многие поздние экспрессионистские сочинения («Летний вечер у реки», 1911; «Весной услышав первый крик кукушки», 1913) являют собой мелодически богатые и гармонически сложные лирические пьесы. Также он писал камерную музыку, хоровые сочинения, песни и оперы. Наиболее известна его опера «Сельские Ромео и Джульетта» (1900–1901).
[Закрыть] Казалось, джаз должен был стать эффективным мостиком между высокоинтеллектуальной и невзыскательной музыкой, примерно таким же, какой проложил Чаплин в киноискусстве. Письменные люди с энтузиазмом приняли эти мосты; Джойс ввел Чаплина в свой «Улисс» в образе Блума, а Элиот точно так же встроил джаз в ритмы своей ранней поэзии.
Клоун-Сирано в исполнении Чаплина в такой же мере является частью глубокой меланхолии, как и навеянное образом Пьеро искусство Лафорга и Сати. Не заложено ли все это в самом триумфе механики и в изъятии из нее человека? Могло ли вообще механическое подняться выше уровня говорящей машины, подражающей голосу и танцу? Не схватывается ли в известных строках Т. С. Элиота о машинистке джазовой эпохи весь пафос века Чаплина и регтаймового блюза?
Когда девица во грехе падет
И в комнату свою одна вернется —
Рукою по прическе проведет
И модною пластинкою займется.[379]379
Фрагмент поэмы «Бесплодная земля». Приводится в пер. С. Степанова по изданию: Элиот Т. С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 125. Для лучшего прояснения мысли Маклюэна уместно будет привести буквальный перевод последних двух строк: «Она приглаживает свои волосы автоматической рукой и ставит пластинку на граммофон».
[Закрыть]
Если толковать элиотовского «Пруфрока» как комедию в духе Чаплина, сразу становится ясен его смысл. Пруфрок – это законченный Пьеро, маленькая кукла-марионетка механической цивилизации, стоящей на пороге скачка в свою электрическую фазу.
Трудно переоценить значимость таких сложных механических форм, как кинофильм и фонограф, как прелюдии к автоматизации человеческого пения и танца. Как приблизилась к совершенству эта автоматизация человеческого голоса и жеста, так приблизилась к автоматизации человеческая рабочая сила. Ныне, в электрическую эпоху, сборочная линия с ее людскими руками исчезает, а электрическая автоматизация ведет к устранению из промышленности рабочей силы. Вместо того, чтобы автоматизироваться самим – дробить самих себя в своих задачах и функциях, – как это было при механизации, люди в электрическую эпоху все более движутся к одновременному вовлечению в разные виды работ, к труду, заключающемуся в обучении, и к компьютерному программированию.
Эта революционная логика, присущая электрической эпохе, в полной мере проявилась в ранних электрических формах телеграфа и телефона, давших стимул созданию «говорящей машины». Эти новые формы, сделавшие так много для восстановления вокального, слухового и миметического мира, подавленного печатным словом, породили также странные новые ритмы «века джаза» и всевозможные формы синкопы[380]380
Синкопа, или усечение – сокращение слова вследствие выпадения промежуточного гласного (термин фонетики).
[Закрыть] и символистской прерывности, которые, наравне с теорией относительности и квантовой физикой, возвестили о завершении эры Гутенберга с ее ровными, единообразными линиями печатного набора и организации.
Слово «джаз» происходит от французского jaser, «трепаться». Джаз – это, в сущности, форма диалога между музыкантами и танцорами. Таким образом, он, видимо, ознаменовал собой внезапный разрыв с гомогенными и повторяющимися ритмами плавного вальса. В эпоху Наполеона и лорда Байрона, когда вальс был еще новой формой, его приветствовали как варварское осуществление руссоистской мечты о благородном дикаре.[381]381
Как известно, Ж.-Ж. Руссо придерживался точки зрения, что человек по своей природе добр, и усматривал в образе первобытного дикаря идеал естественного человека, не испорченного влиянием цивилизации, которая является, по его мнению, источником всякого зла.
[Закрыть] Сколь бы теперь ни казалась абсурдной эта идея, она на самом деле дает ценнейший ключ к пониманию восходящей механической эпохи. Безличный хоровой танец старого придворного образца был отброшен, когда вальсирующие заключили друг друга в объятья. Вальс точен, механичен и милитаристичен, о чем свидетельствует его история. Чтобы вальс полностью проявил свой смысл, в нем должна присутствовать военная одежда. «Шумело к ночи буйное веселье», – так писал лорд Байрон о вальсе накануне Ватерлоо.[382]382
В строфах 17–45 песни третьей «Паломничества Чайлд Гарольда», которые были написаны Байроном под впечатлением посещения поля битвы при Ватерлоо, описывается вечер 15 июня 1815 г. В этот вечер в Брюсселе с ведома командования союзных войск был дан бал, на котором присутствовала значительная часть офицеров английской и голландской армий; на рассвете 16 июня началась битва при Катр-Бра, ставшая прологом Ватерлоо. Байрон так описывает этот бал, внезапно переходящий в кровопролитное сражение:
«В ночи огнями весь Брюссель сиял,
Красивейшие женщины столицы
И рыцари стеклись на шумный бал.
Сверкают смехом праздничные лица.
В такую ночь все жаждет веселиться,
На всем – как будто свадебный наряд,
Глаза в глазах готовы раствориться,
Смычки блаженство темное сулят.
Но что там? Странный звук! —
Надгробный звон? Набат?
Ты слышал? – Нет! А что? – Гремит карета,
Иль просто ветер ставнями трясет.
Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета,
Настал любви и радости черед.
Они ускорят времени полет…»
Далее слышатся звуки орудий и начинается бой. (Байрон Дж. Г. Избранное / Пер. В. Левика. М.: Правда, 1982. С. 186.)
[Закрыть] Восемнадцатому веку и эпохе Наполеона гражданские армии казались индивидуалистическим избавлением от феодальных рамок придворных иерархий. Отсюда ассоциация вальса с благородным дикарем, означающая не более чем свободу от статуса и иерархического почтения. Все вальсирующие были единообразны и равны, пользуясь правом свободного движения в любой части зала. То, что именно таково было романтическое представление о жизни благородного дикаря, теперь кажется странным, но романтики знали о реальных дикарях так же мало, как и о конвейерных линиях.
В нашем столетии о пришествии джаза и регтайма тоже возвестили как о вторжении примитивного туземца. Ненавистники джаза имели привычку апеллировать к красоте механического и повторяющегося вальса, который некогда был встречен как чисто туземный танец. Если рассматривать джаз как разрыв с механизмом в пользу прерывного, участного, спонтанного и импровизационного, то в нем можно увидеть и возвращение к своего рода устной поэзии, в которой исполнение является одновременно творением и сочинением. Среди джазовых исполнителей считается самоочевидным, что записанный джаз «так же несвеж, как вчерашняя газета». Джаз характеризуется такой же живой непосредственностью, как разговор, и, подобно разговору, зависит от репертуара наличных тем. При этом исполнение является сочинением. Такое исполнение гарантирует максимальное участие как со стороны игроков, так и со стороны танцоров. Если представить дело так, сразу становится очевидно, что джаз принадлежит к тому семейству мозаичных структур, которое вновь появилось в западном мире вместе с телеграфными услугами. Он сродни символизму в поэзии и многочисленным аналогичным формам в живописи и музыке.
Связь фонографа с песней и танцем не менее глубока, чем его ранняя связь с телеграфом и телефоном. Когда в шестнадцатом веке впервые были опубликованы музыкальные партитуры, слова и музыка начали дрейфовать по отдельности. Обособленная виртуозность голоса и инструментов стала основой великих музыкальных достижений восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Тот же тип фрагментации и специализма в искусствах и науках сделал возможными гигантские результаты в промышленности и военном деле, а также в таких массивных кооперативных предприятиях, как газета и симфонический оркестр.
Фонограф как продукт организации и распределения промышленного, конвейерного типа, разумеется, проявлял мало из тех электрических качеств, которые вдохновили Эдисона на его изобретение. Были пророки, которые могли прорицать великий день, когда фонограф поможет медицине, дав медицинское средство проведения различий между «истерическим рыданием и меланхолическим вздохом… удушливым кашлем больного коклюшем и сухим покашливанием туберкулезника. Он станет экспертом по сумасшествию, проведя различие между смехом маньяка и бредом идиота… Он совершит этот подвиг в приемной, пока врач будет занят своим последним пациентом». На практике, однако, фонограф так и остановился на голосах всевозможных Синьор Сирен, бассо теноров, робусто профундо.
До конца первой мировой войны звукозаписывающие устройства всё никак не осмеливались прикоснуться к таким тонким вещам, как оркестр. Задолго до этого один энтузиаст взглянул на звукозапись как на соперницу фотоальбома и ускорение того счастливого дня, когда «будущие поколения будут способны сконденсировать в пространстве двадцати минут звуковое изображение целой жизни: пять минут будут отведены детскому лепету, пять минут – мальчишескому ликованию, пять минут – рефлексиям мужчины и пять минут – затухающему бормотанию старика, прикованного к смертному одру». Немного позднее Джеймс Джойс поступил еще лучше. Он превратил «Поминки по Финнегану» в звуковую поэму, сконденсировавшую в одном предложении все лепеты, крики ликования, наблюдения и раскаяния всего рода человеческого. Он не мог даже задумать такое произведение в любую другую эпоху, кроме той, которая породила фонограф и радио.
В конечном счете, именно радио внесло полный электрический заряд в мир фонографа. Радиоприемник образца 1924 года был уже выше по качеству звучания и вскоре стал подавлять фонограф и звукозаписывающий бизнес. Со временем радио восстановило бизнес звукозаписи, расширив массовые вкусы в направлении классики.
Реальный прорыв произошел после второй мировой войны, когда стали доступны магнитофоны. Это означало конец записи звука с помощью насечек и сопутствовавшего этому поверхностного шума. В 1949 году эра электрической аппаратуры класса hi-fi стала еще одним спасителем фонографического бизнеса. Вскоре предъявляемое ею требование «реалистичного звука» срослось с телевизионным образом, и это было частью реанимации тактильного опыта. Ибо создание впечатления присутствия играющих инструментов «прямо в той комнате, где вы находитесь» – это стремление достичь союза слухового и тактильного в точности струнных инструментов, а это в значительной степени скульптурный опыт. Быть в присутствии музыкантов-исполнителей значит переживать их прикасание к инструментам и обращение с ними как тактильное и кинетическое событие, а не только звуковое. Таким образом, можно сказать, что аппаратура класса hi-fi – это не поиск абстрактных звуковых эффектов в отрыве от других чувств. С появлением hi-fi фонограф встречается с тактильным вызовом телевидения.
Стереозвук, ставший очередным достижением, представляет собой «всеобъемлющий» или «обволакивающий» звук. Прежде звук шел из одной точки, в соответствии со склонностью визуальной культуры к фиксированной точке зрения. Переворот, вызванный аппаратурой hi-fi, реально стал для музыки тем же, чем был кубизм для живописи и символизм для литературы, а именно: принятием множественных граней и планов в едином опыте. Иными словами, стереозвук есть глубинный звук, подобно тому, как телевидение есть визуальная глубина.
Пожалуй, не будет большим противоречием сказать, что как только средство коммуникации становится средством глубинного опыта, старые категории «классического» и «популярного», «высокоинтеллектуального» и «простонародного» перестают существовать. Лицезрение по телевидению операции, проводимой ребенку с врожденным пороком сердца, не подпадает ни под одну из этих категорий. Когда появились долгоиграющая пластинка, hi-fi и стерео, пришел также и глубинный подход к музыкальному опыту. Каждый человек утратил трудности с восприятием «высокоинтеллектуального», а серьезные люди утратили свою предвзятость в отношении популярной музыки и культуры. Все, к чему бы ни подходили с глубинными мерками, приобретает не меньший интерес, чем самые великие вопросы. Ибо «глубина» означает «во взаимосвязи», а не «в изоляции». Глубина означает не точку зрения, а озарение; озарение же есть своего рода ментальное вовлечение в процесс, заставляющее содержательную сторону предмета казаться совершенно вторичной. Само сознание есть инклюзивный процесс, вообще не зависящий от содержания. Сознание не постулирует сознания чего бы то ни было в частности.
Что касается джаза, то долгоиграющая пластинка внесла в него многочисленные изменения, например, культ «настоящего кул-друла», ибо значительно возросшая продолжительность звучания одной стороны пластинки означала, что джаз-бэнд получил реальную возможность для долгого и свободного разговора между инструментами. Благодаря этим новым средствам репертуар 20-х годов был возрожден и получил новую глубину и сложность. Вместе с тем, сочетание магнитофона с долгоиграющей пластинкой революционизировало репертуар классической музыки. Как магнитофонная лента ознаменовала начало новых исследований устных (а не письменных) языков, так она вобрала в себя и всю музыкальную культуру многих столетий и стран. Там, где раньше существовала узкая выборка из разных периодов и композиторов, магнитофон в сочетании с долгоиграющей пластинкой подарил полную гамму музыки, сделав шестнадцатое столетие столь же доступным, как и девятнадцатое, а китайскую народную песню – такой же близкой, как и венгерская.
Краткое резюме технологических событий, имеющих отношение к фонографу, можно было бы представить следующим образом.
Телеграф перевел письмо в звук, и этот факт непосредственно связан с рождением телефона и фонографа. С появлением телеграфа единственными оставшимися стенами являются языковые стены, которые легко сметаются фотографией, кино и фототелеграфией. Электрификация письма была почти таким же великим шагом в невизуальное слуховое пространство, как и последующие шаги, предпринятые вскоре после этого телефоном, радио и телевидением.
Телефон: речь без стен.
Фонограф: музыкальный холл без стен.
Фотография: музей без стен.
Электрический свет: пространство без стен.
Кино, радио и телевидение: классная комната без стен.
Собиратель пищи снова возрождается, но теперь уже как собиратель информации. И в этой роли электронный человек является кочевником не меньше, чем его палеолитические предки.
ГЛАВА 29. КИНО
МИР, НАМОТАННЫЙ НА КАТУШКУ
В Англии кинотеатр первоначально называли «Биоскопом» (от греч. биос, «образ жизни»), так как он визуально представлял реальные движения живых форм. Кино, с помощью которого мы наматываем реальный мир на бобину, чтобы потом раскрутить его как ковер-самолет нашей фантазии, – это выставленное напоказ бракосочетание старой механической технологии с новым электрическим миром. В главе, посвященной колесу, мы уже рассказывали, что кино родилось из попытки сфотографировать летящие копыта скачущих лошадей, и это было весьма символично, ведь установить последовательный ряд фотокамер для изучения живого движения значит особым образом соединить механическое с органическим. В средневековом мире, что любопытно, изменение органических существ представлялось в виде последовательной смены одной статичной формы другой. В воображении людей того времени жизнь цветка была своего рода кинематографической чередой фаз, или сущностей. Кино есть полное осуществление средневековой идеи изменения в форме развлекательной иллюзии. К появлению кинофильма, как и телефона, были напрямую причастны физиологи. В фильме механическое предстает как органическое, а рост цветка можно изобразить так же легко и свободно, как движение лошади.
Сплавляя воедино механическое с органическим в мире волнообразно колеблющихся форм, кино сближается с технологией печати. Задача читателя, образно говоря, в том, чтобы следить за черно-белыми последовательностями кадров, составляющими суть книгопечатания, снабжая их собственной звуковой дорожкой. Он пытается следить за очертаниями авторского разума, работая на разных скоростях и пользуясь различными иллюзиями понимания. Трудно переоценить ту связь между печатью и кино, которая выражена в их способности пробуждать фантазию в зрителе или читателе. Сервантес целиком и полностью посвятил своего «Дон Кихота» этому аспекту печатного слова и его способности создавать особый тип человека, который Джеймс Джойс на протяжении всей книги «Поминки по Финнегану» называет «алфавитно-мыслящим» (ABCED-minded), – человека, которого можно одновременно понимать и как «отсказанного вовне» (ab-said), и как «отсутствующего» (absent), и как просто контролируемого алфавитом.[383]383
Все коннотации, содержащиеся в указанных созвучиях, передать по-русски невозможно. Absent minded, созвучное джойсовскому неологизму ABCED-minded, означает «рассеянный», а также намекает на «отсутствие ума» (в разных его проявлениях); установление связи всех этих качеств с влиянием алфавита и книжной культуры представляется в данном выражении Джойса достаточно очевидным.
[Закрыть]
Задача писателя или кинорежиссера состоит в том, чтобы перенести читателя или зрителя из одного мира, их собственного, в другой, созданный книгопечатанием и кино. Этот перенос настолько очевиден и настолько всеобъемлющ, что люди, переживая такой опыт, принимают его на подпороговом уровне и без крупицы критического осознания. Сервантес жил в мире, где печать была столь же нова, как кино сегодня на Западе, и ему казалось очевидным, что печать – точно так же, как в наше время экранные образы – узурпировала реальный мир. Под их чарами читатель и зритель превратились в грезящих сновидцев, как сказал в 1926 году о кинофильме Рене Клер.[384]384
Клер (Clair) Рене (настоящая фамилия Шометт, 1898–1981) – французский кинорежиссер и кинодраматург. Расцвет его творчества пришелся на 20-е – 30-е годы. Наиболее известны его фильмы «Под крышами Парижа» (1930) и «Большие маневры» (1955).
[Закрыть]
Как невербальная форма опыта, кино, подобно фотографии, есть форма высказывания без синтаксиса. В действительности, однако, кино – так же, как печать и фотография – предполагает наличие у своих потребителей высокого уровня письменной грамотности и для людей бесписьменных оказывается непостижимым. Наше грамотное принятие обычного движения глаза камеры, преследующего предмет или выпускающего его из виду, неприемлемо для африканской киноаудитории. Если кто-то исчезает из кадра, африканец желает знать, что с ним произошло. Письменная же аудитория, привыкшая следовать строка за строкой за печатной фантазией, не ставя под сомнение логику линейности, принимает последовательный киноряд без возражений.
Рене Клер подметил, что если на сцене присутствуют одновременно два или три человека, драматург должен беспрестанно мотивировать или объяснять, почему они вообще там находятся. Кинозритель, в свою очередь, как и читатель книги, принимает саму последовательность как рациональную. На что бы ни оборачивалась камера, аудитория все приемлет. Мы переносимся в иной мир. Как заметил Рене Клер, экран открывает парадную дверь в гарем прекрасных видений и подростковых грез, в сравнении с которыми даже самое восхитительное реальное тело кажется ущербным. Йейтс усматривал в кино мир платоновский идей, где кинопроектор играет «пенистой рябью, прячущей под собой духовную парадигму вещей». Это и был тот самый мир, куда наведывался Дон Кихот после того, как обнаружил его, заглянув в крупноформатную дверь новонапечатанных романов.
Итак, тесная связь между катушечным миром кино и переживанием печатного слова в частной фантазии имеет незаменимое значение для принятия западным человеком кинематографической формы. Даже сама киноиндустрия считает свои величайшие достижения почерпнутыми из романов, и, надо сказать, не без оснований. Как в катушечной своей форме, так и в форме сценария, фильм нерасторжимо связан с книжной культурой. Достаточно представить на мгновение фильм, основанный на газетной форме, и мы увидим, насколько близок фильм к книге. Теоретически, ничто не мешает использовать кинокамеру для фотографирования сложных групп предметов и событий в тех конфигурациях выходных данных, в которых они представлены на газетной странице. На самом деле, к такому конфигурированию или «сгромождению» поэзия склонна больше, чем проза. Поэзия символизма имеет много общего с мозаикой газетной страницы, хотя лишь очень немногие могут отстраниться от единообразного и связного пространства в достаточной степени, чтобы постичь смысл символистских стихотворений. С другой стороны, туземцам, очень мало контактирующим с фонетической письменностью и линейной печатью, приходится учиться «видеть» фотографии или фильмы так же упорно, как нам приходится учить свои буквы. После многолетних попыток научить аф-риканцев читать их буквы с помощью кинофильма, Джон Уилсон из Африканского института при Лондонском университете пришел к заключению, что проще научить их сначала читать буквы, а уж потом приобщать к кинограмотности. Ведь даже уже приучившись «видеть» кинокартины, туземцы не могли принять наши идеи временных и пространственных «иллюзий». Посмотрев фильм «Бродяга» Чарли Чаплина,[385]385
«Бродяга» («The Tramp») – один из ранних фильмов Чаплина, вышедший на экраны в 1915 г.
[Закрыть] африканская аудитория приходила к выводу, что европейцы – маги, способные возвращать жизнь. Она видела киногероя, перенесшего сокрушительный удар в голову без малейших признаков боли. Когда камера смещается, они думают, что их взору открываются движущиеся деревья, растущие или съеживающиеся дома, ибо они не могут, как письменные люди, допустить непрерывность и единообразие пространства. Бесписьменные люди просто не схватывают светотеневые эффекты перспективы и дистанцирования, которые мы считаем врожденным человеческим оснащением. Письменные люди мыслят причину и следствие как расположенные последовательно, как если бы одна вещь подталкивала другую вперед физической силой. Бесписьменные люди проявляют очень мало интереса к такого рода «действенным» причине и следствию, но очарованы скрытыми формами, производящими магические результаты. Бесписьменные и невизуальные культуры интересуются скорее внутренними, нежели внешними причинами. Поэтому письменный Запад и видит весь остальной мир скованным цельносплетенной паутиной суеверия.
Подобно устному русскому, африканец не будет воспринимать внешний вид и звук вместе. Звуковое кино стало днем страшного суда для русского фильмопроизводства, потому что русским, как и любой другой отсталой или устной культуре, свойственна неудержимая потребность в участии, которая при добавлении звука к визуальному образу перестает удовлетворяться. И Пудовкин,[386]386
Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) – советский кинорежиссер, теоретик кино. Наиболее выдающиеся работы в кино: «Мать» (1926), «Возвращение Василия Бортникова» (1953). Автор ряда теоретических трудов, получивших мировую известность: «Кинорежиссер и киноматериал» (1926), «Киносценарий. Теория сценария» (1926), «Актер в фильме» (1934) и др.
[Закрыть] и Эйзенштейн осуждали звуковой фильм, но считали, что если пользоваться звуком символически и контрапунктически, а не реалистически, то результат будет не так вреден для визуального образа. Неудержимая тяга африканца к групповому участию, распеванию песен и выкрикиванию во время киносеансов полностью фрустрируется звуковой дорожкой. Наши звуковые фильмы были дальнейшим довершением визуальной упаковки как простого потребительского товара. Ибо в случае немого фильма мы сами автоматически обеспечиваем себя звуком посредством «довершения», или завершения. А когда он уже заполнен за нас другими, участия в работе образа становится гораздо меньше.
Кроме того, выяснилось, что бесписьменные люди не знают, как зафиксировать свой взгляд – подобно тому, как это делают люди Запада – на расстоянии нескольких футов от киноэкрана или на некотором расстоянии от фотографии. В результате, они обшаривают глазами фотографию или экран так, как могли бы ощупывать их руками. Именно эта привычка использовать глаза как руки делает европейских мужчин столь «сексуальными» для американских женщин. Только крайне письменное и абстрактное общество приучается фиксировать глаза так, как мы должны это делать при чтении печатной страницы. Для тех, кто фиксирует свое зрение подобным образом, возникает перспектива. В туземном искусстве есть великая утонченность и синестезия, но нет перспективы. Старое мнение, будто на самом деле в перспективе видит каждый, но только художники эпохи Возрождения научились ее изображать, ошибочно. Наше первое телевизионное поколение быстро теряет эту привычку визуальной перспективы как сенсорную модальность, и в то время как совершается это изменение, рождается интерес к словам не как к чему-то визуально единообразному и непрерывному, а как к уникальным глубинным мирам. Отсюда общее помешательство на каламбурах и игре слов, проникшее даже в степенные рекламные объявления.
На фоне других средств коммуникации, таких, как печатная страница, фильм обладает способностью сохранять и передавать огромный объем информации. В одно мгновение он представляет сцену ландшафта с фигурами, которая потребовала бы в прозе нескольких страниц описания. В следующее мгновение он повторяет эту детальную информацию и может продолжать повторять ее дальше. Писатель, со своей стороны, не располагает средствами, которые позволяли бы ему удерживать перед читателем массу подробностей в большом блоке, или гештальте. Как фотография толкает художника в сторону абстрактного, скульптурного искусства, так и фильм подтолкнул писателя к экономии слов и глубинному символизму, в которых фильм не может с ним соперничать.
Еще одну грань чистого количества данных, могущего присутствовать в кинокадре, иллюстрируют такие исторические фильмы, как «Генрих V» и «Ричард III». Здесь при изготовлении декораций и костюмов было проведено масштабное исследование, которое ныне любой шестилетний ребенок может провести так же легко, как и взрослый. Т. С. Элиот рассказывал, как при постановке фильма по его «Убийству в соборе»[387]387
Поэма «Убийство в соборе» (Murder in the Cathedral, 1935) – первое завершенное драматическое произведение Элиота и единственное его произведение в жанре трагедии.
[Закрыть] нужно было не просто найти костюмы того времени, но и чтобы эти костюмы – насколько же велика точность и тирания глаза кинокамеры! – были связаны теми же способами, которые использовались в двенадцатом веке. Средь океана иллюзий Голливуд должен был обеспечить еще и аутентичные ученые копии многочисленных сцен прошлого. Театральная сцена и телевидение могут обходиться весьма грубыми приближениями, ибо предлагают образ низкой определенности, ускользающий от подробного обследования.