
Текст книги "Воображаемые жизни
Собрание сочинений. Том III"
Автор книги: Марсель Швоб
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ЧЕККО АНДЖОЛЬЕРИ
Поэт-ненавистник

Чекко Анджольери уродился злым. Он увидал свет в Сиенне в тот самый день, что во Флоренции – Данте Алигиери. Отец его, разбогатевший торговец шерстью, склонялся на сторону империи.
С самого детства Чекко завидовал взрослым, ненавидел их и бормотал корыстные молитвы.
В то время многие из знати не желали подчиняться Папе, и все-таки Гибеллины были сломлены.
Но даже и между Гвельфами были Белые и Черные. Белые допускали императорское вмешательство. Черные оставались верными Церкви, Риму и Святому Престолу. Чекко безотчетно примкнул к Черным, быть может, потому, что отец его был Белый.
Его Чекко ненавидел почти с первого вздоха. Пятнадцати лет он потребовал выдела своей части имущества, словно старый Анджольери был уже мертв. Озлобленный отказом, он покинул родительский дом. С тех пор он, не переставая, жаловался и всякому встречному, и Небу. Большою дорогой пришел он во Флоренцию. Там господствовали Белые, даже после того, как были изгнаны Гибеллины. Чекко кормился подаянием, рассказывал всюду о жестокости отца и кончил тем, что поселился в хижине чеботаря. У того была дочь, которую звали Беккиной, и Чекко решил, что он ее любит.
Чеботарь был человек простой и большой почитатель Святой Девы; он носил ее образки и был уверен, что его набожность дает ему право кроить сапоги из плохой кожи. Перед тем, как идти спать, при свете сальной свечи он беседовал с Чекко о святой науке Теологии и о преимуществах милосердия. Беккина с вечно всклокоченными волосами мыла посуду. Она насмехалась над Чекко за то, что он был криворотый.
Около того времени во Флоренции стали много говорить о необычайной любви Данте Алигиери к дочери Фолько Риковеро де Портинари, Беатриче. Всякий грамотный знал наизусть песни, что он складывал в ее честь. Чекко выслушивал и очень ругал их.
– Вот, Чекко, – сказала Беккина, – ты смеешься над этим Данте, а сам бы не сумел написать мне таких прекрасных посланий.
– Увидим, – сказал Анджольери, скаля зубы.
Прежде всего он сложил сонет, где критиковал размер и смысл песен Данте. Потом он написал стихи для Беккины, но она не умела читать и покатывалась со смеху, слушая декламацию Чекко, не в силах выносить влюбленных гримас его рта.
Чекко был беден и гол, как церковный камень. Он фанатически любил Богоматерь, что передалось ему от его друга, чеботаря. Они оба видались с несколькими захудалыми клириками, жившими на иждивении Черных. Там возлагали большие надежды на Чекко, который казался озаренным свыше, но там не было для него денег.
Несмотря на похвальную ревность к вере, чеботарю пришлось выдать Беккину за толстого соседа Барберино, торговца маслом. «И масло бывает святое», – сказал благочестиво чеботарь в свое оправдание Чекко Анджольери. Свадьба состоялась почти в то же время, что свадьба Беатриче с Симоно ди Барди, и Чекко стал подражать Дантовой печали.
Но Беккина не умерла, подобно Беатриче. Девятого июня 1291 года Данте рисовал на деревянной доске. То была годовщина смерти Беатриче. Оказалось, что лицо изображенного им ангела было похоже на лицо его возлюбленной. Одиннадцать дней спустя, 20 июня, Чекко Анджольери – Барберино был занят на масляном рынке – получил от Беккины благосклонное позволение поцеловать ее в губы и сочинил ей пламенный сонет. Но его обычная злость от того не уменьшилась. Кроме любви, он хотел еще золота. У ростовщиков не удалось вытянуть ничего. Он понадеялся достать у отца и отправился в Сиенну. Но старый Анджольери не дал сыну даже стакана кислого вина и оставил его сидеть на улице перед домом.
Чекко успел заметить в зале мешок с только что отчеканенными флоринами. Это был доход с Арчидоссо и Монтеджиови. Он умирал от голода и жажды, платье его было разорвано и рубаха прокоптела насквозь.
Весь в пыли, он вернулся во Флоренцию, и Барберино, увидав его лохмотья, выставил его за дверь своей лавки.
Вечером он вернулся в хижину чеботаря и застал его около чадившей сальной свечи поющим хвалебную песнь Марии.
Они обнялись и умиленно поплакали. По окончании гимна Чекко рассказал чеботарю о своей ужасной и отчаянной ненависти к отцу, грозящему прожить так же долго, как Вечный Жид Батадео. Одни священник, пришедший в это время поговорить о нуждах народа, убедил его в ожидании развязки принять монашеский чин. Он свел Чекко в аббатство, где ему дали келью и старое платье. Приор нарек ему имя: «брат Арриго».

На клиросе, во время ночной службы, он касался рукою плит, голых и холодных, как он. Бешенство сжимало ему горло, когда он думал о богатстве отца, и казалось ему, море скорее высохнет, чем тот умрет. Он чувствовал себя настолько обездоленным, что минутами ему хотелось стать последним из слуг на кухне. «Это вещь, – говорил он, – о которой стоит подумать».
В другое время его охватывала безумная гордыня. «Будь я огнем, – думал он, – я испепелил бы весь свет. Будь я ветром, я пронесся бы над ним ураганом. Будь я водой, я обрушился бы на него потопом. Будь я Богом, я низринул бы его в бездну. Будь я Папой, не было бы мира под солнцем. Будь я Императором, я рубил бы головы без счета. Будь я смертью, я пришел бы за моим отцом… Будь я Чекко… вот вся моя надежда…» Но он был «брат Арриго».
Вскоре он вернулся к своей старой ненависти. Добыв список песен, посвященных Беатриче, он терпеливо сравнивал их со стихами, написанными им Беккине. Один бродячий монах сообщил ему, что Данте отзывался о нем с презрением, и он стал искать случая отмстить. Превосходство сонетов к Беккине казалось ему очевидным. Песни к Биче (Данте в них называет ее обычным уменьшительным именем) – отвлеченны и бледны, его же – полны силы и красок.
Для начала он послал Данте оскорбительное стихотворение. Потом задумал донести на него королю Карлу, графу Прованса. Но никто, в конце концов, не обращал внимания ни на его стихи, ни на его письма, а он оказался бессильным.
Наконец, он устал питать ненависть бездействием, сбросил рясу, надел опять свою рубаху без застежек, изношенный камзол, шляпу, вымытую дождем, и снова стал перебиваться при помощи набожных братьев, работавших в пользу Черных.
Его ожидала большая радость. Данте был изгнан. Во Флоренции оставались одни темные партии. Чеботарь умильно бормотал Деве о скором торжестве Черных. Чекко Анджольери в своем новом увлечении забыл Беккину. Он валялся в канавах, питался черствыми корками, бегал пешком за посланцами церкви в Рим и возвращался во Флоренцию. Увидели, что он может быть полезным. Корсо Донати, свирепый и сильный вождь Черных, вернулся во Флоренцию и скоро дал ему вместе с другими дело.
В ночь на 10 июня 1304 года толпы поваров, красильщиков, кузнецов, священников и нищих наводнили аристократический квартал Флоренции, где были прекрасные дома Белых. Чекко Анджольери размахивал смоляным факелом, взятым у чеботаря, который следовал на почтительном расстоянии, приветствуя веления Неба. Они поджигали все, и Чекко сам зажег деревянный балкон дома Кавальканти, которые были друзьями Данте. В ту ночь он утолил огнем жажду своей ненависти.
На другой день он послал Данте к Веронскому двору бранное стихотворение «Ломбардец». В тот же день он по-настоящему сделался Анджольери, как об этом мечтал несколько лет. Умер его отец, старый, как Илия или Енох.
Чекко бросился в Сиенну и погрузил руки в мешки с новенькими флоринами, в сотый раз повторяя себе, что теперь он не бедный брат Арриго, а благородный владетель Арчидоссо и Монтеджиови, богаче, чем Данте, и лучше, как поэт. Потом ему пришло в голову, что он грешник, ибо желал отцу смерти, и он начал раскаиваться. Тут же он настрочил сонет к Папе, прося в нем о крестовом походе против всех, кто оскорбляет родителей.
В жажде излить свою душу он поспешно вернулся во Флоренцию, обнял чеботаря и просил быть за него ходатаем перед Девой Марией. Потом со всех ног поспешил к торговцу освященным воском и купил грузную свечу. Чеботарь с умилением зажег ее. Оба плакали и молились Мадонне.
До позднего часа слышался смиренный голос чеботаря. Он пел славословия, любовался на свечу и отирал другу слезы.
ПАОЛО УЧЕЛЛО
Художник

В сущности, его звали Паоло ди Доно, но флорентинцы прозвали его «Учелло» или «Птица» по причине множества птичьих чучел и рисунков зверей, наполнявших его дом, ибо был он слишком беден, чтобы держать животных или доставать тех, которых не знал. Однажды, как о нем рассказывают, он работал в Падуе над фреской, изображавшей четыре стихии, и в качестве символа воздуха поместил там хамелеона. Но, никогда его не видав, вместо него он изобразил верблюда с раздутым брюхом и с разинутой пастью. (Хамелеон, – объясняет Вазари – похож на небольшую сухую ящерицу, между тем как верблюд есть крупное, качающееся на ходу животное).
Учелло не заботился о реальности предметов, но лишь об их многочисленности и бесконечном разнообразии линий. Он делал голубые поля, красные города, всадников в черных доспехах, на дышащих пламенем эбеновых конях, с копьями, устремленными, как световые лучи, во все стороны неба.
Была у него привычка постоянно помещать на картинах «Mazocchi», представляющие собой род деревянного обруча, крытого сукном и надеваемого на голову так, что складки откинутой ткани обрамляют лицо. Учелло изображал их то остроугольными, то квадратными, то в виде пирамиды или конуса, глядя по данным перспективы, и находил целый мир сочетаний в складках mazocchio. Скульптор Донателло говаривал ему: «Ах, Паоло, ты упускаешь сущность ради тени!»
Но «Птица» продолжал свою кропотливую работу. Он соединял круги, делил углы, изучал всякое творение во всех его видах и обращался за разъяснением Эвклидовых задач к своему другу, математику Джиованни Манетти. Потом он запирался и покрывал свои пергаменты и деревянные дощечки точками и кривыми.
Он непрестанно работал над изучением архитектуры, в чем помогал ему Филиппо Брунеллески. Но у него не было намерения быть строителем. Он довольствовался тем, что замечал направление линий от фундамента к карнизам, и сцепление прямых в их точках прикосновения, и законы сведения сводов к их верхнему соединительному камню, и веерообразное схождение потолочных балок, которые как будто сливаются в конце длинной залы. Он также изображал всех животных, и их движения, и жесты людей, стараясь свести их к простым линиям. И как алхимик, склонясь над смесями металлов и посредствующих веществ, наблюдает их плавку на своем горне в надежде найти золото, так Учелло сливал все формы в один тигель. Он их соединял, комбинировал и плавил, чтобы добиться их превращения в одну первоначальную, из которой исходят остальные. Вот почему Паоло Учелло жил, затворившись, как алхимик, в своем маленьком доме. Он верил, что ему удастся заменить все линии одним идеальным аспектом. Ему хотелось уловить весь сотворенный мир, каким он отражается во взоре Бога, который видит все фигуры исходящими от одного сложного центра.
В одном с ним городе жили Гильберти, Делла-Робиа, Брунеллески и Донателло; все они, гордые своим мастерством, смеялись над бедным Учелло, над его безумными мыслями о перспективе, и с жалостью глядели на его дом, богатый науками и бедный запасами. Но Учелло был еще более горд. Во всякой новой комбинации линий он надеялся найти способ творения. Его цель была не подражание, а власть раскрывать совершенный облик каждой вещи, и странная коллекция шапочек со складками казалась ему в большей мере откровением, чем прекрасные мраморные лица Донателло.
Так жил «Птица», вечно в плаще с капюшоном на задумчивой голове. Он не замечал, что ел и что пил, и был вполне подобен отшельнику.
Однажды, на лугу, у груды старых камней, потонувших в траве, он увидел смеющуюся девушку с гирляндой на голове.
На ней была длинная изящная одежда, в боках поддерживаемая бледной лентой, и движения ее были гибки, как ветви, которые она сплетала. Ея имя было Сельваджия. Она улыбнулась Учелло. Он отметил склад ее улыбки и, пока она на него смотрела, разглядел тончайшие линии ресниц, и круг зрачков, и изгиб век, и легко подхваченные волосы. Мысленно он располагал на тысячу ладов гирлянду, окаймлявшую ее лоб.
Но Сельваджия не могла понять этого, – ей было всего тринадцать дет. Она взяла Учелло за руку и полюбила его. Она была дочерью одного флорентийского красильщика, а матери уже не было в живых. Другая женщина, занявшая ее место в доме, била Сельваджию. Учелло привел ее к себе.
Целыми днями Сельваджия не отрывалась от стены, на которой Учелло набрасывал свои универсальные формы. Она никогда не могла понять, почему он предпочитает всматриваться в прямые и ломаные линии, а не глядеть на нежное лицо, тянувшееся к нему.
По вечерам, когда Брунеллески или Манетти приходили работать с Учелло, она засыпала после полуночи на полу у стены, в теневом круге под лампой. Утром она просыпалась раньше Учелло и радовалась окружавшим ее птицам и зверям, разрисованным в разные цвета. Учелло рисовал ее губы, ее глаза, ее волосы, ее руки; он постоянно закреплял отдельные положения ее тела, но он не писал ее портрета, как делали другие художники, когда любили женщину. Ибо «Птице» была незнакома радость оставаться в пределах одной личности: он не мог быть в одном краю, стремясь в своем полете парить над всеми краями.
И формы, и положения тела Сельваджии были брошены в общий тигель форм, вместе с движениями животных, с линиями камней и растений, с лучами света, с зыбью земных испарений и морской волны. Забыв о Сельваджии, Учелло казался вечно склоненным над тигелем форм.
А в это время в доме Учелло было нечего есть, и Сельваджия не решалась говорить об этом ни Донателло, ни кому другому. Она умерла, не сказав ни слова. Учелло запечатлел ее окоченевшее тело, ее маленькие худые сложенные руки и очерк жалких закрытых глаз. Он не заметил, что она умерла, как прежде не замечал, что жива. Он только присоединил новые формы к тем, что собрал.
«Птица» состарился, и уже никто не понимал его картин. Это была какая-то путаница кривых. Больше нельзя было различить ни земли, ни растений, ни животных, ни людей.
Много лет он работал над своим главным произведением, скрывая его от всех. Оно должно было обнимать все его изыскания и быть их отражением по своему общему замыслу. То был «Фома Неверный, испытующий язвы Христа». Восьмидесяти лет Учелло закончил картину.
Он призвал Донателло и благоговейно открыл ее. И Донателло воскликнул: «Паоло, закрой свою картину!» «Птица» стал расспрашивать великого скульптора, но тот не захотел более сказать ничего. Отсюда Учелло вывел, что он совершил чудо. Но Донателло не видел ничего, кроме хаоса линий.
Несколько лет спустя Паоло Учелло был найден умершим от истощения на своем жестком ложе. Его лицо было излучено морщинами. Глаза вперились в открывшуюся ему тайну.
В крепко сжатых пальцах он держал маленький свиток пергамента, весь покрытый передающимися линиями, идущими от центра к окружности и возвращающимися от окружности к центру.

НИКОЛАЙ ЛОЙЗЕЛЕР
Судья

Он родился в день Успения и особенно чтил Святую Деву. У него выло обыкновение призывать ее во всех обстоятельствах жизни, и он не мог слышать ее имени без того, чтоб глаза его не наполнились слезами.
Покончив ученье на маленьком чердаке на улице св. Якова, под руководством тощего клирика, вместе с тремя детьми, бормотавшими «Donat» и покаянные псалмы, он прилежно изучил логику Окама. Таким образом, он рано стал бакалавром и магистром искусств. Почтенные лица, его обучавшие, заметили в нем большую кротость и привлекательную набожность. С его толстых губ как будто срывались одни молитвы.
Как только он получил степень бакалавра теологии, Церковь обратила на него внимание. Первоначально он служил в диоцезе епископа города Бовэ, который, оценив его качества, пользовался им, чтобы предупреждать англичан, стоявших тогда под Шартром, о различных передвижениях начальников французских отрядов. Когда ему было тридцать пять лет, его сделали каноником в Руанском кафедральном соборе.
Там он сошелся с Жаном Брюйо, каноником и кантором, и они вместе пели прекрасные литании Деве Марии. Иногда он предостерегал Николая Коппекесна, который был из одного с ним капитула, по поводу прискорбного пристрастия, оказываемого им святой Анастасии.
Николай Коппекесн не уставал восторгаться мудростью этой девушки, которая сумела так отвести глаза римскому префекту, что тот влюбился в чугуны и кастрюли на кухне и сталь их пламенно обнимать, от чего лицо его закоптело и стало похожим на дьявола. Николай Лойзелер доказывал ему, насколько выше могущество Девы Марии, вернувшей жизнь утонувшему монаху. Этот монах был распутен, но никогда не забывал почтить Святую Деву. Однажды ночью, отправляясь на свои блудные дела, он проходил мимо алтаря Марии и не упустил преклонить колена и вознести ей молитву. В ту ночь беспутство довело его до того, что он утонул в реке. Но демоны не могли завладеть им, и, когда на другой день монахи вытащили тело из воды, он открыл глаза и ожил милосердием Девы Марии.
«Ах! – вздыхал каноник, – вот такая набожность есть поистине целительное средство, и столь почтенное и скромное лицо, как вы, Коппекесн, должны бы пожертвовать ради него вашей любовью к Анастасии».
Явные достоинства Николая Лойзелера не были забыты епископом города Бовэ, когда он приступил в Руане к разбору процесса Иоанны Лотарингской. Одевшись в короткое светское платье и прикрыв тонзуру шапочкой, Николай был проведен в маленькую круглую келью под лестницей, где была заключена узница.
«Жаннетта, – сказал он, держась в тени, – мне кажется, сама Святая Екатерина послала меня к вам».
«Во имя Бога, кто вы такой?» – сказала Иоанна.
«Бедный сапожник из Грё, – отвечал Николай, – из нашей – увы! – несчастной страны. „Годоны“ взяли меня в плен, как и вас, дочь моя, да прославит вас Небо! Я все знаю хорошо. Я много, много раз видал, как вы приходили молиться Пресвятой Богородице в церковь Святой Марии Бермонской. С вами вместе я не раз слушал мессы нашего доброго кюре, Гильома Фронта. Увы! А помните ли вы Жана Моро и Жана Барра из Невшателя? Это мои кумовья».
Иоанна заплакала.
«Доверьтесь мне, Жаннетта, – сказал Николай, – меня посвятили в клирики, когда я был еще ребенком. Взгляните, вот тонзура. Исповедайтесь, дитя мое, исповедайтесь совершенно свободно, ибо я преданный сторонник нашего милостивого короля Карла».
«Я охотно исповедаюсь перед вами, друг мой», – сказала несчастная Иоанна.
А в стене было пробито отверстие, и снаружи, на ступенях лестницы, Гильом Маншон и Буа-Гильом от слова до слова записывали исповедь.
Николай Лойзелер говорил: «Жаннетта, не отступайтесь от своих слов и будьте тверды. Англичане не посмеют сделать вам худа».
На другой день Иоанна предстала перед судьями. Николай Лойзелер поместился с нотариусом в одной из оконных ниш, за занавесью, и начал записывать только одни обвинения, пропуская оправдания. Но двое других актуариусов протестовали. Когда Николай появился в зале, он незаметно сделал Иоанне знак не удивляться и с строгим видом присутствовал при допросе.
Девятого мая в большой башне замка он поднял вопрос о том, чтобы без промедления приступить к пытке.
Двенадцатого мая судьи собрались в доме епископа Бовэсского обсудить, полезно ли подвергать Иоанну пытке. Гильом Эрар полагал, что в этом нет надобности, ибо без того имеется достаточно данных. Николай Лойзелер заявил, что для исцеления ее души находит полезным предать ее пытке. Но этот совет не имел успеха.
Двадцать четвертого мая Иоанну повели на кладбище святого Уэна, где заставили взойти на покрытый гипсом эшафот. Около оказался Николай Лойзелер, что-то шептавший ей на ухо, пока Гильом Эрар ее напутствовал. Когда ей пригрозили огнем, она побледнела.
В эту минуту каноник, поддерживая ее, сделал судьям знак глазами и сказал: «Она отречется». Он водил ее рукой, чтобы поставить крест и кружок на предъявленном ей пергаменте. Потом он проводил ее до маленькой низкой двери и ласково погладил ей пальцы.
«Жаннетта моя, – говорил он, – по милости Божией, сегодня для вас хороший день. Вы спасли вашу душу. Иоанна, доверьтесь мне: если захотите, вы будете свободной. Возьмите женское платье и делайте все, что прикажут, иначе вам грозить смерть. Если же будете делать, как я говорю, вас спасут, вы получите много хорошего и ни капли зла, вы будете под покровительством Церкви».
В тот же день, после обеда, он пришел в ее новую тюрьму. Это была комната в замке, средней величины, и туда подымались по восьми ступеням. Николай сел на кровати, возле которой стоял толстый столб с железной, прикованной к нему цепью.
«Жаннетта, – сказал он, – вы видите, какое великое милосердие явили вам сегодня Господь Бог и Дева Мария; они вас приняли под милостивое покровительство нашей Святой Матери-Церкви. Надо покорно выслушивать поучения и приказания судей и духовных лиц. Оставьте ваши прежние бредня и не возвращайтесь к ним больше, иначе вы будете навсегда покинуты Церковью. Вот приличные одежды для скромной женщины. Берегите их, Жаннетта. Остригите скорее ваши волосы, которые, как я вижу, у вас подрезаны в круг».
Четыре дня спустя Николай ночью пробрался в комнату Иоанны и украл рубашку и юбку, которые сам же дал. Когда ему донесли, что она снова оделась в мужское платье, он сказал: «Увы! Она – отступница и глубоко впала во зло».
В архиепископской часовне он повторил слова магистра Жюля де Дюремора: «Мы, судьи, должны только постановить, что Иоанна – еретичка, и передать ее светскому суду, прося с ней действовать мерами кротости».
Перед тем, как ее отвели на мрачное кладбище, он пришел увещевать ее в сопровождении Жана Тумулье.
«Жаннетта, – сказал он ей, – не скрывайте более истины, – теперь вам нужно думать лишь о спасении души. Дитя мое, верьте мне: сегодня, среди всех, должны вы смириться и на коленях принести всенародное покаяние. Пусть оно будет всенародное, Иоанна, смиренное и всенародное, ради уврачевания вашей души».
И Иоанна просила напомнить ей об этом тогда, боясь, что у нее не хватит решимости в присутствии такого множества людей.
Он остался, чтобы увидеть ее сожжение. И здесь видимым образом проявилось его благоговение к Святой Деве. Как только услышал он, как Иоанна взывала к Марии, он заплакал горькими слезами. Так его трогало имя Богоматери. Английские солдаты, думая, что он делает это из жалости, избили его и гнались за ним с поднятыми саблями, и если б не граф Варвик, протянувший над ним руку, они бы убили его.
Он еле успел вскочить на графского коня и спасся бегством.
Много дней он бродил по дорогам Франции, не решаясь вернуться в Нормандию и опасаясь королевских людей. Наконец, он прибыл в Базель.
На деревянном мосту, среди островерхих домов, крытых полосатой черепицей, и крепостных караулен, желтых и голубых, блеск Рейна ударил ему в глаза.
Ему почудилось, он тонет, как блудливый монах, и зеленая вода крутится в глазах.
Имя Марин остановилось у него в горле, он всхлипнул и умер.





![Книга Полное собрание сочинений. В 3 томах. Том 2 [Драматические сочинения. Стихотворения. Статьи. Путевые заметки] автора Александр Грибоедов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-polnoe-sobranie-sochineniy.-v-3-tomah.-tom-2-dramaticheskie-sochineniya.-stihotvoreniya.-stati.-putevye-zametki-202532.jpg)

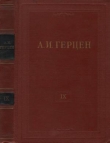

![Книга Полное собрание сочинений. В 3 томах. Том 3 [Письма. Документы. Служебные бумаги] автора Александр Грибоедов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-polnoe-sobranie-sochineniy.-v-3-tomah.-tom-3-pisma.-dokumenty.-sluzhebnye-bumagi-99419.jpg)