
Текст книги "Воображаемые жизни
Собрание сочинений. Том III"
Автор книги: Марсель Швоб
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
ГЕРОСТРАТ
Поджигатель

Город Эфес, где родился Герострат, тянулся вдоль устья Каистра с двумя его речными гаванями до набережной Панорма, откуда видна была на море глубоко окрашенная туманная линия Самоса. Он был обилен золотом и тканями, шерстью и розами с тех пор, как жители Магнезии, с их боевыми псами и рабами, метавшими дротики, были разбиты на берегах Меандра и прекрасный Милет был разорен персами.
Эфес был изнеженный город, где чтили куртизанок в храме Афродиты Гетеры. Эфесцы носили прозрачные туники, платья из льняной пряжи, цветом фиалковые, пурпуровые и шафранные, сарапиды цвета яблока, желтого, белого и розового, египетские ткани цвета гиацинта, с отсветами огня и с изменчивыми оттенками моря, и персидские калазирисы из легкой, но плотной ткани, усеянной по багряному фону золотыми зернами наподобие чашечек.
Между горой Приона и высокой отвесной скалой на берегу Каистра виднелся великий храм Артемиды. Ушло сто двадцать лет на его постройку. Прочная живопись украшала его внутренние помещения, потолок там был из кипариса и эбенового дерева. Тяжелые колонны, подпиравшие потолок, были выкрашены суриком. Святилище богини было небольшое, овальное. Посредине возвышался таинственный черный камень, конический и блестящий, с золотыми лунными знаками; это была Артемида. Трехугольный жертвенник также был высечен из черного камня. Другие были сделаны из черных плит с правильными отверстиями для жертвенной крови. По стенам висели широкие стальные с золотой рукоятью клинки для заклания; гладкий пол был усеян окровавленными повязками.
Большой темный камень имел два сосца, твердых и острых. Такова была Артемида Эфесская. Ее божественное происхождение терялось во мраке египетских могил, и ей надлежало поклоняться по персидским обрядам. Она обладала сокровищем, скрытым в подобии улья, выкрашенного зеленым, с пирамидальною дверью, усаженной медными гвоздями. Здесь, среди перстней, больших монет и рубинов, покоился манускрипт Гераклита, провозгласившего царство огня. Философ сам положил его на дно пирамиды во время ее сооружения.
Мать Герострата была жестока и надменна. Никто не знал его отца. Впоследствии Герострат объявил, что он – сын огня. На его теле, под левою грудью, был знак полумесяца, который стал цвета пламени, когда Герострат был подвергнут пытке. Бывшие при рождении его предсказывали, что он будет принадлежать Артемиде. Он был вспыльчив и жил девственным. Лицо его было изборождено мрачными складками и цвет кожи смугл. С детства любил он проводить время под высокой скалой возле Артемизиона. Оттуда смотрел он, как проходят жертвенные процессии. Так как его происхождение было неведомо, он не мог сделаться жрецом богини, хотя считал себя ей посвященным. Жреческой коллегии приходилось не раз запрещать ему вход в святилище, где мечтал он раздвинуть драгоценную тяжелую ткань, скрывавшую Артемиду. Он затаил ненависть и поклялся силой овладеть тайной.
Имя «Герострат» казалось ему несравнимым ни с чем, а сам он – выше всего человечества.
Он жаждал славы. Сначала он примкнул к философам, что проповедовали учение Гераклита, но они не знали его тайной части, так как она была заключена в пирамидальном тайнике сокровищницы Артемиды. Герострат только угадывал мысли учителя. Он укрепил в себе презрение к окружавшим богатствам и питал глубокое отвращение к любви куртизанок. Думали, он хранил свою девственность богине. Но не сжалилась над ним Артемида.
Он показался опасным совету старейшин, охранявшему храм. С разрешения сатрапа его изгнали в предместье. Он стал жить на склоне Коресса, в пещере, вырытой древними. Оттуда он глядел по ночам на священные лампады Артемизиона. Есть основания думать, что туда приходили к нему беседовать персы из числа посвященных. Но более похоже на правду, что решимость осенила его сразу. Действительно, как он сознался под пыткой, ему внезапно открылось значение слов Гераклита: «путь сверху». И то, зачем философ учил, что лучшая душа – самая сухая и самая огненная. Герострат утверждал, что в этом смысле душа его – самая совершенная, и он желал обнародовать это. Своему поступку он не давал другого объяснения, кроме любви к славе и наслаждения слышать, что имя его у всех на устах. Лишь его царство, как он говорил, было бы абсолютным, ибо отец его неведом и Герострат короновал бы Герострата; он – сын своего дела, а дело это – сущность вселенной, и он был бы в одно время царем, философом и богом, – единственный между людьми.
В 356 году, в ночь 21 июля, луна не появилась на небе, и страсть Герострата достигла небывалой силы. Он решил нарушить запрет тайного покоя Артемиды. Ущельем горы проскользнул он к берегу Каистра и взошел по ступеням храма. Стража спала возле священных лампад. Схватив одну из них, Герострат проник в святилище. Здесь был разлит крепкий запах нарда. Блистали черные полосы эбенового потолка. Овал комнаты разделялся завесой из пурпура и золотых нитей, скрывавшей богиню.

Герострат сорвал ее, задыхаясь от страсти.
Лампада озарила ужасный конус с прямыми сосцами. Герострат схватил их обеими руками и жадно обнял священный камень.
После он обошел его и увидел зеленую пирамиду, где было сокровище. Схватившись за металлические гвозди дверцы, он сорвал ее.
Его пальцы погрузились в еще никем не тронутые драгоценности, но он взял только свиток папируса со строками, начертанными Гераклитом. При свете священной лампады он прочел их и познал все… И тотчас воскликнул: «Огонь! Огонь!»
Он притянул завесу Артемиды и поднес горящую светильню к ее нижнему краю. Ткань сначала горела медленно. Потом, благодаря пропитавшим ее испарениям благовонных масел, синеватое пламя поднялось к эбеновой обшивке потолка. Отблеск пожара заиграл на ужасном конусе.
Пламя обвило капители колонн и поползло вдоль сводов. Один за другим золотые светильники, принесенные в дар Артемиде, падали с подвесов на плиты с металлическим звоном. Наконец, пламенный сноп сверкнул на крыше и осветил утес. Медные черепицы осели. Герострат стоял, облитый заревом, громко выкрикивая свое имя среди ночи.
Весь Артемизион был красною грудой во мраке. Стража схватила преступника. Ему заткнули рот, чтобы он перестал кричать свое имя. Он был брошен, связанный, в подземелье на время пожара.
Артаксеркс тотчас прислал приказ его пытать. Он дал лишь те показания, что уже приведены.
Двенадцать городов Ионии запретили под страхом смерти передавать имя Герострата будущим поколениям, но глухая молва донесла его до нас.
В ночь, когда Герострат сжег храм Эфесский, родился Александр, царь Македонии.

КРАТЕС
Циник

Он родился в Фивах, был учеником Диогена и также знал царя Александра. Его отец Аскондас был богат и оставил ему двести талантов.
Однажды он отправился посмотреть трагедию Эврипида, и на него сильно подействовало явление Телефа, царя Мизии, в лохмотьях нищего и с корзиной в руках. Тут же в театре он встал и громко объявил, что готов раздать всем, кто хочет, свои двести талантов наследства, сам же будет отныне довольствоваться одеждой Телефа.
Фиванцы приняли это со смехом и собрались перед его домом, но сам он смеялся всех больше. От им выбросил в окно свои деньги и все прочее имущество, взял плащ из холста, котомку и ушел.
Прибыв в Афины, он стал бродить по улицам, отдыхая, спиной к стене, среди человеческого вала. Он применил на деле все, чему учил Диоген, но его бочка казалась ему лишней. Человек, по мнению Кратеса, не улитка и не рак-отшельник. Он жил совсем голый, среди нечистот, и подбирал корки хлеба, гнилые оливы и сухие рыбьи кости, чтобы наполнить свою суму. Он говорит про нее, что это – обширный и богатый город, где нет ни бездельников, ни куртизанок, и он доставляет своему царю довольно и рыбы, и чеснока, и фиг, и хлеба. Так Кратес носил свое отечество на собственной спине, и оно кормило его.
Он не мешался в общественность, даже чтоб осмеивать ее, и не любил издеваться над царями. Он не одобрял поступка Диогена, который однажды воскликнул: «Люди, приблизьтесь!», а когда подошли, стал бить их палкой, приговаривая: «Я звал людей, а не дерьмо». Кратес был мягок с людьми.
Его не могло опечалить ничто. Раны были ему привычны. Он только жалел, что его тело недостаточно гибко, чтобы зализывать их, как делают собаки. Он плакался также на необходимость принимать твердую пищу и пить воду.
По его мнению, человеку следовало бы довольствоваться самим собой, без всякой помощи извне. По крайней мере, он не ходил за водой, чтобы мыться. Когда грязь ему мешала, он чесался о стену, замечая, что совершенно так делают ослы.
Он редко говорил о богах и не задумывался о них: ему было все равно, существуют они или нет, они – он звал хорошо – ничего ему не могут сделать. Кроме того, он им ставил в вину, что они сделали людей несчастными самим строением тела, повернув им лица к небу и тем лишив их возможностей, открытых большинству животных, ходящих на четырех лапах. Раз боги решили, что нужно есть, чтобы жить, – рассуждал Кратес, – они должны были обратить людям лица к земле, где произрастают злаки: нельзя кормиться воздухом и звездами.
Жизнь не была к нему благосклонна. У него гноились глаза, так как он не берег их от едкой пыли Аттики. Неизвестная накожная болезнь покрыла его опухолями. Он чесал их ногтями, которых не стриг никогда, и находил, что тем получает двойную выгоду – стирает ногти и в то же время получает облегчение. Длинные волосы стали у него похожими на плотный войлок, и он растрепал их по голове, чтобы защищаться от солнца и дождя.
Когда Александр пришел на него взглянуть, Кратес ему не сказал ни одного остроумного слова, но отнесся к нему так же, как к прочим зрителями, не делая различия между царем и толпой. У него не было никакого мнения о великих. Они интересовали его так же мало, как боги. Его занимали только люди вообще и способ прожить с наибольшей простотой, какая возможна. Ругательства Диогена так же смешили его, как его претензии менять чужие нравы. Кратес ценил себя слишком высоко для таких вульгарных забот. Они переделал изречение, изображенное на фронтоне Дельфийского храма, и говорил: «Живи сам по себе». Сама мысль о каком-нибудь знании казалась ему нелепой. Он изучал только связь своего тела с тем, что для него необходимо, стараясь ослабить ее, насколько возможно. Диоген кусался, как собака, но Кратес жил, как собака.
Был у него ученик, по имени Метрокл, богатый юноша из Маронеи. Сестра его Гиппархия, прекрасная и знатная, влюбилась в Кратеса.
Достоверно, что, движимая любовью, она пришла к нему. Это кажется невозможным, но это так. Ничто не отвратило ее, – ни нечистоплотность циника, ни его совершенная нищета, ни ужасное общественное положение. Он предупредил ее, что живет, как собака, на улице и подбирает кости в грудах нечистот. Он сказал ей заранее, что в их общей жизни не будет ничего скрытого и он будет брать ее при всех, когда захочется, как кобели делают с суками. Гиппархия на все это дала согласие.
Родители пытались ее удерживать, но она пригрозила самоубийством, и им стало жалко. Она покинула город Маронею, нагая, с распущенными волосами, прикрытая одной старей дерюгой, и стала жить с Кратесом, одеваясь подобно ему. Говорят, у нее был от него ребенок, Пазакл. Но об этом достоверно не известно.
Гиппархия была добра и сострадательна к бедным. Она гладила больных своими рукам и и без малейшего отвращения зализывала у страдавших кровоточивые раны в убеждении, что они для нее то же, что овца для овцы или собака для собаки. Когда было холодно, Кратес и Гиппархия спали с бедными, прижимаясь к ним и стараясь им дать часть теплоты своего тела. Из тех, кто к ним приближался, они не давали предпочтения никому. С них было довольно, что это – люди.
Вот все, что дошло до нас о жене Кратеса. Мы не знаем, когда и как она умерла. Ее брат, Метрокл, преклонялся перед Кратесом и стал его подражателем. Но у него не было спокойствия. Его здоровье было нарушаемо постоянными ветрами, которых он не мог сдержать. Он пришел в отчаяние и решил умереть. Кратес узнал об его несчастий и решил его утешить. Он наелся волчанки, пошел к Метроклу и спросил, действительно ли стыд за свою слабость так его удручает. Метрокл признался, что не в силах больше переносить такое наслание. Тогда Кратес, которого вспучило от волчанки, испустил ветры в присутствии своего ученика и принялся уверять его, что все люди по самой природе подвержены той же неприятности. Потом он укорял его за стыд перед другими, приводя себя самого в пример. В заключение он издал еще несколько звуков, взял Метрокла за руку и увел с собой.
Долгое время они жили вместе на улицах Афин, без сомнения, с Гиппархией. Они говорили друг с другом очень мало. Ничто не вызывало в них стыда. Хотя собаки, что рылись с ними вместе а кучах нечистот, казалось, относились к ним с почтением, но можно было думать, что, дойми их голод, они бы все перегрызлись друг с другом. Однако, биографы не сообщают ни о чем в этом роде.
Известно, что Кратес умер в старости. Под конец он не сходил с места, растянувшись под навесом одного склада в Пирее, где моряки хранили от дождя тюки из гавани.
Он перестал ходить на поиски мясных отбросов для еды и даже больше не хотел протягивать руки поднять их.
Однажды его нашли мертвым, иссохшим от голода.

СЕПТИМА
Заклинательница

Септима была рабыня в городе Гадрумете, под солнцем Африки. И мать ее, Амоена, была рабыней, и мать той была тоже рабыней, и все они были прекрасны и безвестны. И подземные боги открыли им напиток любви и смерти.
Город Гадрумет был белый, и камни дома, где жила Септима, белые с розоватым отливом.
Песок прибережья был усеян раковинами, приносимыми теплым морем от самой земли Египта, с того места, где семь устий Нила изливают ил семи разных цветов. В приморском доме, где жила Септима, было слышно, как умирают серебряные гребни Средиземного моря, а у подножия дома веер блестящих лазоревых линий простирался до самого горизонта.
Руки Септимы были в ладонях окрашены золотом, а концы пальцев – нарумянены. Губы ее пахли миррой, и едва трепетали подрисованные веки. Такой ходила она по дороге предместий, нося в жилище работников мягкие хлебы в корзине.
Септима полюбила одного юношу, свободного, Секстилия, сына Дионисия.
Но не позволено быть любимыми тем, кто знает подземные тайны, ибо подвластны они врагу любви, имя которому Антэрос. И как Эрос правит блеском глаз и острит наконечники стрел, так Антэрос отвращает взгляды и утоляет боль от ран. Это – благодетельный бог, живущий среди мертвых. Он не жесток, как тот. Он владеет непентесом, цветом лилии, дающим забвенье. Зная, что любовь есть худшая из земных болей, он ненавидит любовь и лечит от любви. Но он бессилен изгнать Эроса из занятого им сердца. И тогда он захватывает сердце любимого. Так борется Антэрос с Эросом. Вот отчего Секстилий не мог полюбить Септиму.
Только Эрос поднес факел к груди посвященной, Антэрос, разгневанный, овладел тем, кого она хотела любить.
Септима узнала о победе Антэроса по опущенным взорам Секстилия.
И когда пурпуровая дрожь охватила вечерний воздух, она вышла на дорогу, ведущую от Гадрумета к морю. Это – мирная дорога, где влюбленные пьют финиковое вино, опершись на гладкие стены гробниц. Легкий восточный ветер овевает ароматом кладбище. Молодая луна, еще туманная, здесь бродит неуверенно. Много бальзамированных мертвых покоятся в склепах около Гадрумета. Там же спала Фоннисса, сестра Септимы, рабыня, как и она, умершая шестнадцати лет, прежде чем кто-либо из мужчин вдохнул ее аромат.
Гробница Фонниссы была узка, как ее тело, камень давил ее груди, обвитые пеленами. У самого лба ее длинная плита стояла перед ее невидящим взглядом. С потемневших губ еще срывалось дыхание ароматов, которыми ее умастили. На вещей руке блестел обруч зеленого золота и в нем два бледных неверных рубина. В своем бесплодном сне она вечно грезила о том, чего не знала никогда.
Под девственной белизною новой луны, вдоль узкой гробницы сестры, Септима припала к милосердой земле, и плакала, и билась головой об изваянную гирлянду. Она прижалась устами к отверстию, куда совершали возлияния, и страсть ее достигла предела. «О, сестра, – говорила она, – отвратись от сна и внимай мне. Маленькая лампада, что озаряет первые часы умерших, погасла. Из твоих пальцев выскользнул сосуд цветного стекла, который мы тебе дали. Нить ожерелья порвалась и золотые зерна рассыпались вокруг шеи. Все наше – не для тебя уже, и Тот, Кто носит ястреба на голове, теперь владеет тобою. Выслушай меня, ибо имеешь ты власть донести мои слова. Иди в обитель, которую ты знаешь, и умоли Антэроса. Умоли богиню Гатор. Умоли того, чье рассеченное тело море несло в ящике до самого Библоса. Сестра моя! Сжалься над неведомой тебе болью. Семью звездами халдейских магов я заклинаю тебя. Во имя подземных владык, призываемых в Карфагене – Иао, Абриао, Салбаал, Батбаал – прими мое заклинание. Сделай, чтобы Секстилий, сын Дионисия, был снедаем любовью ко мне, Септиме, дочери матери нашей Амоены. Пусть он сгорает ночами. Пусть ищет меня возле твоей гробницы, о Фоннисса! Или уведи нас обоих во всемогущее жилище мрака. Моли Антэроса заледенить наше дыхание, если не хочет он, чтобы воспламенил его Эрос. Благоухающая усопшая, прими возлияние моего голоса. Ашраммашалала!»
Тотчас дева, обвитая пеленою, с незакрытыми зубами, восстала и опустилась под землю.
И Септима, оробевшая, бежала меж саркофагов. До второй стражи она оставалась среди мертвецов. Она следила за убегающей луной, она отдавала грудь соленым жалам морского ветра. Ее обласкало первое золото дня. Потом пошла она обратно в Гадрумет, и длинная ее голубая одежда развевалась позади.
Между тем Фоннисса, со своим не гнущимся телом, блуждала в подземных пространствах. Но Имеющий ястреба на голове не принял ее моления, и богиня Гатор осталась недвижной на своем разукрашенном ложе. И не могла Фоннисса найти Антэроса, ибо не знала желаний. Но в увядшем своем сердце она ощутила жалость, какую мертвые питают к живущим.

И вот на вторую ночь, в час, когда мертвецы получают свободу для волхований, с ногами, обвитыми пеленою, она шла но улицам Гадрумета.
Грудь Секстилия мерно вздымалась во сне при каждом вздохе, и лицо его было обращено к потолку, расчерченному ромбами. И мертвая Фоннисса, в благовонных пеленах, села возле него. У нее не было ни внутренностей, ни мозга, но в груди было вложено ее иссохшее сердце.
В тот миг Эрос поборол Антэроса и овладел бальзамированным сердцем Фонниссы. Тотчас пожелала она тела Секстилия, чтобы лежало оно между нею и сестрою Септимою в жилище мрака. Фоннисса прильнула своими окрашенными губами к живым устам Секстилия, и жизнь отлетела от него, как дым.
Оттуда пришла она к рабыне Септиме и взяла ее за руку. И спящая Септима повиновалась руке сестры. И поцелуй Фонниссы, и пожатие руки Фонниссы почти в один час принесли смерть Септиме и Секстилию. Таков был печальный конец борьбы Эроса с Антэросом. И подземным владыкам достались разом – рабыня и свободный.
Секстилий покоится в некрополе Гадрумета между заклинательницей Септимой и сестрой ее, девственной Фонниссой.
Текст заклинания начертан на свинцовой таблице, свернут и пробит тем гвоздем, что опустила Септима через отверстие для возлияний в гробницу сестры своей.

ЛУКРЕЦИЙ
Поэт

Лукреций явился на свет в большом семействе, стоявшем совсем в стороне от общественной жизни. Первые дни его прошли в тени черного портика высокого дома в горах, с строгим атриумом и безмолвными рабами. С самого детства его окружало презрение к политике и к людям. Благородный Меммий, его ровесник, разделял игры в лесу, затеваемые Лукрецием. Они вместе удивлялись морщинам старых деревьев и следили, как зыблется под солнцем листва, словно освещенный зеленым парус, усыпанный золотыми пятнами. Они часто наблюдали полосатые спины кабанов, роющих землю. Им попадались неугомонные рои пчел и движущиеся полчища куда-то спешащих муравьев.
Однажды на лесной опушке они вышли на лужайку, окруженную старыми пробковыми дубами, стоявшими так близко друг к другу, что круг их открывал в небе голубой колодец. Бесконечное спокойствие царило в этом убежище. Казалось, стоишь на широком светлом пути, ведущем к божественной высоте. И здесь сошла на Лукреция благодать безмятежных пространств.
Вместе с Меммием оставил он спокойный храм лесов для изучения ораторского искусства в Риме. Старый патриций, владевший высоким домом, дал ему наставника-грека и сказал, чтоб он не возвращался раньше, чем приобретет искусство презирать человеческие дела. Лукреций его больше не видел: он умер одиноким, ненавидя по-прежнему суету общественной жизни.
Когда Лукреций вернулся, он ввел в высокий опустелый дом, к строгому атриуму, среди безмолвных рабов, африканскую женщину, прекрасную, дикую и злую.
Меммий тоже вернулся в дом своих предков. Лукреций нагляделся на кровавые заговоры, на войны партий, на политический разврат. Теперь он был влюблен.
Вначале жизнь была для него очаровательной. Африканка любила стоять у разрисованных стен, прислоняясь к ним массой своих курчавых волос, и всем телом отдаваться подолгу неге ложа. Кубки, полные темным вином, брала она руками, отягченными изумрудами, мерцающими внутри.
У нее была своеобразная привычка – поднимать кверху палец и вскидывать голову. Источник ее улыбок был мрачен и глубок, как реки Африки. Вместо того, чтобы прясть шерсть, она терпеливо рвала ее на мелкие клочья, летавшие вокруг.
Лукреций пламенно желал слиться с ее прекрасным телом. Он сжимал ее груди, цветом подобные металлу, и приникал устами к темно-фиолетовым губам. Они менялись словами любви, то смеясь, то вздыхая, но однажды слов не хватило. И они коснулись упругой матовой завесы, разделяющей любовников. Их страсть дошла до ярости и изменила свой лик. Был достигнут тот острый предел, когда она разливается вокруг тела, не проникая в него. Африканка вся сжалась и стала далекой. Лукреций был в отчаянии, что не смог увенчать любовь. Женщина сделалась надменной, угрюмой, молчаливой, подобно атриуму и рабам.
Лукреций бродил по книгохранилищу. Здесь он развернул свиток, на котором был переписан трактат Эпикура.
И разом открылась ему изменчивость вещественного мира и бесполезность бороться с идеями. Вселенная показалась ему похожей на маленькие клочки шерсти, разбросанные по залам пальцами африканки. Гроздья пчел, колонны муравьев, зыблющаяся ткань листвы, – все это стало для него лишь сочетанием сочетаний атомов. В самом теле своем он почувствовал невидимый, взаимно враждебный народ, стремящийся разъединиться. И любимые взгляды показались ему не более, чем лучами, все-таки материальными, и весь образ прекрасной дикарки – лишь милой раскрашенной мозаикой.
И почувствовал он, что смысл всего этого бесконечного движения – печален и бесцелен. Как некогда на кровавые заговоры Рима с их наглыми шайками вооруженных клиентов, он глядел на круговращение группы атомов, окрашенных одинаковой кровью и оспаривающих друг у друга свое темное первенство. И увидел он, что смертный распад – только освобождение этой буйной толпы, которая тотчас отдастся тысячам других ненужных движений.
И вот, когда свиток папируса, где греческие слова сплетались подобно атомам мира, сделал все ясным для Лукреция, он вышел в лес через черный портик высокого дома предков.
Он увидел полосатые спины кабанов, как всегда уткнувшихся носом в землю. Потом, миновав опушку, он очутился в знакомом ему лесном безмятежном храме, и взгляд его потонул в голубом небесном колодце. Здесь он обрел мир. Отсюда предстала ему подобная муравейнику бесконечность вселенной: все камни, все растения, все деревья, все звери, все люди с их красками, с их страстями, с их орудиями, – в истории всех этих различных вещей, их рождения, их болезни и их смерти. И сквозь смерть, всеобщую и неизбежную, видел он ясно одну только смерть африканки. И плакал…

Он знал, что плач происходит от особого сжатия небольших желез под веками, приводимых в движение рядом атомов, исходящих из сердца, а тому дан толчок последовательными световыми образами, что отделяются от поверхности тела любимой женщины. Он знал, что любовь – не что иное, как набухание атомов, стремящихся соединиться с другими. Он знал, что печаль, причиняемая смертью любимой – только худшее из земных заблуждений, потому что умершая перестала быть несчастной и уже не страдает, тогда как плачущий по ней болеет собственным горем и мрачно думает о собственной смерти. Он знал, что ни у кого из нас не останется двойника, чтоб проливать слезы над собственным трупом, простертым у ног его. Он знал хорошо, что печаль, и любовь, и смерть – лишь пустые образы, когда смотришь на них из спокойного пространства, где нужно замкнуться. И все же он по-прежнему плакал, и желал любви, и боялся смерти…
Вот почему он вернулся в высокий и мрачный дом предков и подошел к прекрасной африканке.
Она варила на жаровне напиток в металлическом сосуде. В его отсутствие она размышляла тоже, и думы ее восходили к таинственному источнику ее улыбок.
Лукреций следил за еще кипевшим питьем. Оно мало-помалу светлело и стало похожим на мутно-зеленое небо. И прекрасная африканка вскинула голову и подняла палец кверху. Лукреций выпил зелье.
И тотчас исчез его разум, и забыл он все греческие слова и свиток папируса. И впервые, безумный, он узнал любовь, а ночью, отравленный, он узнал смерть.





![Книга Полное собрание сочинений. В 3 томах. Том 2 [Драматические сочинения. Стихотворения. Статьи. Путевые заметки] автора Александр Грибоедов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-polnoe-sobranie-sochineniy.-v-3-tomah.-tom-2-dramaticheskie-sochineniya.-stihotvoreniya.-stati.-putevye-zametki-202532.jpg)

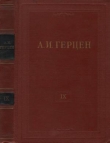

![Книга Полное собрание сочинений. В 3 томах. Том 3 [Письма. Документы. Служебные бумаги] автора Александр Грибоедов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-polnoe-sobranie-sochineniy.-v-3-tomah.-tom-3-pisma.-dokumenty.-sluzhebnye-bumagi-99419.jpg)