
Текст книги "Воображаемые жизни
Собрание сочинений. Том III"
Автор книги: Марсель Швоб
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Марсель Швоб
ВООБРАЖАЕМЫЕ ЖИЗНИ
Собрание сочинений
Том III


Марсель Швоб «Воображаемые жизни»
Подобно тому испанцу, который под воздействием книг превратился в «Дон Кихота», Марсель Швоб, прежде чем сделать своей судьбой и обогатить своими произведениями литературу, был замечательным читателем. На долю ему выпала Франция, самая литературная из стран мира. На долю ему выпал девятнадцатый век, не желавший ни в чем уступать предшествовавшему. От предков-раввинов Швоб унаследовал одну из традиций Востока, соединив ее с многочисленными традициями Запада. Пространства бездонных библиотек всегда были для него своими. Он изучил греческий и перевел Лукиана Самосатского. Как многие французы, был влюблен в англоязычную словесность. Безраздельно обожал Уитмена и По. Увлекся средневековым арго, которым орудовал Франсуа Вийон. Открыл и перевел роман «Молль Флендерс», который наверняка немалому научил его в редком искусстве изобретать.
Его «Воображаемые жизни» написаны в 1896 году. Он придумал для них занятный метод. Главные герои реальны, тогда как обстоятельства действия выдуманы, а порою и просто фантастичны. Эта двойственность и придает книге неповторимый вкус.
Почитатели Марселя Швоба существуют во всем мире, составляя небольшие тайные общества. Он не искал славы и вполне сознательно писал для избранных, для happy few. Посещал кружки символистов, дружил с Реми де Гурмоном и Полем Клоделем.
В 1935 году я написал немудреную книгу под названием «Всемирная история бесславья». Одним из многочисленных и до сих пор не замеченных критикой источников для нее послужили «Воображаемые жизни» Марселя Швоба.
Его жизнь уместилась между годами 1867-м и 1905-м.
Хорхе Луис Борхес


Предисловие

Историческая наука оставляет нас в сомнении относительно личностей. Она отрывает нам только те точки, где они были связаны с явлениями общими. Она говорит, что Наполеону нездоровилось в день Ватерлоо, что следует приписать исключительную умственную деятельность Ньютона безусловной сдержанности его темперамента, что Александр был пьян, когда убил Клита, и свищ Людовика XIV мог быть причиною некоторых из его решений. Паскаль задается мыслью о носе Клеопатры – что сталось бы, будь он короче – или о песке в мочевом пузыре Кромвелля.
Все эти личные черты имеют значение лишь потому, что они меняют события или могут вывести их из общей цепи. Эти причины, действительные или возможные, надо оставить ученым.
Искусство враждебно общим идеям. Оно описывает только личность и ищет только единства. Оно не классифицирует: оно разлагает. Конечно, наши общие идеи могут походить на те, что существуют на Марсе, и три линии, пересекаясь, составят треугольник в любой точке вселенной. Но посмотрите на древесный лист с его капризными жилками, с его оттенками, меняемыми тенью и солнцем, посмотрите на нем припухлость от упавшей капли дождя, укол, оставленный насекомым, серебристый след маленькой улитки, первую смертную позолоту, что налагает осень; найдите такой же другой во всех дубравах земного шара: бьюсь об заклад, – не найдете.
Нет науки о покровах одного листочка, о волокнах одной клетки, о сгибах одной вены, о законах одной привычки, об изломах одного характера.
Если у данного человека нос крючком, один глаз выше другого, сустав руки узловатый; если у него привычка в такой-то час есть белое мясо курицы; если «Мальвуази» он предпочитает «Шато-Марго», – этому нет параллели на свете. Сократу или Фалесу легко было говорить: γνώθι σεαυτόν[1]1
«Познай себя» (гр.).
[Закрыть], но и Сократ не сумел бы дважды почесать себе ногу в тюрьме одинаковым образом перед тем, как выпить цикуту.
Мысли великих людей – общее достояние человечества: в действительности каждый из них владел только своими странностями. Книга, описавшая человека во всех его уклонах, была бы созданием искусства, как японский эстамп, где закреплено навек изображение маленькой гусеницы, увиденной один раз и в определенный час дня.
О всем этом история молчит. В сухом собрании материалов, почерпнутых из разных источников, мало черт единственных и неповторяемых. Особенно здесь скупы старинные биографы. Ценя только общественную жизнь или литературу, они передали нам о великих людях лишь речи и заглавия их книг. Если бы не сам Аристофан, мы бы так и не имели удовольствия знать, что он был лыс, и если бы вздернутый нос Сократа не послужил для литературных сравнений, а его привычка ходить босиком не входила в его философское учение о презрении к плоти, не сохранилось бы от него ничего, кроме вопросов морали. Сплетни Светония – только злобная полемика. Добрый гений Плутарха иногда делал из него художника, но он не понимал сущности своего искусства, иначе не изобрел бы метода параллелей, как будто два человека, точно описанные во всех деталях, могут походить друг на друга. Приходится сверяться с Афинеем, с Авлом Геллием, со схолиастами и с Диогеном Лаэрцием, думавшим, что он сочинил нечто вроде «Истории философии».
В большей мере чувство личности развилось в современности. Труд Босвелля был бы совершенным, если бы он не счел нужным приводить переписку Джонсона и рассуждения по поводу его книг. Более удачно «Жизнеописание знаменитых людей» Обрэя. У него, без сомнения, было чутье биографа. Досадно, что стиль этого замечательного знатока древности не стоит на высоте его общего замысла! Тогда его книга была бы вечным отдыхом для пытливых умов. Обрэй никогда не чувствовал потребности установить связь между личными особенностями и общими идеями. Для прославления людей, которые его интересовали, он довольствовался тем, что уже раньше отметили другие. Почти все время не знаешь, о ком идет речь, – математик ли это, государственный человек, поэт или часовщик. Но у каждого из них есть своя единая черта, что отличает его от других навсегда.
Художник Хокусаи к стодесятилетнему возрасту надеялся дойти до идеала своего искусства. «Тогда, – говорил он, – каждая точка, каждая линия, проведенная кистью, будут живыми». Под живыми надо разуметь индивидуальные. Нет ничего более сходного, чем точки и линии: геометрия основана на этом положении. Совершенное искусство Хокусаи требовало, чтоб не было ничего более различного.
Итак, идеалом биографа должно бы быть тончайшее разграничение обликов двух философов, создавших почти одинаковые теории. Обрэй, хотя к каждому человеку он подходит по-особому, не достиг совершенства; он не сумел осуществить чудодейственного превращения, на которое надеялся Хокусаи, то есть сходства в различии. Но Обрэй не дожил до ста десяти дет. При всем том он очень почтенен и прекрасно понимал значение своей книги. «Я помню, – говорит он в предисловии к „Antony Wood“, – слова генерала Ламбера: That the best of men are but men at the best[2]2
«Лучшие из людей – в лучшем случае люди» (англ.).
[Закрыть], и тому вы найдете различные подтверждения в этой беспощадной и слишком ранней коллекции. Но все эти алхимические зелья не следовало бы выносить на свет раньше, как лет через тридцать. Следует, по правде, чтобы и автор, и действующие лица до тех пор сгнили».
Можно найти у предшественников Обрэя некоторые зачатки его искусства. Так, Диоген Лаэрций сообщает, что Аристотель носил на животе кожаный мех с горячим маслом и по смерти у него в доме нашли множество глиняных сосудов. Мы никогда не узнаем, что делал Аристотель со всем этим горшечным хламом, и эта тайна нам так же приятна, как догадки, что оставляет Босвелль по поводу употребления Джонсоном сухих апельсинных корок, которые он имел привычку хранить к карманах. Здесь Диоген Лаэрций почти достигает уровня неподражаемого Босвелля. Но все это редкие удовольствия. Между тем, Обрэй доставляет их нам на каждом шагу. «Мильтон, – говорит он, – произносил букву „р“ очень твердо. Спенсер был мал ростом, носил короткие волосы, маленькую манишку и маленькие манжеты. Барклай жил одно время в Англии при короле Иакове. Он был тогда человек старый, с седой бородой и носил шляпу с пером, что скандализировало некоторых строгих лиц. Эразм не выносил рыбы, хотя и родился в рыбачьем городе. Что до Бэкона, то ни один из его служителей не смел являться к нему иначе, как в сапогах из испанской кожи: запах телячьей, который был ему неприятен, он чувствовал сразу. Доктор Фуллер так сильно отдавался умственному труду, что во время предобеденной прогулки, среди размышлений, съедал, сам того не замечая, хлеб в два су». О сэре Вильяме Давенане он замечает: «Я был на его похоронах; у него был гроб из орехового дерева; сэр Джон Денгам уверял, что это самый красивый гроб, какой он когда-либо видел». Он пишет по поводу Бена Джонсона: «Я слышал, как актеру Ласи рассказывали, что у него была привычка носить пальто вроде кучерского, с разрезами под мышкой». Вот что поражает Обрэя у Вильяма Прина: «Его манера работать была такова: он надевал на голову длинный пикейный колпак, спадавший на глаза по крайности пальца на два-три и служивший абажуром для защиты глаз от света, и примерно каждые три часа слуга должен был приносить ему хлеб и кружку эля для подкрепления мыслей; он работал, пил, жевал свой хлеб и таким образом протягивал до ночи, когда основательно ужинал. Гоббс к старости совсем облысел, но все-таки дома у него была привычка работать с открытой головой; он говорил, что никогда не простужается, но ему очень надоедает мешать мухам садиться на его лысину». Обрэй ничего не говорит нам об «Осеапа» Джона Гаррингтона, но рассказывает, что автор «Anno Domini 1660» был сослан в качестве узника сперва в Тур, где его держали несколько времени, а потом в Portsey Castle. Его пребывание в этих тюрьмах послужило впоследствии почвой для бреда или помешательства, впрочем, не буйного, так как говорил он достаточно разумно и был очень приятен в обществе. У него была фантазия, что его пот превращается в мух, а иногда в пчел ad cetera sobrius. Чтоб проследить это, он выстроил в саду некоего Гарта (против Сент-Джемсского парка) передвижной досчатый домик. Он поворачивал его к солнцу и садился напротив. Затем по его приказанию приносили лисьих хвостов и ими выгоняли и били всех мух и пчел, которые там окажутся; потом он закрывал ставни. Но так как опыт этот он делал только в жаркое время года, само собой, несколько мух забивались в щели и в складки драпировок.
Через каких-нибудь четверть часа жара заставляла одну, другую, третью муху вылезать из их дырок, и тогда он восклицал: «Разве вы не видите ясно, что они выходят из меня?»
Вот все, что Обрэй говорит о Маритоне: «Настоящее его имя было Head. Бовэй знал его хорошо. Родился там-то… был одно время книгопродавцем в Малом Бритэне. Живал среди цыган. С виду был бездельник с наглыми глазами, умел принимать какой угодно вид. Два или три раза разорялся. Под конец стал опять книгопродавцем. Незадолго до смерти ему приходилось много строчить, чтобы просуществовать. Ему платили по 20 шиллингов за лист. Написал несколько книг, „The English Rogue“, „The Art of Wheadling“ и другие. Утонул в открытом море, во время переезда в Плимут, около 1676 года, в возрасте около 59-ти лет».
Наконец, надо привести его биографию Декарта.
M-eur Renatus Des Cartes
«„Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus Mathematicus et Philosophus, natus Turonum, pridie Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Calendis Februarii, 1650“[3]3
«Благородный француз, сеньор дю Перрон, превосходный математик и философ, родился в Турене в канун первого апреля 1596. Умер в Стокгольме в феврале 1650» (лат.).
[Закрыть]. (Я нахожу эту надпись под его портретом кисти С. V. Dalen).
Как проводил он время в молодости и каким образом сделался таким ученым, он рассказывает в своем трактате, озаглавленном „О методе“. Коллегия Иисуса гордится тем, что Ордену выпала честь его воспитания.
Несколько лет он жил в Эгмонте (близ Гааги), которым помечены его некоторые книги. Это был человек слишком мудрый, чтоб обременять себя женой, но, как мужчина, имел желания и похоть мужчины; поэтому он содержал красивую женщину хорошего поведения, любил ее и от нее имел нескольких детей (кажется, двух или трех). Было бы очень удивительно, если бы, происходя от такого отца, они не получили хорошего образования. Он был таким выдающимся ученым, что все другие ученые посещали его, и многие из них просили его показать им свои… приборы. (В то время математическая наука была тесно связана с употреблением приборов и, по выражению Sr. H. S., с применением шарлатанских приемов). Тогда он выдвигал из-под стола маленький ящик и показывал им циркуль, у которого была сломана одна ножка; вместо линейки он пользовался сложенным вдвое листом бумаги».
Ясно, что Обрэй давал себе полный отчет в своей работе. Не думайте, что он не знал цены философским идеям Декарта или Гоббса, но не это его интересовало. Он очень хорошо говорит, что Декарт сам изложил свое учение человечеству. Он хорошо знает, что Гарвей открыл кровообращение, но предпочитает отметить, что этот великий человек во время бессонницы разгуливал в рубашке, что у него был скверный почерк, и известнейшие доктора Лондона не дали бы шести су ни за один его рецепт. Обрэй уверен, что осветил нам Франциска Бэкона, сообщив, что у него был глаз острый и нежный, цвета ореха, подобный глазу змеи. Но Обрэй не такой великий художник, как Гольбейн. Он не умеет запечатлеть для вечности личность в ей одной присущих чертах на фоне ее сходства с идеалом. Он дает жизнь глазу, носу, ноге, гримасе своей модели, но не умеет оживить всей фигуры. Старый Хокусаи хорошо видел, что придется превратить в индивидуальное то, что является наиболее общим. У Обрэя не было такого проникновения.
Если бы книга Босвелля заключалась в десяти страницах, она была бы давно ожидаемым произведением искусства. Здравый смысл доктора Джонсона состоит из общих мест и притом самых вульгарных; выраженный с своеобразной грубостью, которую Босвелль сумел очертить, он обладает качеством, в своем роде единственным. Эта грузная пропись сродни лексиконам того же автора, и из всего этого можно бы извлечь одну «Scientia Johnsoniana» с соответственным указателем. Босвелль не имел эстетической решимости сделать выборку.
Искусство биографа состоит именно в выборе. Ему нечего заботиться о правде; он должен творить из хаоса человеческих черт. Лейбниц говорит, что, создавая мир, Бог выбрал лучшую из возможностей. Биограф, как низшее божество, умеет выбирать из человеческих возможностей ту, которая единственна. Он не должен ошибаться в искусстве, как Бог не ошибается в милосердии. Необходимо, чтобы прозрения обоих были непогрешимы. Терпеливые Демиурги собрали для биографа мысли, игру лица, события. Их работа содержится в хрониках, мемуарах, письмах, заметках. Из этого грубого материала биограф выбирает то, из чего может создать образ, не похожий ни на один другой. Нет нужды, чтобы он был одинаков с тем, который в свое время был создан Всевышним, только бы он был единственным, как любое из творений.
К несчастью, биографы обычно думали, что они – историка. Этим они лишили нас восхитительных портретов. Они полагали, что нас может интересовать только жизнь великих.
Искусство чуждо этих соображений. В глазах художника портрет неизвестного, писанный Кранахом, имеет такое же значение, как и портрет Эразма. Ведь не из-за имени Эразма эта картина неподражаема. Искусство биографа – дать жизни бедного актера такую же ценность, как жизни Шекспира. Лишь низкий инстинкт заставляет нас с удовольствием отмечать узость грудной клетки в бюсте Александра или прядь на лбу Наполеона… Улыбка Монны Лизы, о которой мы ничего не знаем (быть может, это даже лицо мужчины), оттого еще более таинственна. Гримаса, нарисованная Хокусаи, наводит на глубочайшие размышления.
Если браться за искусство, над которым работали Босвелль и Обрэй, без сомнения следует не кропотливо изображать величайшего человека своего времени или писать характеристики самых знаменитых людей прошлого, а рассказывать с таким же тщанием единичные жизни людей, каковы бы они ни были: божественны, срединны или преступны.
ЭМПЕДОКЛ
Мнимый бог

Никто не знает о его рождении, ни о том, как пришел он в мир. Он появился у золотистых берегов реки Акрагаса, в прекрасном городе Агригенте, немного времени после того, как Ксеркс приказал бить море цепями. Предание говорит, что одного из предков его звали тоже Эмпедоклом: но никто не знал его. Под этим, без сомнения, нужно понимать, что он был сыном самого себя, как подобает богу. Ученики его уверяют, что прежде чем пройти в славе своей по полям Сицилии, он уже прожил из свете четыре существования и был растением, рыбой, птицей и девушкой. На нем был пурпуровый плащ, на который спадали его длинные волосы, вкруг головы золотая повязка, на ногах медные сандалии, в руках гирлянды, сплетенные из лавров и рунной волны.
Возложением рук он исцелял больных и пел стихи гомеровским распевом, с торжественными ударениями, стоя на колеснице, с головой, поднятой к небу. Толпа народа шла за ним и падала ниц, слушая его поэмы. Под чистым небом, освещающим нивы, люди отовсюду приходили к Эмпедоклу с руками, полными приношений. Он приводил их в экстаз, воспевая божественный свод из кристалла, громаду огня, что мы называем солнцем, и любовь, которая объемлет все, подобная огромной сфере.
Все существа, – говорил он, – суть только разрозненные части этой сферы любви, в которую проникла ненависть. И то, что мы называем любовью, есть стремление соединиться, поглотиться и раствориться, как мы были когда-то, в лоне шарообразного божества, расторгнутого враждою. Он возвещал, что будет некогда день, когда божественная сфера восполнится вновь после всех преобразований душ. Ибо Мир, что мы знаем, есть дело ненависти, и его распадение будет делом любви.
Так пел он по городам и полям, и медные лаконийские сандалии звенели на его ногах и перед ним звучали кимвалы. А между тем, из пасти Этны подымался столб чернаго дыма, бросавший тень на всю Сицилию.
Подобный властителю небес, Эмпедокл был одет в пурпур и опоясан золотом, тогда как пифагорейцы ходили в простых льняных туниках и в обуви из папируса.
Говорили, он умел сводить глазной гной, разгонять опухоли и вытягивать боль из членов; его умоляли прекратить дожди и грозы; он заклял бури на окружности холмов в Селинунте; он изгнал лихорадку, перелив две реки в русло третьей, и жители Селинунта поклонились ему и воздвигли ему храм, и выбили медаль, где изображение его было рядом с изображением Аполлона. Иные уверяли, что он был предсказателем и учеником персидских магов, что он владел искусством некромантии и знанием трав, наводящих безумие. Однажды, когда он обедал у Анхита, какой-то разъяренный человек ворвался в залу с поднятым мечом. Эмпедокл встал, протянул руку и запел стих Гомера о непентесе, цвете лилии, дающем забвенье. И тотчас сила непентеса охватила того, и он остался недвижен с взнесенным мечом, забыв все, как будто выпил он сладкого яда вместе с пенистым вином кратера.
Больные приходили к Эмпедоклу издалека, и он был окружен толпой несчастных. Вместе с другими шли за ним женщины, целуя края его драгоценного плаща. Одна из них, по имени Пантея, была дочь знатного человека из Агригента. Ее должны были посвятить Артемиде, но она убежала от холодной статуи богини и обрекла свою девственность Эмпедоклу. Никто не видел меж ними знаков любви, ибо Эмпедокл хранил божественное бесстрастие. Он говорил только эпическим размером и на ионийском наречии, хотя народ и его последователи употребляли дорийское. Все движения его были священны. Он приближался к людям только исцелять или благословлять, большую же часть времени проводил в молчании. И никто никогда из шедших за ним не видал его спящим. Его видели неизменно величественным…
Пантея была одета в золото и тонкую шерсть. Волосы ее были убраны по роскошной моде изнеженного Агригата. Ее груди поддерживал красный пояс, и подошвы сандалий ее были напитаны благовониями. К тому же была она прекрасна, было стройное у нее тело, и цвет его возбуждал желания. Нельзя было утверждать, что Эмпедокл любил ее, но он ее жалел. Случилось, что дыхание азийского ветра принесло чуму на поля сицилийские. Многих коснулась черными пальцами беда. Даже животные устилали своими трупами луга, и всюду виднелись мертвые с облезшей шерстью овцы, с разинутыми глотками, обращенными к небу, и с разбухшими боками. Этой болезнью занемогла и Пантея; она упала к ногам Эмпедокла и более не дышала. Те, что были кругом, подняли окоченевшее тело и омыли его ароматами и вином. Они развязали красный пояс, сжимавший молодые груди, и обвили ее пеленами. Полуоткрытый рот был стянут повязкой, и впалые глаза не отражали света.

Эмпедокл взглянул на нее, снял золотой обруч, окружавший ему голову, и возложил на нее. Он положил на ее груди гирлянду пророческих лавров, пропел никому не ведомые стихи о переселении душ и трижды приказал ей – встать и ходить. Толпа была объята ужасом. По третьему зову Пантея вышла из царства теней, и тело ее ожило и встало на ноги, все окутанное в погребальные покровы. И народ увидел, что Эмпедоклу дано воскрешать усопших.
Пизианакт, отец Пантеи, пришел поклониться новому богу. Под деревьями были установлены столы совершить в честь его возлияние. По обе стороны Эмпедокла рабы держали большие факелы. Глашатаи призвали, как во время мистерий, к благоговейному молчанию. Внезапно, на третьей страже, факелы погасли и ночь окутала молящихся. И был громкий голос, который звал: Эмпедокл! Когда появился свет, Эмпедокл исчез. Больше его не видел никто.
Один невольник рассказывал с ужасом, что видел красную черту, прорезавшую мрак по направлению к вершине Этны.
При хмуром свете зари верные взошли по бесплодным склонам горы. Кратер вулкана извергал сноп пламени. На пористом краю лавы, близ пылающей бездны, нашли медную полурасплавленную сандалию.





![Книга Полное собрание сочинений. В 3 томах. Том 2 [Драматические сочинения. Стихотворения. Статьи. Путевые заметки] автора Александр Грибоедов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-polnoe-sobranie-sochineniy.-v-3-tomah.-tom-2-dramaticheskie-sochineniya.-stihotvoreniya.-stati.-putevye-zametki-202532.jpg)

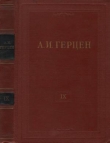

![Книга Полное собрание сочинений. В 3 томах. Том 3 [Письма. Документы. Служебные бумаги] автора Александр Грибоедов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-polnoe-sobranie-sochineniy.-v-3-tomah.-tom-3-pisma.-dokumenty.-sluzhebnye-bumagi-99419.jpg)