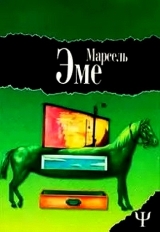
Текст книги "Ящики незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
В одиннадцать часов я поднялся на третий этаж здания по улице Монсо, где размещалась компания СБЭ. Меня почти сразу ввели в огромный, шикарно обставленный кабинет президента. Войдя, я увидел Лормье. Он сидел в конце длинного стола и выглядел в точности так, как мне его описала Татьяна. В трех метрах от него в жалкой позе стоял человек.
– Вы поняли меня? – спросил Лормье.
– Да, господин президент.
– Тогда убирайтесь, подонок. И чтобы это больше не повторялось.
Человек повернулся, и я увидел его искаженное лицо, блестящие от слез глаза. Мне подумалось, что вряд ли он стал бы разыгрывать комедию передо мной, скорее Лормье нарочно пригласил меня в кабинет в кульминационный момент выговора. Он улыбнулся мне и любезно заговорил:
– Мадемуазель Татьяна Бувийон говорила мне о ваших несчастьях и о желании найти работу. Поскольку она считает вас умным и трудолюбивым человеком с безупречной моралью, я думаю, вы здесь сможете найти себе применение соответственно вашим достоинствам и способностям. Вы работали бухгалтером?
– Когда в 53-м умер мой отец, мне пришлось зарабатывать на жизнь себе и младшему брату. Я поступил на место, которое занимал мой отец в одной из фирм Сантье, и стал там главным бухгалтером.
– А ваши работодатели собирались снова взять вас на работу после вашего освобождения?
– Конечно же, нет. Когда мой адвокат пригласил их представить в суде мой моральный облик, они отказались, убоявшись нанести ущерб репутации фирмы.
– Не могли бы вы рассказать, как вы познакомились с мадемуазель Татьяной Бувийон?
– Мы родились в одном доме на улице Сен-Мартен, из которого она уехала в тринадцать лет. С тех пор мы поддерживаем дружеские отношения, хотя видимся достаточно нерегулярно.
– Придерживаетесь ли вы каких-либо политических взглядов?
– Я никогда не входил ни в какую партию.
– Этого достаточно. Если я правильно понял, когда ваш отец умер, вы учились?
– Я закончил коммунальную школу и поступил в лицей, а когда получил вторую степень бакалавра, мне оставалось всего три месяца до призыва в армию. Я мог бы получить отсрочку, однако колебался, зная, что расходы за длительную учебу частично придется нести отцу, потому что репетиторство по греческому и латыни, которое мне удалось раздобыть, не могло обеспечить мое содержание. Я решил сначала отслужить, чтобы дать возможность отцу отдышаться да и самому получить время на раздумья. Отец умер внезапно, через две недели после моего возвращения из Германии.
Лормье слушал меня с видимым интересом. Черты его бесформенного, заплывшего жиром лица были удивительно тонкие, почти детские, а глаза – фиолетового цвета – необыкновенно выразительные. Мои пояснения – с их поучительностью – давали ему возможность понять на живом примере, с какими трудностями сталкивается молодежь для того, чтобы учиться, и по его физиономии четко прослеживалось, какое удовольствие это ему доставляет. Он заметил, весело прищурившись:
– Вы все-таки ускользнули от войны в Алжире?
– Я разделил судьбу своих одногодков.
– Это же было в 50-м? Вы могли бы попроситься в Индокитай…
Я улыбнулся, очевидно, несколько хитровато. Но пока я собирался с мыслями, чтобы ответить поязвительнее, время ушло. Лормье спросил, когда я хотел бы приступить к работе. Я ответил, что свободен, и мы договорились, что я выйду завтра же. Мне необходимо было дело, чтобы мои тело и разум были чем-нибудь заняты. Одна только мысль о предстоявшем бездействии вызывала у меня большой страх.
Выйдя из здания СБЭ в половине двенадцатого, я направился пешком к улице Сен-Мартен. Я не собирался идти к брату. Войти в дом, где я совершил преступление, встретиться со взглядами жильцов мне казалось почти немыслимым. Был уже почти полдень, когда я пересек улицу Сен-Мартен, двигаясь по улице Реомюра.
И на мостовой, и на тротуаре движение было очень оживленным, и я чувствовал себя среди толпы, как в укрытии. Я обошел вокруг церкви Святого Николая Полевого, снова пересек мостовую и, выходя на улицу Тюрбиго, столкнулся нос к носу с Валерией. Брюнетка с платиновым отливом, невысокого роста, с живыми глазами, она была хорошо сложена. Встреча оказалась неожиданной – для нее, я же в тюрьме много думал о таком случайном столкновении на улице.
– Здравствуй, дорогая, – воскликнул я. – Какое счастье видеть тебя после двух лет разлуки. Ты рада нашей встрече?
Она, взглянув на меня с ужасом и растерянностью, пробормотала:
– Да, конечно.
Я взял ее за руку и увлек за собой в соседнюю улочку, не встретив с ее стороны ни малейшего сопротивления.
– Знаешь, в тюрьме я много думал о тебе и днем, и ночью. Как прекрасно, что наша любовь выдержала такую долгую разлуку. Не правда ли, это чудесно?
Она согласно кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Я заговорил о нашей первой встрече в баре на улице Реомюра, где мы очутились как-то рядом у стойки за утренним сэндвичем. Валерия время от времени поднимала на меня испуганные глаза, выдавливая из себя бесцветным голосом:
– Да, помню.
Я остановился у входа в дешевую гостиницу и подтолкнул Валерию к двери.
– Проходи.
В ее черных глазах появились огоньки гнева, она как бы решилась воспротивиться, сказав, что у нее нет времени, но видя холодное и решительное выражение моего лица, она подчинилась страху. Горничная проводила нас в унылый, не очень чистый номер со вспученными от влаги обоями, зажгла единственную лампочку под потолком и задернула на окне шторы. Валерия, похоже, смирилась с тем, что должно было случиться, лицо ее разгладилось, взгляд стал мягче. Я взял ее руки в свои и стал говорить о счастливых днях и о днях, которые медленно текли вдали от нее.
– Чаще всего, когда я думал о тебе в камере, я представлял тебя в голубом платье, которое было на тебе два года тому назад, помнишь, то голубое платье с обшитыми белым петлицами, либо в твоем светлом плаще, когда ты туго завязывала пояс – талия у тебя тогда была вот такая, – или же без платья, вовсе без одежды. Разденься, дорогая.
В нетопленном номере было холодно. Без особого желания она сняла синюю клеенчатую куртку на войлочной подкладке, потом платье. Чтобы как-то погасить волнение, которое не могло не охватить меня при этаких метаморфозах, я начал для забавы отмечать прогресс, достигнутый за время моего заключения в пошиве дешевой женской одежды. Еще когда я бродил вчера и сегодня утром по улицам Парижа, то заметил, глядя на прохожих, как обогатился в этом смысле город за два года. На Валерии оставались уже только трусики да лифчик. Я заставил ее снять и их, прищурил глаза и нахмурил брови.
– Ну и ну! Что с тобой случилось? Любопытно, действительно любопытно.
Валерия испуганно прикрыла обеими руками грудь, которая, впрочем, не изменилась. Мой взгляд медленно опустился на живот, на бедра, и мне удалось выдавить из себя смешок, пришедшийся довольно кстати и не казавшийся сильно искусственным. Валерия зарделась.
– Повернись-ка.
Смущенная от ощущения своих недостатков, она неловко повернулась, и мне предстала обратная сторона – очаровательный ансамбль, стройные ноги, круглые ляжки, выпуклые ягодицы, хорошо очерченные бедра с весьма чистой формы углублением.
– Боже мой! – тихо воскликнул я.
– Что еще?
– Да так, ничего.
Я отошел в глубь комнаты для большей надежности и сказал, обернувшись к ней.
– Ну что ж, одевайся.
Если правду говорят, что месть – это блюдо, которое едят холодным, могу сказать, что приготовленное лично блюдо сие не доставило мне много удовольствия. Я лишь следовал линии поведения, выработанной мною уже давно, еще в первые дни заключения. К тому же тогда я почти не руководствовался таким чувством, как злоба. Поскольку мне все равно придется увидеться с братом, то я решил, что сначала нужно будет встретиться с Валерией и повести себя так, чтобы и с ее, и с моей стороны избежать возобновления нашей связи. Именно эта мысль диктовала мне поведение в гостиничном номере. По лицу той, которую я притворно считал своей невестой, потекли слезы, слезы унижения, а возможно, и слезы угрызений совести. Я отвернулся, чтобы дать ей возможность одеться, а когда она натянула платье, подошел и сел рядом с ней на кровать.
– После того, что я увидел, я, разумеется, возвращаю тебе твое слово.
Валерия презрительно рассмеялась. Одевшись, она вдруг почувствовала себя сильной, тем более, что мои намерения были теперь не страшны, поскольку я дал понять, что приключение окончено. Из ее черных глаз (а на самом деле темно-карих), в которых еще блестели слезинки, посыпались искры.
– Мое слово? Жалкий тип, да я уже давно про него забыла, и если хочешь правды, то знай, что оно никогда ничего для меня не значило это слово.
– Валерия! Это невозможно.
– Видимо, возможно, если еще задолго до того, как ты убил Шазара, у меня был любовник. Да, представь себе, любовник.
– Ты говоришь это, чтобы насолить мне. Ты сердишься на меня, потому что я нашел тебя подурневшей.
Она зло и очень коротко рассмеялась. На какую-то секунду она заколебалась от страха, ее переполненный ненавистью взгляд потускнел, скрестившись с моим, однако безумство мести, бешеное желание рушить взяли верх.
– Ты удивишься, но моим любовником был Мишель, да, Мишель, твой брат.
– Я тебе не верю.
Моя наивность рассмешила ее. В свою очередь она принялась рассматривать меня, и, похоже, ее забавлял мой вид, моя коренастая фигура, унылое лицо с искаженными от переживаний чертами, маленькие глаза, спрятавшиеся под черными бровями. В итоге под ее взглядом я почувствовал себя неуютно, что вызвало у Валерии приступ веселья.
– Кстати, – спросил я, – а ты видишься с Мишелем?
– Естественно, я ведь живу с ним. Ты мне все еще не веришь? Я могу показать тебе документы, в которых подтверждается, что я проживаю на улице Сен-Мартен, у твоего брата.
Она открыла пластиковую сумочку, вынула бумажник, но я остановил ее жестом.
– Я верю тебе. Но раз уж ты была его любовницей, ты могла бы мне сказать, что ошиблась, что любишь другого. Разве поступить так было сложно?
– Ты бы тогда поссорился с Мишелем.
– И все же?
– Если б ты его выгнал, он сел бы мне на шею. Так, впрочем, и произошло, когда тебя посадили. Твой брат ничем не занимается. Мы оба живем на мою зарплату машинистки. Встает он около часу дня после того, как я подам ему завтрак в постель. А остальное время он читает или мечтает. Вечером же, после ужина, уходит один и возвращается в два-три часа ночи. Вот это его жизнь. Да в общем-то, наша с ним жизнь.
– Ты любишь его?
На мой вопрос Валерия только пожала плечами. Более: крепкие узы, чем узы любви, привязывали ее к Мишелю – к этому вялому и безразличному парню. Сама не желая того да и просто потому, что я оказался в тюрьме, она взвалила на себя мои обязанности главы семьи и уже не спрашивала себя, стоит ли Мишель того, чтобы она содержала его. Она, вероятно, допускала, что его апатичность давала ему какие-то права на нее, и, может быть, если бы он сам зарабатывал на жизнь, ее привязанность не была бы такой сильной. Я почувствовал теперь некоторые угрызения совести за мое поведение.
– Ты поступила великодушно, но если бы ты позволила ему устраиваться самому, то ему пришлось бы подумать о заработке.
– Я могу в этом упрекнуть и тебя. Более того, именно с тобой он привык ничего не делать. А теперь прощай. Мне надо идти готовить обед.
– Передай Мишелю, что я жду его в три часа в кафе возле дома.
– Хорошо.
– Не стоит рассказывать ему, что я приводил тебя сюда.
– У меня нет причин ничего скрывать от него. Впрочем, ему на это наплевать.
Валерия удалилась, бросив мне напоследок взгляд, в котором я прочитал, как мне показалось, больше иронии, чем обиды. Я остался в номере один, думая о том, что за странный человек Мишель. До моего случая с Шазаром он был приятной внешности парнем, грациозно небрежным, с необыкновенно трезвым умом, с гибким, просто-таки летучим интеллектом и холодным рассудком, из-за чего я сомневался, что он может к чему-нибудь или к кому-нибудь привязаться. Закончив среднюю школу, он стал готовиться к экзаменам на лицензиата по истории, но потом устал и, не задумываясь о том, каким бременем на меня ляжет забота о нем, словно так и нужно, пошел на театральные курсы и в течение трех месяцев играл маленькую роль в пьесе какого-то английского автора. Но поскольку Валерия сказала, что он ничем не занимается, то, очевидно, от театра он тоже устал.
В три часа пополудни я сидел за столиком в кафе, куда должен был прийти Мишель. Весь как на иголках, вздрагивая при каждом стуке двери, я прождал около часу, не осмеливаясь осуждать брата, так как Валерия вполне могла не предупредить его. Потеряв в конце концов терпение и самообладание, я сорвался с места и побежал к нашему дому на улице Сен-Мартен. Дойдя до подъезда, я не то чтобы заколебался, но ощутил нечто вроде страха, который, впрочем, не остановил меня. К счастью, консьержа в его каморке не было. Я отвел глаза от места, куда упал Шазар, и бегом, чтобы, не дай Бог, не встретиться с кем-либо из жильцов, проскочил шесть этажей широкой лестницы. На седьмой этаж – мансарду – вела деревянная лестница, на которой я замедлил шаг, чтобы перевести дух. Мишель (а может быть, и Валерия) оставил ключ в замочной скважине снаружи. Я постучал и, не дождавшись ответа, открыл дверь. В прихожей я столкнулся с девушкой лет двадцати – двадцати двух, довольно красивой, из одежды на ней были бюстгальтер и юбка. Она метнулась в столовую, из которой тотчас вышел Мишель в брюках и в халате. Он подошел ко мне, приветливо улыбаясь, и я обнял его, не в силах говорить, охваченный таким волнением, что в груди у меня все сперло, а губы задрожали. Мишель благосклонно воспринял мои изъявления чувств, но потом высвободился из моих объятий и сказал в оставшуюся открытой дверь:
– Все в порядке, Лена, это мой брат.
Лена снова вышла в прихожую, и Мишель представил ее мне, затем поднял ей юбки, указав на ее ляжки, и добавил:
– Нравится?
Лена взглянула на меня с тихой и милой улыбкой. Я пробормотал, что пришел к нему.
– Ну и ладно. Беги, Лена. Я, может быть, заскочу к тебе в полночь. Прощай.
Лена ушла, и мы прошли в столовую, из которой он соорудил себе подобие кабинета. Стол был завален кипами книг и листками бумаги, исписанными его рукой.
Теперь, когда мы остались одни, я мог рассмотреть его лучше. На его красивом лице, сохранившем юношеские черты, несмотря на его двадцать четыре года, появилось выражение безмятежности, от которого у меня сжалось сердце. Он всегда превосходил меня более широким и более ясным умом, но наша совместная жизнь, моя забота о его здоровье, о его учебе создавали тогда между нами тесную близость. Мне было больно, что я не нахожу ее вновь. От этого я чувствовал себя неловко. Я спросил у Мишеля, чем он занимается. Ничем, ответил он, и в его ответе не прозвучало ни нотки вызова. Озабоченно-задумчивый, он даже не взглянул на меня, чтобы увидеть мою реакцию. Не заниматься ничем казалось ему само собой разумеющимся. Я растерялся.
– А театр? Дело ведь шло неплохо. У тебя была роль.
– Да, маленькая роль. Я потом получил и другую, побольше, но бросил, надоело. Все выходило слишком легко, слишком естественно, чтобы заинтересовать меня. Понимаешь, я сразу завоевывал публику, но вот именно этот контакт был мне неприятен. Я раньше думал, что театр должен держать зрителей на расстоянии от сцены, по правде говоря, я и сейчас так считаю. Ну а как было в тюрьме?
Когда я рассказал ему о том, как я жил в заключении, он заметил:
– Думаю, мне бы понравилось. Видеть мир через решетки тюрьмы…
В том, как он представлял себе тюрьму, чувствовалось что-то книжное, от чего вполне могло сделаться не по себе человеку, только что вышедшему оттуда, но я не стал придавать этому значения. Указывая на разбросанные по столу листки, я заметил, что чем-то же он все-таки занимается.
– Я не занимаюсь ничем, чтобы зарабатывать на жизнь, – вот что я имел в виду, когда ответил тебе. А это – это я пишу пьесу или, если хочешь, пытаюсь писать. Что ты на это скажешь?
Я ничего не мог сказать. Это развлечение было, несомненно, не хуже других. Из вежливости я спросил о сюжете.
– Любовь, – ответил Мишель. – Поскольку я никогда не влюблялся, то решил или скорее притворился, будто могу говорить о ней со всей требуемой объективностью. А правда в том, что я всегда испытывал чувство обиды к любви из-за того, что мне в ней отказано. Сначала я пытался написать эссе, но очень скоро оставил эту затею…
Мишель взял со стопки книг тетрадь в синем переплете и протянул ее мне. Я взял, но открывать сразу не стал.
– В итоге театр мне показался, если не более ясным, то во всяком случае более прямым средством самовыражения, которое способно подсказать мне конкретную форму пока еще нетвердых идей.
Тут Мишель склонился над столом и, читая глазами один из листков с нанесенным на него диалогом, зачеркнул карандашом последнюю реплику.
Затем он сел, чтобы лучше оценить текст после сделанного исправления, а я устроился напротив и открыл синюю тетрадь. В ней было исписано всего страниц сорок, которые пестрели поправками и вставками, однако все было написано очень четким почерком. Мишель, погрузившись в творчество и исправления обо мне забыл.
IIIСиняя тетрадь
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Малый иллюстрированный толковый «Лярусс», уважаемый мною, дает следующее определение любви: «Чувство, влекущее сердце к тому, что его сильно притягивает».
Я исследую слово «сердце», которое употреблено здесь в фигуральном смысле и может, следовательно, вызвать некоторое удивление. Тот же «Лярусс» говорит, что это «расположение души», и в довершение определяет душу как «начало жизни». Итак, я узнал достаточно, чтобы убедиться – любовь, как это ни странно, можно определить метафизическими понятиями. Надо учитывать, что малый «Лярусс» одно из серьезнейших изданий в стране. И если уж он идет на ошибку и на неясность, то, значит, не мог иначе.
Предположим, что Ромео женился на Джульетте, прожил с ней полгода и вдруг к ним заявляется марсианин и заводит такие речи:
– Господин Ромео, у нас, у марсиан, нет пола. Четыре-пять раз за жизнь у нас на голове вырастает волос, который мы высаживаем в песок, поливаем трижды в неделю на протяжении года, пока из него не вырастет маленький марсианин. Теперь остается лишь вырвать его и пустить бегать на воле. Я знаю, что у вас, землян, все иначе, и я много слышал о любви. Мне говорили, что ваша с госпожой Джульеттой любовь совершенно необыкновенна. Не могли бы вы, господин Ромео, объяснить мне, что же такое любовь?
– Охотно. Любовь, сударь, это экстаз, от которого при упоминании имени «Джульетта» у меня тает сердце, а сам я становлюсь легче птицы.
– Значит, вам доводится иногда летать?
– Нет, сударь, нет. Это просто так говорят.
– Хорошо. Но все ж таки, вы говорите, что сердце ваше тает, и случается это, очевидно, довольно часто, так вот, не опасно ли это для вашего здоровья?
– Прошу извинить меня. Разумеется, сердце мое не тает по-настоящему, это так говорится.
– Господин Ромео, умоляю вас, будьте серьезным. Попытайтесь, пожалуйста, изъясняться более конкретно.
– Это трудно, сударь. Для меня любовь – это непреоборимое влечение, которое я всем своим существом испытываю к существу Джульетты.
– Именно такое определение мне и хотелось услышать – ясное, четкое, краткое. Итак, Джульетта непреоборимо влечет к себе вашу печень, селезенку и ваши кишки.
– Сударь, ваши слова неприличны, но я принимаю во внимание ваше невежество. Конечно же, ни моя печень, ни моя селезенка, ни мои кишки в этом деле не участвуют.
– А кожа ваших ляжек?
– Сударь!
– Но поскольку ваша печень, селезенка, кишки и кожа ваших ляжек, являющиеся неотъемлемой частью вашего существа, никак не затронуты тем влечением, которое вы испытываете к госпоже Джульетте, то нужно бы подыскать другое определение любви.
– Но, сударь, когда я говорю «всем своим существом», я имею в виду, разумеется, всю свою душу. Я говорю именно в таком разумении.
– Каком разумении, господин Ромео?
Как видим, не так-то легко растолковать эту любовь, тем более столь мало искушенному в этом смысле существу, как бесполый марсианин. И Ромео, и малый «Лярусс», оба знающие жизнь, оба одинаково любезно говорят о сердце и о чувствах, однако некоторые утверждают, что любви нет, что все сводится к инстинкту размножения, нашедшему себе особый предмет влечения, а уж все остальное довершает воображение, словесный бред и инстинкт обладания. «Прелестная моя Миньона, – говорят они, – когда вы погружаете ваш взгляд в глаза Гонтрана, то чувствуете, как тает ваше двадцатилетнее тело и вашим устам хочется произносить слова благодати. Нам же, ученейшим старым пням и вполне материалистическим старым пенькам, которые над многим смеются, нам также случается чувствовать, как тает наше старое иссушенное тело, как с наших серых губ слетает восторженный лепет, но, чтоб вы знали, случается это с нами, когда апрельским утром мы видим сверкающие капельки росы на нарциссе. Нет, прелестная, ваш инстинкт размножения не сублимировался, как утверждается в ваших письмах к Мини, но у вас очаровательный ум, вам нравится красиво устраивать ваши делишки, и вы освоили искусство скрывать наготу вашего желания под гармонией любезностей. Но при всем этом, – говорят они же, – ваше такое красивое чувство к Гонтрану – это лишь желание самки, отличающееся от желания коровы только частотой проявления». Краска заливает лицо, когда приходится приводить такие слова. Сразу же условимся, что инстинкт размножения – это простая точка зрения разума или скорее пустое выражение, не означающее ничего конкретного. Что касается желания, к которому эти злые языки пытаются свести любовь, то всем известно, что оно участвует здесь в качестве простого ингредиента и даже не является необходимым. Ведь больше четверти женщин фригидны. Это значит, что только во Франции добрых несколько миллионов женщин, не испытывающих ни малейшего желания, влюблены тем не менее в мужчину, а то и в нескольких по очереди, и ведут любовную жизнь.
Дать определение чему-то – значит убрать бесчисленные значения, которые могло бы придать этому чему-то наше невежество, а значит, и покончить с бесконечностью относительно этого чего-то. Я нахожу полезным и удовлетворительным для разума давать определения таким словам, как «сутана», «бигуди» или, например, «бандаж». Мне стало бы не по себе и как-то тревожно, если бы слово «сутана» не удалось удержать в пределах подходящего определения и оно приняло бы в умах людей чрезмерную значимость и раздулось до бесконечности. То же самое можно сказать и о словах «бигуди» и «бандаж». Например, есть слова, пытаться ограничивать смысл которых было бы пустой затеей и которые выходят за рамки любых определений. Это самые красивые и самые опасные слова в языке, те, что расширяют наш мир, но заставляют нас нести чушь, если мы не поостережемся их слишком смутных очертаний. Пользоваться ими в суждениях значит заранее обречь свои речи на провал. Мне кажется, что «любовь» как раз и есть одно из таких слов, и на месте «Лярусса» я не стал бы рисковать авторитетом, пытаясь выдумать невозможное опрэделение, а вот как бы классифицировал его: «Чудесное слово, но также и слово-затычка с меняющимся почти до бесконечности значением; очень часто употребляется в совершенно разных фразах, как то: Он сказал баронессе, что слагает к ее ногам свою любовь и свое состояние. – Он любил ее глубокой любовью. – Его любовь была возвышенным чувством. – Марселина знала, что может рассчитывать на сильную любовь. – Четыре дня они жили большой любовью. – Он любил ее, но какой-то пресной любовью. – Он любил ее обжигающей любовью. – К несчастью, любовь Алкида оказалась неразделенной. – Леония не отвечала на его любовь. – Любовь старого богача была противна Леонии. – Любовь слепа. – Любовь чрезвычайно проницательна. – Молодой человек испытывал любовный голод. – Она могла принять только честную любовь. – Это была „курортная“ любовь. – Извращенная любовь Максимина, любовь, противная природе Франчески, животная любовь Бальтазара возмущали бедняжку. – Пьер и Полетта переживали прекрасную любовь. – Я умираю от любви. – От любви не умирают. – По сравнению с безумной любовью Огюста любовь Эрнеста была уж слишком обыденной. – Вы любовь моей жизни. – Она познала любовь во время праздника 14 июля в подворотне. – Любовь предстала Эрмелине в виде смуглого мужчины. – Убийца из-за любви, он зарыдал, припав лицом к трупу. – Это была первая любовь Андреа. – На руинах этой первой усопшей любви должна была скоро возродиться и расцвести новая любовь. – Любовь Мельхиора быстро растаяла. – Зрелище, представшее глазам Антуана, обрезало крылья его любви. – Любовь не знает преград. – Самая искренняя любовь в конце концов устает от связывающих ее пут. – Любовь снисходительна. – Любовь требовательна. – Любовь не приходит по заказу. – Когда открылось, что Эдмонда его дочь, Фламиний изгнал из сердца эту преступную любовь».
Из сонма бесчисленных писателей, писавших о любви, самые мудрые – те, которые не рассуждали о ней (как этим занимаюсь в данный момент я), а довольствовались сочинением романсов, новелл, театральных пьес с любовным сюжетом. В лучшем случае мы от них ничего нового не узнаем. Шекспир, автор «Ромео и Джульетты» и «Отелло», Расин, которого называют лучшим художником любви, ничего нового нам не говорят. Некоторые могут возразить, что они только хотели взволновать нас. Несомненно. Но удивляет то, что столь проницательные, столь точные умы, владеющие великим поэтическим гением, не смогли ничего открыть в этой сфере. Были удачливые романисты, которым удалось тронуть нас рассказом о некоторых примерах любви, но и они тоже ничего нового нам о любви не сказали.
Стендаль, проведший жизнь перед зеркалом, разглядывая себя с почти непристойной страстью к собственной персоне, которого так тянуло к женщинам и приключениям, считал, что он может много чего сказать и даже сообщить (своим читателям) о любви. И вот он пишет эссе под названием «О любви» и так начинает первую главу книги первой: «Я пытаюсь дать себе отчет в этой страсти, все искренние проявления которой отмечены красотой. Существуют четыре разновидности любви: 1. Любовь-страсть. 2. Любовь-вкус. 3. Любовь физическая. 4. Любовь тщеславная». Он не дает определение «любви», а кроме того, с ловкостью рассматривает ее как вещь, известную всем и саму собой разумеющуюся. Зная, что в уме каждого индивида это слово соответствует личному миру ощущений, чувств или умозаключений, он говорит об этом, не стесняясь обобщать. Разрубив, собственно говоря, любовь на четыре части и пронумеровав каждую из них, этот прекрасный новеллист, бывший также и старательным наблюдателем, разъясняет, что подразумевается под этими различными ярлыками. Вот в каких выражениях описывает он любовь тщеславную: «Огромное большинство мужчин, особенно во Франции, желает и имеет модных женщин, подобно тому, как имеют красивых лошадей, т. е. вещь, являющуюся необходимым атрибутом шикарных молодых людей». Итак, в самом начале первой главы нам становится ясно, что в понимании Стендаля любовь, которой он посвящает свое исследование, может иметь отношение лишь к людям, принадлежащим к разряду изысканных, – дворянам, очень богатым буржуа, а из военных без имени и состояния – лишь к высшим офицерам. Не хочу сказать, что он смотрел на народ: на лавочников и рядовых как на скот, воздыхания и излияния которого не заслуживают слова «любовь», или же что он высказывался по этому поводу как молодой фат из хорошей семьи, но во всяком случае факт есть факт. Это огромное большинство мужчин, которые имеют модных женщин, принадлежит, разумеется, лишь к аристократии, причем это не аристократы духа, но наш автор считает, что только этот мир блестящей мишуры и напыщенности достоин его психологических исследований. А посему нам не нужны очки, чтобы увидеть, чего ждать от этой, впрочем, смелой попытки. Спору нет, если я хочу поведать будущим поколениям об интеллекте моих современников и ограничиваюсь при этом лишь изучением интеллекта тамбурмажоров, я рискую не только не осветить вопрос полностью, но и прийти к странным выводам. Стендаль, писатель якобы левых взглядов, да так оно и есть на самом деле в той степени, в которой таковыми при старом режиме были люди благородных кровей, кичившиеся тем, что ратуют за просвещение, так вот Стендаль полагает, что познал мир и проник в его тайны там, где у маркиз чувствительное сердце и хорошей формы зад. Со всем тем добавим, что если он и ошибался в своих суждениях о любви, то не больше и не меньше, чем другие писатели. Он написал по этому поводу все, что уже было до него написано всеми его почтенными собратьями. Читаем, например, у него в пятой главе: «Человек не может не делать то, что доставляет ему больше удовольствия, чем все прочие возможные дела. Любовь – как лихорадка – рождается и умирает без малейшего присутствия воли». Именно это я и сказал чуть выше. Он повторяет то, что до него уже высказали пятьдесят тысяч поэтов, песнотворцев, философов и досужих рассказчиков. Ведь в самом деле, тысячелетиями считалось, что любовь овладевает людьми неожиданно, иногда даже без их ведома, поселяется в них и живет год, или два, или десять, иногда всю жизнь. Вам двадцать лет (или тридцать, или шестьдесят), однажды вечером вы ужинаете у Шампиньолей, а напротив сидит великолепное создание сорока двух лет с прекрасными большими коровьими глазами. В перерывах между блюдами вы смотрите на нее, слегка раскрыв рот, и к концу вечера уже чувствуете некую слабость в области ребер с левой стороны груди. Следующие дни просто прелестны. Вы постоянно думаете о красавице и всякий раз как бы проваливаетесь в воздушную яму – вам кажется, что сердце обрывается внутри вашего тела. И наступает день, когда вы объясняетесь, потому что изнемогаете от любви, а вас, оказывается, тоже молча любят с того самого вечера. Вы возвращаетесь домой, рассказываете обо всем этом своим родным. «Ты с ума сошел?» – говорят вам ваши родители – почтенные бакалейщики. Женщина на двадцать два года старше тебя, отец ее умер в тюрьме! Но вам-то наплевать на умершего в тюрьме отца. И как только вы становитесь совершеннолетним, вы женитесь, вы счастливы, а потом несчастны, ревнуете. Вы, однако, работаете двадцать лет, ни разу не подумав при этом, что вы не разбогатели, но ваша законная куколка, которой теперь шестьдесят два, выражает однажды сожаление, что не побывала ни в Вальпараисо, ни в Таматаве. Вы не находите ничего более перспективного, чем ограбить налоговую инспекцию вашего района, но поскольку подготовились вы к делу плохо и к тому же убили сборщика налогов выстрелом прямо в сердце, то зарабатываете десять лет тюрьмы. Когда вы выходите на свободу, то обнаруживаете, что куколка похорошела еще на десять лет, и все начинается сызнова, и опять любовь без конца. Любовь сильнее человека, она держит его в постоянном подчинении – именно такой ее представляли и продолжают представлять. Самое распространенное мнение гласит, что любовь – это рок, от которого напрасно было бы пытаться укрыться. Можно сравнить это с чем-то вроде паразита, питающегося вашим телом, пока не опротивеет, и это единственная возможность обрести сердечный покой. Однако истине редко удается быстро перебороть привычные представления. Прошло уже лет пятнадцать со дня великого открытия, призванного изменить наш взгляд на любовь. Еще во время оккупации доктор Алексис Каррель в своей книге «Человек – что мы о нем знаем?» сделал на первый взгляд безобидное замечание: девушки из привилегированных классов никогда не влюбляются в юношей из низшей среды. Я прошу читателя задержаться подольше на этом замечании доктора Карреля. Вы обязательно увидите, что оно уводит нас весьма далеко от привычных представлений. Предположим, я – девушка восемнадцати лет и зовут меня Эпонина. Мой папа – начальник управления в Министерстве агрономии, а мама – дочь банкира Кана. Дважды в день я отправляюсь в лицей имени Мольера – на автобусе или пешком. Я знаю в лицо многих молодых мужчин, и меня забавляет, когда я подумаю, какой страх должен временами охватывать мою мать при мысли о том, что идя по улице, я становлюсь жертвой, а возможно, и уступаю гнусным поползновениям мужчин. Меня это забавляет, так как я знаю, какую силу девушки моего круга противопоставляют подобным опасностям. Во-первых (это то, чего мама не знает), в Париже почти нет мужчин. Разумеется, я не считаю мужчинами подручных мясников, приказчиков, конторских служащих, коммивояжеров и прислугу. Я не скрываю от себя, что многие из них превосходят меня своим интеллектом, знаниями или, допустим, привлекательностью, но, как бы то ни было, это не те люди, в которых может влюбиться девушка моего круга. И этот факт мне даже нечего объяснять. Проходя мимо колбасного магазина Сованера, я часто вижу необыкновенно красивого приказчика, как две капли воды похожего на одного из «аркадийских пастушков» Пуссена, который смотрит на меня с чуть нежной улыбкой. Я же гляжу на это красивое, исполненное чувства лицо с удовольствием, но без тени волнения, в то время как Жан-Виктор Шаполье, сын крупного отоларинголога, когда случай сводит меня нос к носу с ним и, несмотря на то, что взгляд у него, как у свалившегося с луны бычка со странно перекошенным лицом, так вот он приводит меня в состояние какого-то волнения в животе и межреберной дрожи; хуже того, я не могу удержаться и не бросить быстрый взгляд ниже его пояса, от чего краснею и начинаю заикаться, он же, слава Богу, ни разу ничего не заметил, и если хотите знать почему, то я вам скажу: потому что он трахает – это мне сказала Мари-Клод Попинар, а она живет с ним в одном доме, – да, так потому что он трахает маленькую бонну (Ах! Как можно такое? Бонну!), маленькую бонну Марешалей, да, тех самых Марешалей, также живущих в этом доме, глава семейства которых – консультант государственного советника.








