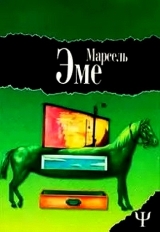
Текст книги "Ящики незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Эме Марсель

ИЗБРАННОЕ

Ящик незнакомца

Меня зовут Мартен. Мне двадцать восемь лет. Как-то, возвратясь домой, когда меня не ждали, я обнаружил свою невесту, спавшую в объятиях моего брата в моей кровати. В тот момент я смог сдержаться и тихонько, никого не разбудив, вышел, чтобы поразмышлять об увиденном на улице. Спустившись на один пролет, я столкнулся на площадке шестого этажа нос к носу с Шазаром – склочная личность, ежедневно жаловавшаяся, что жильцы сверху слишком много шумят. Шазар прицепился ко мне в своей обычной раздраженной манере, но заметив, что я пытаюсь ускользнуть, не выслушав его, решил задержать меня, схватив за полу пиджака. Тут во мне проснулся зверь. Я развернулся и ударил его в челюсть. Получив от него ногой под колено, я толкнул его через перила. С воплем, который, должно быть, услышали все жильцы дома, он шлепнулся на плиты первого этажа, чтобы уж больше никогда с них не подняться.
Освидетельствовавшие меня врачи смягчили мою ответственность, и меня приговорили всего лишь к двум годам тюремного заключения. Я вышел на свободу октябрьским утром, а вечером того же дня, часов около шести, под аркадами улицы Кастильон встретил Татьяну Бувийон. Я шел робкой походкой, сгорбившись и опустив голову. Мне казалось, что каждый прохожий видит во мне только что освободившегося заключенного, а может быть, и убийцу. Говорят, что мужчины, в отличие от женщин, испытывают такое ощущение в первый день свободы. Татьяна увидела меня. Громко, так, что звук отразился от сводов, она окликнула меня и направилась в мою сторону с протянутыми руками. Охваченный паническим страхом, я хотел было убежать, но она опередила мой порыв, резким движением обняв меня.
– Так это правда? Ты вышел? Когда?
– Сегодня утром, – ответил я еле слышно, отводя в сторону взгляд. Только теперь она обратила внимание на мои съежившиеся плечи, бегающие глаза, чему причиной, как скажет она мне позже, было чувство подавленности и стыда. Она еще раз крепко обняла меня, восклицая при этом: «Милый мой бедняжка», и с силой хлопнула по спине, чтоб загнать мои угрызения в пятки. Бурные проявления ее чувств начинали притягивать внимание прохожих, некоторые даже замедляли шаг, чтобы побольше увидеть и услышать. Впрочем, я не нуждался в их взглядах, чтобы почувствовать, что же удивительного было в моей встрече с Татьяной. Она на своих шпильках была на добрых десять сантиметров выше меня, а движения ее тела, одетого в прекрасно сшитый костюм, ее рыжие волосы, как бы небрежно завязанные сверху в тугую косу, большой смеющийся рот и нагловатые глаза – все это входило в резкий контраст с моей внешностью. Коренастый, с обвислыми плечами и задом, с малоприятным лицом и к тому же плохо одетый, я походил на продавца каштанов. У меня по-прежнему такой же вид, и будет он таким всегда, даже если оденусь прилично.
– Я доволен, что встретился с тобой, – сказал я Татьяне, – но меня ждет брат. Пока.
И все же мне хотелось остаться с ней, долго с ней говорить. Она была моложе меня на два года, а родилась и провела тринадцать лет в доме, в котором я прожил всю жизнь. Когда я находился в предварительном заключении, она связалась с моим адвокатом и несколько раз навещала меня. Но сейчас я чувствовал себя как на иголках. Две старые англичанки, вышедшие из соседней лавки, смерили меня презрительным и ненавидящим взглядом, словно возмущаясь моим присутствием в чистеньком квартале.
– Мартен! Мартен!
Я уже бежал как ошалелый, не оборачиваясь, в ужасе от злых взглядов прохожих, осознавая при этом абсурдность своего поведения. Впрочем, я быстро понял, что, взяв вот так ноги на плечи, я не мог не привлекать внимания. Уже одно то, что я бежал, могло показаться подозрительным, а поскольку в руке у меня был чемоданчик – тот, с которым вышел из тюрьмы, – то и наименее искушенным становилось сразу ясно, что я вор (захваченный на месте преступления, я едва успел запихнуть в чемоданчик свою воровскую добычу и теперь убегал что есть мочи). Я остановился как вкопанный, не смея больше пошевелиться. Чувствуя, что все в мире против меня, я только и ждал, чтоб меня прикончили, ждал последнего выпада судьбы. И тут догнавшая меня Татьяна взяла меня под руку.
– Я иду домой. Вообще-то я собиралась купить себе застежку, которую видела вчера в витрине, но если хорошо подумать, то мое платье ничего не потеряет и без застежки. Мартен, я отвратительна. За два года я ни разу не навестила тебя, хоть и обещала. И ни строчки не написала. Ты на меня сердишься?
Я сжал ее руку. Она потащила меня к проезжей части, не выпуская мою руку, а для пущей уверенности, что я больше не брошусь бежать, она завладела и моим чемоданчиком.
– У меня были причины. Я много работала – и все зря. Я отведу тебя к нам домой. Сегодня я ужинаю у подруги, но постараюсь вернуться пораньше, и даже если приду поздно, то разбужу тебя, и мы поболтаем. Нам ведь есть что рассказать друг другу. Взять хотя бы меня…
Мы остановились на краю тротуара. Татьяна замолчала, сняла перчатку, сунула два пальца в рот и свистнула так громко, что штук двадцать машин притормозили, а на противоположной стороне остановилось такси. Она украдкой взглянула на меня, улыбнулась, как бы напоминая, что, кроме прочего, я научил ее и свистеть при помощи двух пальцев. Мы трусцой перебежали дорогу и впрыгнули в машину. Татьяна вернулась к начатому разговору.
– Естественно, ты не знаешь, что я засыпалась на кандидатских экзаменах. Причем два года подряд. Не представляешь, что за собачья жизнь была у меня эти два года. Читала математику в частном заведении пять часов в день, плюс ученики, тетради, а ночью – до трех-четырех часов – работа над дипломом. И какой бы лошадью я ни была, в конце концов валилась с ног. Тебе смешно?
Если я и смеялся, то безотчетно. В укромном уголке такси, где я чувствовал себя почти как в тюрьме, которой мне еще недоставало, меня покинуло головокружение от ощущения ненадежности, мучившее в течение нескольких часов на улице. Толпившиеся на тротуарах люди были теперь всего лишь какой-то враждебной шевелящейся массой, злой, но прочно отделенной, а значит, неопасной. Однако в какой-то момент меня вновь охватило паническое чувство. Подчиняясь жесту регулировщика, такси остановилось, чуть заехав на переход, и громадные гроздья пешеходов хлынули на мостовую, людская масса текла между машинами, некоторые прохожие прыгали вокруг нас, и я даже помню, как женщина с головой ящерицы остановилась на секунду и ткнулась носом в стекло, шаря взглядом по сиденьям такси.
– Математикой этой я была сыта по горло, – продолжала Татьяна. – Меня зациклило на дипломе кандидата, потому что это всем дипломам диплом, ну и надежность, долгая спокойная карьера, пенсия, ну да, пенсия. Тут сыграла осторожная сторона моей натуры, моя сберкасса; я ведь дочь степей и мелкого служащего с усами. Но проучиться еще год в таких условиях было выше моих сил. Разумеется, я могла бы пойти работать в государственную школу и начать, скажем, с какого-нибудь лицея святой Менегульды. Нет уж, спасибо. И тогда я плюнула на все это. Теперь я манекенщица у Орсини. Заметь, что работка эта тоже не подарочек.
Татьяна долго рассказывала мне о преимуществах и трудностях своей новой профессии, говоря о себе лишь для того, чтобы не говорить обо мне. Она считала, что еще не настало время затрагивать эту острую тему, что нужно подготовиться и создать подходящую обстановку.
Мы, однако, застряли в заторе за площадью Клиши, она уже устала говорить о себе, и тогда я сменил тему:
– Я сказал тебе, что меня ждет брат. Это неправда.
– Этого можно было и не говорить.
– Ты его видела?
– Полгода назад я встретила его как-то вечером на Монпарнасе. Он сказал, что подал заявление в Управление железной дороги на место смотрителя переезда.
Она помолчала и добавила жестким тоном:
– Я с удивлением узнала, что он ни разу не проведал тебя, не ответил ни на одно твое письмо. Впрочем, он признал это без малейшего смущения.
– Уж такой он, Мишель. Неаккуратный, ленивый. По существу…
– По существу, твой брат – подонок. Да знаешь ли ты, дурачок, что уже два года Мишель живет с Валерией? В конце концов ты должен это знать. Тебе и теперь нечего сказать?
Татьяне не было известно, что я обнаружил их связь как раз перед тем, как произошло убийство Шазара. Я никому об этом не говорил, даже своему адвокату. Движение рассосалось, и наше такси смогло преодолеть подъем ведущей в гору улицы. Пошел дождь. Уткнувшись в стекло, я смотрел на дождь в отблесках уличных фонарей площади Клиши и думал о Мишеле, о том пресном существовании, на которое он обрек себя, связавшись с Валерией. Я ощущал на себе злой взгляд Татьяны, сдерживавшей желание встряхнуть меня. Такси высадило нас на улице Эжена Карьера, и мы поднялись пешком на седьмой этаж. На площадке четвертого Татьяна задержала меня и, взяв за руку, спросила вполголоса:
– Надеюсь, Мартен, ты не настолько глуп, чтобы сокрушаться из-за того, что случилось с Шазаром?
– О нет!
Ответ прозвучал настолько естественно, что выпалив эти слова, я почувствовал какое-то смущение и необходимость смягчить их. По правде говоря, совесть ни разу меня не мучила. Я просто испытывал сострадание к своей жертве и сильно сожалел о движении, сделанном в порыве гнева, ставшем для него роковым. Но ни днем ни ночью призрак Шазара не навещал меня. Однако такая пассивность моей совести очень беспокоила меня, и я, кажется, могу объяснить это, разумеется, не считая приводимые причины оправданием. Обстоятельства, при которых я совершил преступление, всегда действовали на меня успокаивающе, так как я почти уверен, что не хотел убивать. Тот факт, что Шазару было пятьдесят девять лет, также способствовал моему успокоению. Как я ни старался, мне никогда не удавалось освободиться от убеждения, что после пятидесяти лет старикам нечего делать на этой земле, где они кажут нам лишь свое физическое уродство и духовную ветхость. К тому же Шазар провел восемь месяцев в тюрьме – с сентября 44-го по апрель 45-го, – а партизаны, пришедшие его арестовать, били его и осыпали плевками. Без сомнения, он был невиновен, раз его освободили за отсутствием состава преступления, и все же из-за того, что его били, плевали на него, из-за неясных обстоятельств его заключения он представлялся мне – вопреки справедливости – подозрительным и нечистоплотным. И до, и после того случая я часто пытался восстановить истину, зафиксировать ее в моем сознании, но мне ни разу не удалось представить образ Шазара немного привлекательным. В этом смысле Татьяна одобряла мои чувства, и «несчастный случай» немало порадовал ее.
– Ты знаешь, что он был старой свиньей. Когда я еще девчонкой встречалась с ним на лестнице, он всякий раз пытался сунуть мне руку под юбку. Он это проделал раз двадцать.
Приятно узнать, что Шазар был старой свиньей. Таким образом получало оправдание и становилось законным мое отвращение к нему.
Когда мы вошли в квартиру, мадам Бувийон, стоя на коленях в столовой, читала книгу. Это была женщина старше пятидесяти лет, вовсе не похожая на дочь. Лицо ее оплыло, и ничто не указывало на то, что она была некогда великой красавицей, действительно, сколь далеко я ни шел в своих воспоминаниях, я не помнил ее красивой. У нее был кроткий и доброжелательный взгляд, говорила она спокойно, просто следуя каждому повороту мысли. Она поднялась и пошла нам навстречу, и когда Татьяна напомнила ей, кто я, лицо ее просветлело, хотя она меня не узнала, а имя «Мартен» не пробудило в ее памяти никаких воспоминаний. При этом она восприняла мое присутствие как совершенно естественное.
– Я рада, что вы пришли, – обратилась она к Татьяне. – Сегодня как раз годовщина смерти твоего бедного отца.
– Да нет же, что ты такое говоришь? Я тебе в двадцатый раз повторяю: папа умер 17-го июля.
Мадам Бувийон согласно кивнула, но от предыдущего утверждения не отказалась.
– Бедняга. Какая тоска умирать зимой, когда идет холодный дождь. Гроб приходится опускать в мокрую землю, и сердце сжимается при мысли об этом уже застывшем теле. В тот день, когда он в 1919 году подошел ко мне возле Галери Лафайет, тоже шел дождь. На Адриане была красивая форма лейтенанта или нет – старшины. Да, пожалуй, старшины. Он был герой. А сколько наград украшало его грудь! Особенно эта желтая медаль…
– Военная медаль.
– Да, военная. Она потерялась, когда мы переезжали с улицы Дам или с улицы Алези. Он подошел, и было нечто трогательное в том, что он обратился на улице к бедной девушке в изгнании, но первое, что я ему сказала, была ложь. Он удивлялся, что я, русская, так хорошо говорю по-французски, а я – дочь мелкого торговца сукном из Харькова, который давал немного в рост, – я сказала ему, что мой отец – граф. Сам Бог, наверное, подсказал мне эту полезную ложь. Адриан ведь собирался пойти со мной в какую-нибудь гостиницу, но перестал и думать об этом, когда услышал, что я – графская дочь. Всю жизнь он так гордился мной, что я не осмеливалась его разуверить.
– Мама, хватит утомлять Мартена историей твоего замужества. Приготовь-ка лучше поужинать.
Мать отправилась в кухню, а Татьяна повела меня в свою комнату, совсем маленькую, обставленную белой мебелью. На стене висела фотография Кати – ее старшей сестры, убитой в 40-м пулеметной очередью на дороге, по которой уходили беженцы. В моей памяти образ этой девушки как-то потускнел от сознания того, что ее нет, и это придавало ему строгость, словно трагическая судьба пометила девушку еще с рождения. Пока я разглядывал портрет, Татьяна раздевалась за моей спиной, и я был немного взволнован этой близостью. В стекле, закрывавшем фотографию, отражались движения ее обнаженного тела, хотя я и не мог различить ничего конкретного. Я вдруг подумал, что если сейчас обернусь и прижмусь лицом к ней, она не рассердится.
– Можешь обернуться, я в пеньюаре. Кстати, Кристина пытается выдать меня замуж.
– Какая Кристина?
– Графиня де Резе, та, у которой я сегодня ужинаю. Она работала вместе со мной манекенщицей у Орсини, весной вышла за своего Резе, а теперь – можешь представить? – вбила себе в голову, что и мне надо бы сыскать подобную партию. Но это не мой удел. Сделаться красивой безделушкой в доме благородного господина, нет уж, спасибо. И все же брак меня очень прельщает. Чего я хотела бы, так это мужчину, с которым можно было бы работать, затеять что-нибудь трудоемкое, где требуется воля, терпение и даже отказ от всего, что не было бы этим трудным. Ты-то уж вряд ли сможешь предложить мне нечто подобное, но ты именно такой: работяга вроде меня, упрямец. Если б ты захотел, я охотно вышла бы за тебя.
– Ты смеешься надо мной.
– Подожди меня здесь. Я схожу на кухню. В нашей квартире негде помыться. Пользуемся простым умывальником.
Я еще раз взглянул на фотографию Кати. Между кроватью и окном висела еще одна, на которой изображена была Татьяна в возрасте тринадцати лет: худое, волевое и почти мальчишечье лицо несмотря на длинные – до плеч – волосы, фотографию, очевидно, сделали незадолго до смерти ее отца, во время оккупации. В больнице, куда его привезли после несчастного случая, от которого ему суждено было умереть, он сказал ей: «Позаботься о маме». Тогда же она ушла из школы, работала упаковщицей, доставляла товары на велосипеде, была горничной, позднее машинисткой, и все это время она продолжала учиться дома по вечерам. Я помогал ей в течение двух лет в ее занятиях и восхищался силой ее характера, осознанным чувством ответственности за мать и за саму себя. Когда мне пришлось прервать учебу, чтобы зарабатывать на жизнь и заботиться о младшем брате, наши встречи стали реже, я видел ее лишь от случая к случаю, всегда занятой, напряженной от борьбы, не оставляющей себе времени на то, чтобы быть красивой. Поэтому ее новая работа манекенщицей, казавшаяся мне скорее фривольной, ее метаморфоза и – главное – эта легкость рассуждений, так противоречащая всему, что я знал о ней до сих пор, удивили и разочаровали меня, как если бы Татьяна отказалась от всего, что было в ней лучшего. Она вернулась из кухни, и я снова отвернулся к стене, чтобы дать ей возможность надеть платье. Подкрашивая глаза перед зеркалом, висевшем на шпингалете окна, она быстро перебрала все проблемы, которые ставило перед ней замужество, и дошла даже до откровений на тему о своей личной жизни. Слишком занятая ресницами, чтобы следить за словами, она была прямодушна, будто говорила сама с собой, глядя себе же в глаза.
– Не хочу преувеличивать свои достоинства, но я действительно не так уж много видела женщин, которые по своей красоте могли бы сравниться со мной. И несмотря на это, мой любовный опыт не богат. Когда я работала, как проклятая, у меня было не слишком много времени, чтобы думать о мужчинах. Любовь для меня была глупость, пустяк, который я себе изредка позволяла. С восемнадцати лет я решительно отшивала парней, которые только и делают, что пасутся у твоей юбки и думают, как отобрать твое время. Зрелые мужчины мне подходили больше. У них свои дела, свои друзья, они не стремятся постоянно удерживать тебя при себе. Женщины для них как духи – их не нужно много. Полагаю, что ко всему они еще и боятся, как бы женщина не надоела им, если ее слишком часто видеть. Когда я стала манекенщицей, то изменила мнение. У меня появилось время, я начала разбираться в одежде, мужчины стали оглядываться на меня. Я мечтала пережить большое любовное приключение, роман, что ли. Мне хотелось мужчину молодого, красивого, пылкого, который жил бы мной одной. И я его получила. Красивый, как архангел, нежный, исступленный, растворенный в страсти, в абсолютной любви. На прошлой неделе я избавилась от него, задав предварительно хорошую взбучку. Силы мои иссякли. Меня уже тошнит от всех этих больших чувств, этих бурь, этих воздыханий. Когда я слышу «любовь и только любовь», то мне сразу видится какая-то ужасного вида машина, работающая вхолостую. В оккупацию, весной 44-го, я взялась доставить в Вандом за двести франков сто дюжин бретелек. На обратном пути наш поезд сломался и остановился прямо в поле. Я увидела там женщину, впряженную в плуг. Ей было плевать, что на нее смотрят. Она шла с перекошенным лицом, нагнувшись вперед, лямки врезались ей в грудь. А мужчина, втянув голову в плечи, шел за плугом, пытаясь подталкивать его и одновременно проделывать борозду. Он крикнул: «Жанна!» Они остановились перевести дух, переглянулись и окинули взглядом проделанную работу. Их лица блестели от пота. И они снова принялись пахать. Я часто думаю о них с завистью. Видишь ли, Мартен, любовь – это не просто слабость в коленках, внезапный жар, громкие вопли и несказанные тридцать три бесконечности. Любовь, настоящая любовь – это плуг.
– Да, наверняка, – ответил я, хотя ни в чем таком не был уверен. Направленный в такое русло разговор был не совсем мне понятен, во всяком случае он застал меня врасплох. Пока она подводила карандашом брови, я поразмыслил и смог уже говорить обдуманно: – Если откровенно, от такой любви к плугу у меня никогда глаза на лоб не полезут. Поставь себя на мое место, подумай, что меня ожидает: долгие годы работы в конторе или на заводе пока не выдохнусь, мелкие заботы и к этому куча неприятностей, которых достоин убийца. Ты можешь понять теперь, почему я хотел бы защитить любовь от жизни. Единственное мое желание – сделать из нее красивый букет роз, который я мог бы нюхать втайне от всех, чтобы как раз и забыть о героизме будней.
– О чем тебе следовало бы забыть прежде всего, так это о Шазаре и обо всем, что было потом. Если ты постоянно будешь укорять себя за содеянное, то никогда не выберешься из тюрьмы. Подумаешь – он убил человека! От этого не умирают. И уж во всяком случае это не причина бояться любви. Как тебе мое платье? Мне его одолжила на сегодняшний вечер хозяйка.
На ней было черное платье, плотно облегающее тело до самого подбородка. По-моему, его украшала какая-то темная деталь в виде веера, только не помню уж, где она крепилась – на талии или ниже живота.
– Ты в нем очень хороша.
– Что меня донимает, так это мое пальто, настолько оно никудышнее. К счастью, Жаник одолжил мне куртку. Она хоть и не по сезону, но, по крайней мере, я не буду в ней выглядеть смешно. Не говори, что это идиотизм, что нельзя придавать такое значение тряпкам. Я сама это знаю и знаю также, как женщины выходят замуж или становятся шлюхами. Всего хорошего. Пока.
Суп пах горелым, омлет был пересолен, а вино отдавало пробкой. Мадам Бувийон, продолжавшая поминать мужа, ничего этого не замечала и ела с завидным аппетитом.
– Всего один раз, один-единственный раз я пошла в «Самаритянку» посмотреть украдкой на Адриана. Он был заведующим отделом готового платья. Улыбчивый и всегда любезный с покупательницами, он, как мне показалось, был довольно строг с бедными продавщицами, которые весь день проводили на ногах, а зарабатывали так мало, что им едва хватало на жизнь. Вернувшись домой, я долго плакала. Мне было стыдно, что мой муж – заведующий отделом – так суров с бедными девушками. Мне следовало бы предположить, что его таким сделала работа, работа, которую он, быть может, и не выбирал. Но у него в отделе была красивая девушка по имени Фернанда, так вот с ней он не обращался строго, потому что спал с ней. Я знаю, что Адриан изменял мне довольно часто. А я ему – никогда, ну разве что изредка, да и то просто чтобы попробовать.
У меня о заведующем отделом сохранились живые воспоминания. Я встречался с ним только на лестнице или в каморке консьержа, но этого было достаточно, чтобы оценить его величественную осанку, благородный поворот головы, красивый низкий голос и очевидную уверенность, которая отличала его от остальных жильцов. Еще ребенком я слышал, что он вступил в «Боевые кресты», и трагический блеск необъяснимого для меня словосочетания придавал ему в моих глазах почти магический авторитет. Кроме того, была и памятная стычка с Шазаром на площадке второго этажа, в которой за заведующим отделом осталось последнее слово: «Мсье, мне надоело выслушивать доводы ничтожества, просидевшего всю войну в интендантском ведомстве, предупреждаю вас, что впредь я буду отвечать на них, обращаясь к вашим ягодицам, прибегая к методу, от которого им станет горячо». Мой отец, тоже слегка простофиля, так прокомментировал нам с братом эти великолепные слова: «Бувийон, конечно, спорная личность. Тем не менее у него аристократизм в крови, а его размышления о политике отличаются незаурядной глубиной». Сокрушаясь о покойном муже, Соня Бувийон описывала его при этом с такой трезвостью, что я улыбался помимо своей воли. Завершая, он произнесла:
– Когда он умер, я думала, что тоже умру, а сердце болело так, что и не высказать. Однако я сразу утешилась и могу сказать, что на следующий же день после похорон я не чувствовала, что мне его не хватает. А любила его так сильно, такой большой и восхищенной любовью, что казалась себе самой маленькой и никчемной вещью перед ним. Главное, у него была совесть, а у меня ничего, кроме чувств. Чувства же проходят вместе с улетающими прочь секундами, а совесть – вещь прочная. Если б я умерла первой, Адриан так быстро не утешился бы и не забыл бы меня так скоро. Он бы себе этого не позволил. Его совесть заставила бы его печалиться годами. Он был настоящий рыцарь. А я считала его большим занудой, и пусть он меня простит, если правда, что он может меня слышать, но мне приятнее было говорить с сапожником или с консьержкой, чем с ним.
Мадам Бувийон совсем не кокетничала, она не стремилась ни понравиться, ни удивить. Она просто думала вслух, хотя и не забывала о моем присутствии, а я ей казался всегдашним другом, и эта непринужденность создавала такую атмосферу доверия, что мне было бы сложно не отвечать ей откровенностью. Так что когда разговор зашел о Татьяне и о ее работе манекенщицей, я без всяких околичностей дал понять, что эта перемена в ее жизни меня разочаровала.
– Я вас понимаю, – сказала она. – Да что уж, я теперь не так, как раньше, горжусь тем, что она моя дочь. С другой стороны, я думаю, что именно храбрость, упрямство, совесть и делали Адриана таким тупым, да простит он меня, если мои слова дойдут до него. Мне кажется, что в ней есть нечто иное, а работа над дипломом по математике не позволяла ей раскрыться. Кто знает, что лучше для блага каждого из нас. Однако мне становится страшно, когда я вижу ее ужасную озабоченность из-за какого-то платья или пальто, которого у нее нет и о котором она мечтает, как когда-то мечтала о дипломе. Если ей придется когда-нибудь пойти к кому-то на содержание, мне будет горько до смерти, но самое ужасное – это мое осознание того, что я быстро свыкнусь со случившимся, а назавтра и вовсе перестану об этом думать. Русские эмигранты были такими мужественными, энергичными, а я – совсем другая. Я не умею делать ничего хорошего или хотя бы просто полезного. Когда умер муж и Татьяне в ее двенадцать лет пришлось кормить нас, я хотела пойти работать, но мне никогда и ничего не удавалось, а мне почти не стыдно. Самое же отвратительное, что во все периоды своей жизни – и раньше, и сейчас – я всегда счастлива, да, очень счастлива, даже если случается самое худшее. Тоску у меня вызывают только мозоли на ногах.
Соня Бувийон поведала мне о своих мозолях и спросила, чем я занимаюсь. Я ответил, что только что вышел из тюрьмы, припомнил Шазара, и вдруг она поняла, кто я. Заохав, извиняясь за забывчивость – «ничего не держится в голове», – она встала со стула и мягко положила руку мне на плечо.
– Бедное дитя, я так переживала за вас во время суда, так переживала, а сейчас вы у меня дома, и я вас не узнала. А я ведь впервые увидела вас совсем маленьким, когда мы жили на улице Сен-Мартен. Я помню вашего отца – у него было такое доброе лицо и вид нежного, покорного существа.
Так она перебирала воспоминания, а я ощущал на своей шее ее мягкую, пухловатую руку, и взгляд мой то и дело останавливался на ее тяжелом бюсте. Мне даже не пришло в голову, что она уже старая женщина. В висках у меня застучало, мозг запылал, дыхание оборвалось. Я встал так резко, что опрокинул стул, схватил Соню сначала за плечи, затем за грудь и приник губами к ее рту. Потом с грубой жадностью стал гладить одной рукой ее тело. Сначала Соня очень испугалась, но быстро успокоилась, и я почувствовал, как она расслабилась в моих объятиях. Только услышав шаги и звуки голосов за дверью, я овладел собой. И тут же осознал, что нанес непоправимую обиду Татьяне, совершил измену по отношению к ней, а главное, что я вел себя, как грубое животное, набросившись на одинокую женщину. Я взял в углу комнаты свой чемоданчик и направился к выходу, но Соня преградила мне путь, умоляя не уходить.
– Если вы уйдете, Татьяна устроит мне ужасный скандал. Она будет говорить, что я во всем виновата, что сказала не то, что нужно было.
– Расскажите ей все как было.
– Она станет упрекать меня в том, что я не сделала все должным образом. Будьте так добры, останьтесь. Не расстраивайтесь из-за такого пустяка. Мой Адриан спал с самыми красивыми из своих продавщиц. Он был так хорош собой: жесткие усики, благородный взгляд, словом, настоящий мушкетер, а меня ведь тоже не он один сжимал в объятиях. Ну, вот, Адриана больше нет, и мне самой недолго осталось, однако я едва ли могу сейчас вспомнить чьи-нибудь объятия. Не забивайте себе голову тем, что того не стоит, дайте-ка мне лучше ваш чемоданчик и садитесь есть сыр.
Татьяна вернулась около половины третьего ночи и присела возле меня на край дивана в столовой, где мне приготовили постель. Глаза ее блестели. Она сказала, положив руку на мой лоб:
– Надеюсь, ты будешь доволен – я нашла тебе работу.
– Работу? Но ты предупредила, кто я?
– Я все рассказала: и о Шазаре, и о том, что за грязный тип он был, и о случившемся, все.
– Татьяна, я вечером повел себя отвратительно, очень грубо по отношению к твоей матери. Я чуть было… я хотел…
Я говорил что-то бессвязное. В конце концов мне удалось объяснить ей, что произошло.
– Бедный, – произнесла она. – Конечно, она тебе показалась слишком старой.
Я оставил попытки втолковать ей, что я хам, и она вернулась к началу разговора.
– За столом слева от меня сидел один виконт примерно твоего возраста, недурен собой, приятный, блестящий рассказчик, в общем, именно такой мужчина, каких я терпеть не могу. Справа сидел громадный, чудовищного вида тип, наверняка весом больше ста двадцати килограммов, не знавший, куда деть свой живот. Когда он пытался обратиться ко мне, голова его не поворачивалась даже на четверть оборота, и от этого вся его туша сотрясалась в жилетке. Лет ему пятьдесят-шестьдесят. Так вот, представляешь, этим мастодонтом оказался Лормье.
Она произнесла «Лормье», как произнесла бы «Буссак». Я спросил, какой Лормье?
– Ну, Лормье, из компании СБЭ, президент кучи фирм. В общем, Лормье. Один из столпов денежной крепости. С ним-то я и проболтала почти всю вечеринку. Рассказала ему о своей жизни, о бедности, о проваленной защите, о ремесле манекенщицы. Поговорили об Алжире, о генерале де Голле, о дороговизне. Я вставила пару-тройку умных фраз, которые вычитала мельком в журналах. Ну, почувствовала я, что парень клюнул. На всех этих богатеев производят впечатление бедняки с достоинством и с дипломом да еще с хорошей фигурой. Когда я рассказала ему о твоих проблемах, то сразу же поняла, что дело в шляпе. А кроме того, я полагаю, что старик очень увлекся моей маленькой особой.
– У тебя появились планы?
Прежде чем ответить на мой вопрос, Татьяна отвела взгляд в сторону, прищурила глаза, чуть поджала губы и подумала.
– Да, пожалуй.








