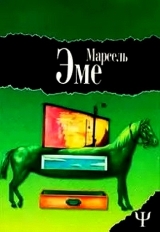
Текст книги "Ящики незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
По возвращении с кладбища Пасси жизнь казалась вполне выносимой, и каждый приглушил свою боль. Только мадам Ласкен, начиная понимать, что потеряла человека, достойного любви и очень доброго к ней, еще горевала. До самого момента похорон горе ее было тихим. За два дня, в течение которых покойник лежал на траурном ложе, она насытилась созерцанием лица, которое вчера еще было грозным, а сейчас уже перестало быть таковым. Она удивлялась, что может смотреть на него без малейшего смущения. Значит, угроза, которая всегда подавляла ее в присутствии мужа, коренилась не в форме лица. Ей часто хотелось, чтобы он отрастил бороду или отпустил чуть длиннее усы, в общем, смягчил бы чем-нибудь свои мужественные черты. Сейчас она понимала, что растительность ничего бы не изменила. Все дело было в трепете жизни, в неусыпности мужского инстинкта, который ее женское тело отвергало, даже в периоды покоя. Перед лицом смерти, наконец осмелев, она испытывала запоздалое желание выразить ему свою нежность учтивыми и детскими словами, наивно-женскими играми, на которые он уже не мог никак ответить.
Семью немного смутили слезы мадам Ласкен, которые были совершенно некстати. Устав сменять друг друга возле нее в маленьком салоне на первом этаже и повторять одно и то же плохо поставленными голосами, к ней приставили школьную подруг и старую болтливую и любопытную кузину, которая хотела докопаться до сути этой странной смерти и выпытывала все подробности.
Мужчины расположились в двух комнатах – в гостиной и кабинете, окна которых выходили в сад, находящийся за домом Ласкенов. Бернара Ансело – присутствие на роковом обеде еще более сблизило его с семьей – доставила одна из машин от ворот кладбища. Он, как мог, уклонялся от разговоров и вообще жалел о том, что пришел. Увидев, что Мишелин спускается в сад, он вышел за ней.
Пондебуа пытался собрать вокруг себя людей и быть в центре внимания, чтобы не оказаться наедине с мсье Ленуаром, свекром Мишелин, намерения которого ему казались весьма недвусмысленными. Промышленник не упустит случая пристроить в компанию Ласкена своего сына с тем, чтобы тот позже стал там хозяином. Высокого роста, красивый, похожий на пирата, мсье Ленуар не был лицемерен, он четко осознавал, что проявляет довольно грубый интерес к делам компании, ему была присуща изумительная способность игнорировать в других людях нежную сеть, сплетенную моралью. Большинство людей, не успев еще скрестить с ним шпаги, уже чувствовали, что с них сорвана убогая паутина приличий и человеческого уважения и обнажен каркас интересов. Люку Пондебуа внушал ужас этот здоровый и трезвомыслящий зверь, обделывавший свои дела, не будучи изощренным в играх честности. И самое отвратительное: этот человек был напрочь лишен цинизма. Пондебуа старался не сталкиваться с ним. Зная в общих чертах, какие распоряжения содержатся в завещании мсье Ласкена, который как-то ему об этом рассказывал, он предпочитал уклоняться от прямого разговора до того момента, когда сможет прикрываться волей покойного. Шовье тоже догадывался о намерениях Ленуара и лениво, со скучающим видом поддерживал игру Пондебуа. Несмотря на все уважение к писателю, он втайне предпочитал пирата.
– У нас не было времени пообщаться, – сказал мсье Ленуар, доставая часы. – Однако я хотел бы поговорить с вами о том, что сейчас готовится.
– Всеобщая забастовка?
– Всеобщая забастовка – не совсем верное слово. В металлургии, например, она пощадит некоторые значительные группы.
Настало общее молчание. Пондебуа думал об этой полувсеобщей забастовке, зараза которой в некоторые двери не проникает.
– А ваши заводы на Мозеле она пощадит?
– Естественно. Я сделаю все возможное, чтобы и заводы Ласкена не пострадали. В Париже это будет не так легко, как на Мозеле. Вам придется мне помочь.
– Я на тебя тоже рассчитываю, не забывай, – добавил Мсье Ленуар, свирепо глядя на сына.
Траур был к лицу Мишелин. Она носила его с элегантностью, в которой не чувствовалось ни импровизации, ни подготовки. Она продолжала быть прекрасно одетой. Черное оттеняло ее белокурые волосы и нежный цвет лица. Ее меланхолия была соблазнительна. Бернара Ансело восхищали в ней спокойствие и невинность прочного богатства. В тихом саду Ласкенов он со счастливым видом слушал Мишелин, болтающую ему о всяких пустяках. Она говорила без кокетства, с немного ограниченным, но твердым здравомыслием. В ее мирке все было упорядоченно. Ее представления об обществе, о правительствах, о труде, бедности и богатстве, о соотношениях между разными частями мира казались ей бесспорными и окончательными. Бернар ощущал в ней и ту чистоту чувств, которую поддерживала удобная и гигиеничная жизнь. Общение с девушкой было приятно и действовало успокаивающе. Он был тронут дружеской искренностью, с которой молодая особа сообщала ему о своих угрызениях, связанных с безобидной ложью, сказанной отцу. Увидев слезы в ее глазах, он взял ее за руку.
После того как отец ушел, Пьер Ленуар спустился к ним в сад. Лицо его был отмечено озабоченностью и грустью. Бернар, сердце которого таяло от сострадания к Мишелин, отнесся к своему другу без внимания.
– Завтра я начинаю работать на заводе, – сообщил Пьер скорбным голосом.
В ответ на эту новость друг что-то пробурчал без угасания и любопытства.
– Мой отец считает, что этого требует от меня долг. Послушать его, так мое присутствие там просто необходимо. Можно себе представить, насколько справедливо его суждение, если принять во внимание тот факт, что в делах я не разбираюсь и никогда этому не научусь. Слава Богу, на заводе достаточно квалифицированных людей для управления предприятием. Зачем тогда я там нужен, если буду только мешать? И этот долг от меня требует находиться там девять часов в день. Девять часов! Ох, прощай моя карьера бегуна.
– Это печально, – сказала Мишелин. – Бедный Пьер.
– Я конченный человек. Осталось только отрастить бороду и купить себе зонтик. И это при том, – добавил Пьер, сгибая и разгибая ногу, – что мне было чем похвалиться.
У него вырвался горький, почти отчаянный смешок. Он мечтал использовать состояние своей жены, чтобы целиком отдаться бегу, к которому имел весьма блестящие способности. У него была фотография с посвящением от великого Ладумега, привезенная из свадебного путешествия в Египет и висевшая в супружеской спальне. По утрам, еще не оторвав голову от подушки, он обязательно бросал на нее обожающий взгляд и с ритуальным вздохом указывал на нее Мишелин, произнося: «Вот это человек» или что-нибудь в этом роде, выражая свое восхищение знаменитым бегуном и, вместе с тем, бессознательный упрек в адрес жены. Действительно, при всем удовлетворении, которое доставляли ему любовные утехи, Пьер испытывал инстинктивное недоверие к встряскам, от которых дрожат мускулы и слабеют икры. Он знал, что серьезный бегун должен ограничивать себя в своих желаниях и прихотях, поэтому исполнение его супружеского долга всегда сопровождалось угрызениями совести в ногах.
– Как подумаю, что я дал себе обещание сходить в четверг на кросс юниоров!..
Бернар произнес что-то утешительное, чтобы оправдать улыбку, пробежавшую по его губам. Пьер покивал головой и стал со злостью размышлять о неравенстве социального положения и о том, что по воле нелепого случая он родился в семье крупных промышленников. Будь он сыном рабочих или служащих, родители не препятствовали бы его призванию бегуна на длинные дистанции. В душе он был за свержение общественного строя и победу экстремистских партий. Ему захотелось высказать свои мысли вслух, но, подумав, он не обнаружил в своих разбитых надеждах бегуна достаточных причин для начала революции. В такой сжатой форме мысль эта его даже немного шокировала. К тому же высказыванием революционных взглядов он рисковал выставить себя на посмешище, поскольку в свои двадцать четыре года, будучи свободным от всяких материальных затруднений, он даже не осмеливался восстать или хотя бы возразить против требований отца.
– Бедная моя Мишелин, конец нашим играм в теннис. Как жаль. Ты начинала уже держать игру, у тебя была хорошая передача. А теперь придется опять играть в паре с женщинами, которые за неделю тебе испортят руку.
Пьер обернулся к Бернару и сказал:
– Раз тебе так повезло, что на завод ходить не надо, почему бы тебе не приходить по утрам и не играть в теннис с Мишелин. Ты знаешь, она хорошо играет.
Застигнутый врасплох и смущенный этим предложением, которое как-то даже слишком совпадало с его тайным желанием, Бернар сказал в ответ нечто невразумительное, что можно было принять за протест. Пьер знал, что его жена красива и что друзья, как правило, не бесчувственные колоды, но адюльтер казался ему настолько неспортивной категорией, что он о нем даже и не думал. У него самого мысль о любовнице вызывала ужас. Поэтому ему не понятно было смущение Бернара.
– Я это предложил на случай, если у тебя не будет более важных дел. Ладно, не надо.
– Да что ты! Я как раз с удовольствием. Когда вы хотите начать, Мишелин?
Они начали на следующее утро.
В первое воскресенье траура Пьер Ленуар проснулся в полшестого утра, чтобы отправиться в Клуб любителей бега, где собирался изучать новый метод экономии дыхания, за который ратовал один финский профессионал в беге на 5000 метров. Ему казалось, что новый способ согласовывать дыхание с шагами очень перспективен, так как подводил истинно рациональную основу под целую тактику бега на длинные дистанции. Мишелин, которую он накануне пригласил пойти вместе с ним, чтобы заняться физическими упражнениями с тренером, только фыркнула и утром в постели прикинулась глухой. Пьер ушел без четверти семь вместе с Роже, младшим братом жены. Завтрак они захватили с собой. Мадам Ласкен с завистью посмотрела им вслед. Силой убеждения зять уже пробудил в ней интерес к спорту. Она читала спортивные газеты и с нетерпением ждала, когда закончится строгий траур, чтобы ходить с ним на стадион и рукоплескать великим командам. Накануне он дал ей прочесть несколько хороших статей о финском методе и так искусно их прокомментировал, что она была взволнованна и как бы даже смущена, так как ей показалось, что для нее открылся выход в одну из областей чистой науки. Несколько раз после ухода Пьера, поднимаясь в свою комнату на втором этаже, она опробовала этот принцип экономии дыхания, переступая через ступеньку и следя за ритмом вдохов и выдохов – жаль, что этажей было не так много.
К половине девятого она сидела в саду, отвечая на соболезнования по случаю смерти мужа. Эта переписка не вызывала трудностей, ее рука, водившая пером, двигалась легко, обученная дамами Успенского братства, которые дали ей некогда превосходное образование, позволяющее в любой день стать истой вдовой. «Среди тяжкого горя, постигшего нас, для меня и моей семьи большим утешением было ощутить так близко, несмотря на разделяющее нас расстояние, ваше дружеское внимание, моя милочка…» Мадам Ласкен прервала это занятие, чтобы просмотреть почту, принесенную горничной. Там было еще немало писем с соболезнованиями. Она прочитала их – даже самые банальные – с удовольствием, которое испытывала от всего, что подтверждало значительность ее траура. Статус вдовы казался ей не менее интересным, чем статус супруги. Она нашла в нем какое-то социальное обоснование, которого ей немного недоставало при жизни господина Ласкена, и носила своей траур, как мальчики носили первые в жизни брюки, со смешанным чувством гордости и удивления. Среди писем было одно анонимное, сообщавшее, что ее муж изменяет ей с какой-то Элизабет. Доносчица – почерк был женский – не знала о смерти виновника и, казалось, не имела достаточных сведений об этой связи. Она давала адрес одного ночного заведения, где обычно бывали любовники, и в довольно вульгарных выражениях негодовала по поводу их поведения, которое считала возмутительным: например, он «без конца тискал ее ляжки под столом». То, какая важность придавалась действиям и жестам этой пары в ночном клубе, наводило на мысль, что автором письма была женщина, связанная с этим заведением. Обвинение было неловко скроено и слабо аргументировано, однако в нем был привкус наивной правды, а имени Элизабет было достаточно, чтобы информация показалась супруге достоверной. Прочитав это письмо, мадам Ласкен покраснела от гордости. Ей вдруг показалось, что она находится в гуще жизни. Как у кухарки и у графини Пьеданж, у нее произошло нечто настоящее и немного постыдное, без чего нельзя быть уверенным, что существуешь.
Увидев, что в сад входит Мишелин, она сунула письмо в корсаж, наслаждаясь предосторожностями, вызванными столь страшной тайной, и с деланным безразличием вновь принялась писать, бросая в сторону приближающейся дочери живые и искрящиеся весельем взгляды. Мишелин поцеловала ее и села рядом. Она закончила свой туалет, но оставалась в пижаме, пока не придет время одеваться к обедне. Сожаление о предыдущих днях, когда она проводила утро за игрой в теннис с Бернаром Ансело, наполняло ее болью и исторгало печальные вздохи.
– Бедный папа, – сказала она, – еще неделю назад он был с нами. Он говорил со мной.
– Да, – поддержала ее мадам Ласкен. – Он был с нами, мой бедный милый друг.
В ее голосе послышалось плохо скрытое веселье, которое ее смутило. Она беспокоилась и о выражении своего лица, на котором проступала улыбка, несмотря на все усилия сдержать ее. Она закрылась в ванной, чтобы перечитать письмо с обвинениями. Там было два наиболее пикантных пассажа, которые она не уставала перечитывать, – о ляжках под столом и, в особенности, само вступление: «Хотя мне и тяжело об этом писать, я должна, к сожалению, Вам сообщить, что Вам наставили рога». Мадам Ласкен вполголоса повторяла последнее слово с тем удовольствием, с которым иногда малые дети произносят какое-нибудь непристойное слово, и с уважением глядела на себя в зеркало.
За обедней она, почти не отвлекаясь, молилась о упокоении души мсье Ласкена. «Господи, он был таким, как большинство мужчин. Это прямо какая-то болезнь, которой они все болеют. Ну вот, например, его кузен Пондебуа. В прошлом году, когда мы как-то сидели одни в библиотеке, ведь он же мне тоже сунул руку под юбку и сказал: „Анна, вы стали прелестной, когда немного поправились“. Притом ведь он любил меня, бедняжка Люк. Мой муж – то же самое. Я помню времена, когда мы только поженились: я уже была в постели, а он собирался ложиться и вдруг смотрел на меня такими странными глазами и не мог выговорить мое имя, он был похож на остановившиеся часы, и я говорила себе, уверенная в безошибочности своих суждений: „Ну вот, опять на него, бедняжку, нашло“. В какой-то степени это от него даже не зависело. Иначе как объяснить, что в каком-то ночном кабаке он щупал за ляжку даму под столом? Посмотреть на него в кругу семьи за обедом, или когда он наносит визит, или работает за своим бюро – сразу ведь станет ясно, что такая страшная идея в нормальном состоянии ему бы в голову не пришла».
За обедом мадам Ласкен чувствовала, как из нее бьет энергия, и с трудом сдерживалась, чтобы не пуститься в откровения. Тайна не тяготила ее – наоборот, она не могла ее удержать, как бьющий через край жизненный сок. Шовье, зашедший на обед, несомненно, наиболее подходил для излияния ему души, но его сестра знала, что это человек, который выслушаем признания с самым невозмутимым хладнокровием. Конечно же, известие о том, что у покойного была любовница, не выведет его из равновесия. Он ответит в ласковых и успокаивающих выражениях, пытаясь смягчить ситуацию, и можно даже опасаться, что он вовсе обратит ее в пустяк. С другой стороны, нечего даже и думать открыть кому-либо из детей тайну, касающуюся личной жизни их отца. К тому же Роже, милому ангелочку, всего четырнадцать, а что касается Мишелин, то лучше не предлагать новобрачной такие темы для размышлений. Остается Пьер. По мнению мадам Ласкен, это был чувствительный, чистоплотный парень, не носивший в своем теле никаких опасных тайн, склоняющих столь многих мужчин к слишком снисходительному пониманию историй с ляжками. Можно было не сомневаться, что он будет шокирован. За обедом теща глядела на него с предвкушением.
Встав из-за стола, она напомнила, что нужно сходить на кладбище Пасси. В воскресенье после обеда это паломничество было некстати – какой-то плебейский ритуал, – но возражать было бы неприлично. Шовье уклонился, аргументом для отказа была важная встреча, таким образом, он вынужден был покинуть дом на улице Спонтини, где собирался провести остаток дня. После смерти деверя ему импонировала атмосфера в этом доме. Он усматривал в ней приятный и спокойный образ семейной жизни, который раньше портило присутствие Ласкена, человека приветливого и вовсе не чванливого, но остававшегося крупным промышленником даже в кругу семьи, в собственном лице, в своих суждениях, в своем пищеварении он улавливал важность своего положения в обществе. Шовье так никогда и не свыкся с его вежливой манерой выслушивать чужие мнения с тонкой улыбкой любезности, за которой скрывалась, казалось, точка зрения высокоинформированного ума.
С тоской выполняя свой священный долг, дети шли по аллее, бросая на могилы блуждающие неуверенные взгляды. Мадам Ласкен, спеша к покойнику во всеоружии тайного знания, издалека увидела семейную ограду. Над могилой Ласкена склонилась молодая женщина в светлом платье. Рассмотреть ее супруга не успела, поскольку незнакомка, завидя их, тотчас же удалилась и затерялась среди могил. Но на могильном холмике, в стороне от других букетов, в большинстве своем уже увядших, вдова заметила охапку свежих роз, связанных тонкой розовой ленточкой, наверное, шлейкой от комбинации. Дети не заметили эту молодую особу, а поэтому розы не показались им подозрительными.
Перед этим прямоугольным кусочком земли, усыпанным цветами, Мишелин охватило сильное и глубокое чувство, и она расплакалась. Как был привязан к ней ее отец! Казалось, вся нежность ушла из окружавшего ее мира, и она оплакивала свое одиночество, столь глубокое, что его бы не восполнило даже возвращение мсье Ласкена. Пьер Ленуар, с благопристойным видом принца-консорта, устремил задумчивый взор на какую-то грудку земли, как будто бы печаль придала философский оборот его мыслям, а Роже, которому по возрасту еще не полагалось горевать молча, пустил мелкие слезинки, в беспокойстве и угрызениях совести оттого, что он плачет не так хорошо, как сестра. Мадам Ласкен пребывала вовсе не в печали и не старалась этого скрыть. Она смотрела на могилу, снедаемая любопытством. Казалось, покойник опять стал тем странным человеком, которым был при жизни. Она уже было подумала, что он исцелился и что никогда больше она не испытает чувства стеснения, которое испытывала ранее по отношению к нему, но внутри уже зародилось сомнение. И правда, он будто и не смутился совсем, когда его застали врасплох наедине с красивой девчонкой. Он лежал, как в алькове, такой весенний, в шелковых чулках, с игривым букетом на холмике, и вид у него был двусмысленный и почти опасный. Мадам Ласкен с волнением вспоминала прочитанный когда-то экзотический роман, весьма нехороший, где самые неприличные сцены разворачивались на турецком кладбище. Она подзабыла, кто там совокуплялся – живые или мертвые, но, кажется, в этих пошлых играх участвовали и те, и другие. А уж то, что происходило на турецких кладбищах, на парижских наверняка было не в диковинку. Приходилось признать очевидное. Мадам Ласкен только слегка чувствовала себя вдовой и находила в этом некоторое удовлетворение.
– Нет, Пьер, я должна вам это сказать. Он изменял мне.
По возвращении с кладбища она загнала зятя в одну из комнат второго этажа.
– Кто? – осведомился он с мягкой улыбкой.
– Да мой муж, кто же еще? Посмотрите, что я сегодня утром получила.
Пока он читал анонимное письмо, она выжидающе поглядывала на него. Но лицо Пьера не выражало ничего похожего на чувства возмущения и оскорбленного целомудрия, которых ожидала мадам Ласкен. Надежды не оправдались. Она посетовала на себя, что не сумела подготовить его, заставить проникнуться нужным духом, и с завистью подумала об откровениях кухарки и графини Пьеданж на ту же тему. В последний раз, изливая свои чувства в отношении графа, графиня так и взвизгивала: «Свинья! Я вам говорю, что он свинья!» Мадам Ласкен считала это слово несправедливым, чересчур резким, столь несвойственным собственной речи, что она бы его и выговорить не могла. Она чувствовала себя не на высоте положения.
– Это ужасно, не правда ли?
– Подлая ложь, и ничего больше. Не станете же вы верить анонимному письму!
– А имя Элизабет? Ведь он его произнес, умирая.
Об этом Пьер не подумал и был приперт к стенке. Он был очень недоволен. Интимная трагедия такого рода претила его вкусу к безмятежной, полной воздуха жизни вдали от мук воображения. Он рассердился на тещу за то, что она посвятила его в свою тайну.
– Да, Элизабет. Может быть, конечно… Но ведь нельзя быть ни в чем уверенным, и лучше все забыть. Зачем подозревать уже умершего человека?
– Я не подозреваю. Я знаю. Разве вы ничего не заметили сейчас, когда мы пришли на кладбище?
Пьер с отвращением выслушал отчет мадам Ласкен о визите юной дамы к покойнику. Букет роз, связанный бретелькой от комбинации, окончательно наполнил его гадливостью.
– Господи, мама, зачем вы мне все это рассказываете? – простонал он.
– Я не должна была этого делать, но я ужасно страдаю, – сказала мадам Ласкен голосом, в котором явственно звучала гордость.
Не понимая, что она просто играет в собственную значительность, зять открывал ее для себя в самом пугающем свете. Он был неприятно поражен. Он думал, что входит в спокойную, уравновешенную семью, за внешним благополучием которой ничего не кроется. А выходит, что отец был порочным человеком, которому не противно было тискать чьи-то ляжки собственными руками. Даже лежа в могиле, он продолжал привлекать женщин своей похотливостью. Мать, с виду такая чистосердечная и спокойная, была снедаема мрачными страстями и мучима кошмарной ревностью, которую не могла угасить даже смерть. И Пьер вспомнил, что видел в руках у Роже, младшего брата своей жены, фотографию Мэй Уэст, американской артистки с пухлой и совсем неспортивной грудью, образ которой отвлекал от стадионов стольких одаренных мальчишек. Климат в доме явно изменился. Весь вечер Пьер ловил вокруг себя страшные взгляды – то отяжелевшие от мысленно пережевываемых удовольствий, то живые, горящие отравой вожделения. Он впервые отметил, что у Виктора, метрдотеля, опасное лицо сатира. Он обнаружил также, что горничные украдкой раздевают его глазами. Он больше не чувствовал себя в безопасности. О Мишелин он не осмеливался ничего подумать, но вечером в спальне нельзя было не заметить, какой взгляд она бросила на портрет Ладумега, висящий на стене. Ясно, что она думала не о легкой поступи и не о дыхательных возможностях знаменитого бегуна на длинные дистанции.
– Какой замечательный человек, правда? – скромно заметил он.
Мишелин в мыслях своих была далека от Ладумега, столь далека, что даже слегка смутилась и покраснела. Этот внезапный румянец был явным доказательством, что спортсмен наталкивал ее на какие-то тайные мысли. Ему стало неудобно за Ладумега. Он испугался и за себя. Ему вдруг пришло в голову, что ночью, воспользовавшись его сном, она может совершить на него нескромное покушение, идущее вразрез со спортивной честью. Наутро эти страхи показались ему сильно преувеличенными, и у него хватило чувства юмора, чтобы счесть их смешными, но тем не менее семья Ласкенов утратила в его глазах свою столь приятную невинность. Он был уже не так счастлив и чувствовал себя среди домашних стесненно и неуверенно, а теща поддерживала в нем эти чувства, при каждом удобном случае демонстрируя глубину страдания и отчаяния. Это разочарование, которое он, впрочем, скрыл ото всех, заметно изменило его поведение в отношении Мишелин. Ему уже не так хотелось иметь ребенка, и все больше времени он посвящал физкультуре и чтению хороших спортивных книг. Однако Мишелин даже не заметила, что в их отношениях наступила какая-то перемена.








