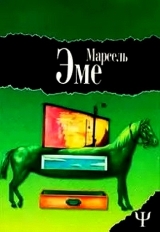
Текст книги "Ящики незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Вошла служанка, чтобы убрать посуду. Мариетт умолкла, но Жермен, стремясь успокоить совесть сестры, обошла опасную фразу, равно компрометирующую и Бернара, и Шовье. Это была досадная неосторожность, поскольку служанка только накануне получила плату за неделю.
XVIIIЭлизабет с беспокойством наблюдала за лицом своего любовника, все же не решаясь ни жестом, ни словом нарушить оцепенение, казавшееся ей опасным. Опершись локтями на стол, за которым они только что пили чай, и повернувшись спиной к окну, Шовье смотрел прямо перед собой, не думая ни о чем конкретном, и в нем не зрело никаких определенных решений, которые могли бы исправить положение. То, что произошло внутри, было столь внезапным и быстрым, что не успело отразиться на его лице. Глядя на стоявший перед ним комод, прелестный комод в стиле Людовика XVI, которым он так часто любовался, он вдруг ощутил себя потерянным, будто он проснулся среди незнакомой обстановки, и тотчас же перед ним возникло видение гостиничного номера, унылого и голого, куда свет проникал через окно в ржавых потеках, стекла которого отливали сталью и темной водой. Однако этот лишенный очарования образ являлся ему как инъекция, как давно ожидаемый зов, и ему захотелось встать и просто сказать: «Я ухожу». Впрочем, Шовье понял, что вскоре так и сделает. Предлогом послужит какой-нибудь спор с директором завода, и с его стороны это выйдет непроизвольно. Привидевшийся ему гостиничный номер не был воспоминанием. Он не узнавал в нем ни одного из номеров, в которых ранее жил. Это был частично приоткрывшийся ему кусочек его будущей участи. Его существование должно было перемениться. Возможно, он был неспособен оказать сопротивление, окопаться, да и как-то совсем не хотелось. В несколько мгновений ему представились все доводы, вынуждавшие согласиться с этим решением судьбы. Любовь его не удержит. Страсть, лишь придающая некоторый вкус жизни, ничего не созидающая и не разрушающая, не казалась ему чем-то важным. Он освободится от Малинье, к которому, несомненно, вернется Элизабет и несколько утихомирит его психоз. Со стороны Ласкенов его тоже ничего не могло удержать. После приключений Мишелин с боксером-писателем и последовавшей жестокой развязки, ходить к сестре ему не доставляло удовольствия. Дом на улице Спонтини был во власти безрадостной и бессильной анархии. Там недоставало мужчины и, возможно, было бы предпочтительней, чтобы Милу остался жив и осуществил свое намерение заменить Пьера Ленуара. И, наконец, от завода его мутило. Зрелище бурной радости рабочих, добившихся уступок по некоторым второстепенным вопросам, вызывало у него жалость и возмущение. На виновников этого смехотворного энтузиазма он был искренне зол. Однажды вечером, вернувшись к себе и кипя негодованием, он начал писать книгу, которая начиналась так: «Статья 1 – Рабочие – это рабы. Статья 2 – Их рабское положение ни в коем случае не вытекает ни из формы правления, ни из конституции государства, а происходит единственно вследствие необходимости, чтобы они могли заниматься унылым и отупляющим трудом. Статья 3 – Доктрины и партии, которые не только замалчивают эти элементарные истины, но и переключают внимание рабочих на совсем другие предметы, предают дело рабов…» Тут пришла Элизабет, и он не стал продолжать, но эти отправные посылки казались ему прочными. Может, он допишет остальное у себя в гостиничном номере. Женственная роскошь обставленной Ласкеном квартиры не очень-то способствовала суровым размышлениям и обволакивала очевидность чем-то бархатистым, смягчавшим ее убойную силу. Еще одна причина.
Шовье обернулся к Элизабет с нежнейшей улыбкой, которая ее успокоила. Она стала просить его о разных вещах, касающихся их любви, и всякий раз он горячо выдыхал: «Да». Он называл ее своей жизнью, душенькой, росинкой и уже расстегивал штаны, как вдруг у входной двери раздался звонок.
– Это мой герой-любовник, – сказал он, – у меня с ним дел минут на десять.
После периода испытаний, который, несомненно, был классическим вступлением к торжеству любви, Бернар не сомневался, что вскоре обретет счастье. Полицейское расследование, казалось, было решительно обращено к некоторым боксерским кругам, где бывал Милу, и не исключено было, что убийцу обнаружат. Мишелин не стала ни менее красивой, ни менее чистой, чем до прелюбодеяния. После долгих препирательств со своей совестью Бернар счел себя не вправе строго судить ее. Эта внезапная слабость слишком наивной молодой женщины делала ее еще более трогательной, а ему-то великодушия было не занимать.
– Здравствуйте, мсье Ансело, – сказал дядя Шовье игривым тоном, в котором чуть слышалась агрессия. – Безумно рад вас видеть. Вы, наверное, хотите поделиться со мной каким-то новым планом?
– Нет, никаких новых планов. Я хочу жениться на Мишелин. Мы с ней виделись в четверг.
– Да, вчера вечером она мне говорила о вашей встрече. Но она мне не сказал, что речь шла о свадьбе. Значит, Мишелин что-то скрыла от меня?
– Никоим образом. Эта тема даже не затрагивалась.
Они стояли посреди большой комнаты, служившей одновременно салоном и кабинетом, с уголками, располагавшими к беседе с глазу на глаз. Сунув руки в карманы, выставив голову и приподняв плечи (поза эта задержала внимание Бернара и пробудила в нем еще неясное воспоминание), Шовье сделал несколько шагов к окну и повернулся на каблуках.
– А почему бы вам сначала не переговорить с Мишелин? – спросил он. – Вы, несомненно, хотите, чтобы я выступил посредником?
– Да нет, уверяю вас, – стал отпираться Бернар. – Мне это даже в голову не приходило.
– Тогда зачем же вы делаете из меня наперсника? Я же пожилой человек. И не говорите, что вам может пригодиться мой опыт. Влюбленный не нуждается в опыте других. Но я начинаю думать, может, вы не уверены в своей любви и в своем желании жениться на ней? Нет, тоже не то. Я понял. Вашей совести нужно найти отклик в чужой совести. Тогда это не по адресу, мсье Ансело. У меня совести нет.
– Мсье Шовье, вы преувеличиваете. В тот вечер, когда мы вместе ужинали, вы так долго рассказывали мне о долге дружбы.
– Это правда. Я вел себя бесчестно. Забудем об этом. В конце концов, речь идет не обо мне.
Шовье принялся расхаживать перед Бернаром из конца в конец комнаты, насмешливо говоря:
– Мне сказали, что вы убили любовника Мишелин. Особа, которая мне это говорила, кажется, даже взволнована и тронута. И прямо восхищается вами.
Со спины и против света чуть приземистая фигура Шовье напоминала Бернару силуэт убийцы. В конце концов она и совсем совпала с той, что сохранилась в его памяти.
– Я его не убивал. Я только намеревался. Но я бы наверняка это сделал, если бы кто-то другой не опередил меня.
– Допустим, что его убили вы, – сказал Шовье. – Это ничего не меняет в том мнении, которое у меня сложилось о вас. Не воображайте себя исключительной личностью из-за того, что совершили или чуть не совершили убийство. Ваш поступок имел бы какую-то ценность, только если бы вы всегда были готовы убить во имя того, что вы любите. Впрочем, я не настолько требователен. Никто сильнее меня не желает, чтобы Мишелин развелась, но лишь для того, чтобы выйти за парня, который будет способен стать для нее опорой. А таких предостаточно. У вас, к сожалению, нет ни одного из тех недостатков, каждый из которых сам по себе достаточен, чтобы командовать в доме или подчинять себе женщину. Вы не тщеславны, не скупы, не злы, не завистливы. А достоинства ваши не того рода, чтобы залатать эти прорехи. Вы добры, честны, чувствительны и, как все люди, не порабощенные одной страстью, по поводу и без повода ставите перед собой тысячу мелких моральных проблем, еще более восхитительных оттого, что они не разрешимы. Но это не то, на чем может держаться семья. Вы хотите жениться на женщине, богатой деньгами и здоровьем, совесть которой функционирует, как печень, помимо ее сознания. Она неспособна следовать за вами в дебри ваших мелких грешков и угрызений. Сами же вы не выросли среди изобилия, и вам недостает непринужденности, чтобы принять богатство, которое вам принесет женщина. Вы будете неловко себя чувствовать, будете говорить себе: мне не следовало этого делать. Муки совести, угрызения, нервозность, апатия. Да что это с ним, что я ему сделала? – будет спрашивать себя Мишелин. Короче, вы никогда не споетесь.
Бернар не стал возражать против того, что считал совершено очевидным. Он лишь испустил вздох, означающий одновременно и согласие, и сожаление. Шовье положил ему руки на плечи и добавил отеческим тоном:
– Я никак не буду противодействовать вашему решению, но послушайте меня, Бернар, и не женитесь на Мишелин. Когда ваша стажировка закончится, вы уедете в колонии и найдете там именно ту жизнь, которая вам подходит. Вы сочтете, что аборигены гораздо лучше европейцев, и сможете в свое удовольствие стыдиться себя и той цивилизации, которую вы представляете. И потом, подумайте, чем для вас станет отъезд. В вашем возрасте сесть на корабль и отправиться в дальний путь в тоске и муке – разве у вас при данной мысли слюнки не текут? Средиземное море, Красное море, меланхолия, пальмы, острова, разбитое сердце, Индия, бескрайние горизонты, неизведанное. О, вас жалеть не приходится.
Понимая, что его уже сажают на корабль, Бернар улыбался, но не говорил «нет». Эти ассоциации ему нравились. Он посмотрит, подумает. Он не хочет сделать Мишелин несчастной, он все же любит ее. Это была чудесная моральная дилемма, и, провожая молодого человека до двери, Шовье считал, что выиграл партию.
Возвращаясь домой с улицы Фальсбур, Бернар предвкушал, как погрузится в сладостные мечтания. Дам Ансело дома не было. Но не прошло и нескольких минут, как в дверь позвонил полицейский инспектор, который хотел с ним говорить. Это был мужчина лет сорока, похоже, весьма опытный в своем деле. Бернар, более спокойный, чем мог от себя ожидать, принял его в гостиной. Убедившись, что служанка не подслушивает за дверью, полицейский скрутил папиросу и начал допрос. «Где вы были такого-то числа в таком-то часу?» «В „Мулен де ла Галетт“, а потом вернулся домой». «Вас видели на улице Жирардон около полуночи». «Возможно, я не знаю улицу Жирардон». «Давно ли вы в последний раз видели жертву?» «Какую жертву?» «Ладно, ладно, не придуривайтесь. Знали ли вы семью Ласкенов?» «Немного». «Ах вот как, немного, ну, так я вам скажу, у вас губа не дура. Ласкены – это те, что заводы Ласкен. А что. Мелкий служащий с зарплатой в тысячу франков, отец уже одной ногой в тюрьме и в конце концов попадется. И уже лезет в одно из двухсот богатейших семейств. Тьфу, прямо противно быть честным человеком. Не стало никаких сословных преград, все смешалось. Сегодняшние богачи – как перезрелые сыры, уже не умеют держать дистанцию. Ну, так с которой из них вы спали – с матерью или с дочерью? А-а, мсье, не желаете отвечать. Деликатность, знаете ли. И перестань на меня так пялиться, понял? Надо сильно много таких пройдох-приказчиков, как ты, чтобы провести одного такого фараона, как я. Заткнись, джентльмен нашелся. Скажи мне лучше, зачем ходил к Шовье сегодня». «Потому что мне так захотелось». «Издеваешься? Ладно. Гуляй, пока время есть. Когда сядешь, я тебе морду начищу. Давай дальше, Шовье был с тобой в „Мулен де ла Галетт“?» «Нет». «Вы встретились у выхода?» «Нет». «Не добавляй себе сроку, понял? Ты уже влип. Если хочешь мой совет, то лучше честно расскажи, как все было. Я даю тебе хороший шанс спасти шкуру. Видишь ли, я почти склонен верить, что это не ты придушил педика. У тебя силенок мало. Боксера не задушишь руками пианиста. Видишь, тебе есть полный смысл колоться. Выходит, ты держал его за ноги, пока тот душил. Не хочешь говорить? Тебе же хуже будет. Подумай сам. Доказательства есть только на тебя. Отдуваться будешь сам. А жаль. Ты же не такой еще закоренелый, у тебя образование, дипломы разные, суд мог бы принять во внимание. Подумай про мамочку. Она будет так страдать, когда тебе отрубят голову. Упираешься? Ну, я не настаиваю. До скорого свиданьица».
У Шовье, куда он подъехал на такси, инспектор, слишком уверенный в себе, допустил ошибку. После нескольких минут допроса ему показалось, что подопечный держится скромно и сдержанно, и у него было настолько сильное впечатление, что тот у него в руках, что он решился злоупотребить своим преимуществом.
«Хочу вас, кстати, предупредить, что алиби, построенное на показаниях шлюхи, в зачет не пойдет». «О какой шлюхе вы говорите?» «Я говорю о шлюхе вашего зятя Ласкена, которую вы прибрали к рукам…» Ни эти слова, ни сопровождающая их ухмылка не вывели из себя Шовье. Он был совершенно хладнокровен, когда заехал по лицу инспектора. Его вынудила к этому какая-то художественная необходимость, как если бы он таким образом вставлял удачную реплику, единственно возможную. Он рад бы был продолжить разговор, но поскольку инспектор разразился отборной бранью, он подтащил его, пыхтящего и вопящего, ко входной двери и вышвырнул на лестницу.
– Полиция подозревает меня в убийстве Милу, – пояснил Шовье, когда Элизабет поинтересовалась причиной шума. – Я очень энергично заявил о своей невиновности, но такого рода аргумент могут счесть спорным.
– Но как полиция может подозревать тебя? Это бессмыслица!
– Не совсем. Охраняя честь своей племянницы, я будто бы задушил ее любовника при соучастии юного Бернара Ансело, который держал жертву за ноги. Мне очень неприятно то, что ты рискуешь быть впутанной в эту историю. Возможно, минут через пять этот полицейский вернется с подкреплением. Он не должен тебя здесь застать.
Подгоняемая Шовье, Элизабет оделась и спросила, уходя:
– До завтра?
Он ответил:
– Нет, ни завтра, ни послезавтра, ни на неделе. Позже.
Она хотела расплакаться, сказать, что это ужасно, но он нежно выставил ее за дверь.
У инспектора саднило лицо, его обуревала жажда мести. Сперва он подумывал вернуться к Шовье с двумя мускулистыми гориллами, но осознал, что вел свой допрос небезупречно. С другой стороны, удар кулаком произвел на него впечатление, и он уже не был так уверен в виновности этого молодчика. На случай, если этот тип невиновен, лучше не придавать слишком большого значения исходу первого допроса. Вдруг ему пришло в голову, что можно в ожидании более удобного момента отправиться с допросом к Ласкенам, где есть хорошая возможность для тихой мести.
Пондебуа, бывший неподалеку с визитом, зашел на улицу Спонтини, но отклонил предложение остаться на ужин. Это было выше его сил. Никогда еще Ласкены не выказывали себя такими темными и убого-ограниченными, как в этот день. Ни политические события, ни литературные новости не интересовали их ни в малейшей степени. Настоящие животные – добрые, ласковые, но закрытые для всякой духовности. Только один пример из тысячи: его великий роман, выходящий в октябре, был предметом неустанного обсуждения всех хоть сколько-нибудь культурных людей. Газеты уже давали свои отзывы. У Ласкенов – даже и речи нет. Они будут вам рассказывать о моде, о грушах в своем саду, о своем друге Пьеданже, о спортивных соревнованиях, о своих мелких заботах, а о романе – ни единого слова. Покойный Ласкен тоже был не такой уже герой. Но он проявлял хоть подобие любопытства и имел несколько плоских, но твердых идей, за которые можно было бы зацепиться, чтобы начать спор. Красива эта бедняжка Мишелин. И изящество, и элегантность, но за этим томным видом, который она теперь на себя напускает, абсолютно ничего нет. А Пьер Ленуар все более мельчает. Став робким и забитым конторским служащим, он, кажется, растерял тот мальчишеский, но горячий энтузиазм дурака-спортсмена, который мог сойти хоть за какой-то смысл жизни. Что же до мадам Ласкен, то она не меняется. Она сохранила свою возмутительную невинность, не дающую ей соприкасаться с жизнью, что объясняет и беззаботность, с которой она пребывает в своих заблуждениях, и ее тоску по какому-то бурному и тревожному миру, закрытому от нее именно ее простодушием. Несчастные люди. Несчастная семья. В такой скучной компании только теряешь время безо всякой пользы для кого бы то ни было. Но как же забавно говорить себе, что эти вялые и нелюбопытные тупицы по иронии судьбы состоят в родстве с Люком Пондебуа, таким глубоким и тонким писателем, командором Почетного легиона в сорок девять лет и кандидатом в Академию. В этом сближении есть своя пикантность.
Инспектор, олицетворение правильности и достоинства, произвел довольно хорошее впечатление. Его левая рука, одетая в перчатку, держала вторую перчатку, жесткую и с растопыренными пальцами, напоминающую руку правосудия. Прежде всего он всех успокоил и вежливо извинился за то, что в интересах следствия вынужден задать несколько вопросов. В ходе допроса он сумел тактично, но недвусмысленно открыть все то, о чем мадам Ласкен, Пьеру Ленуару и Пондебуа лучше было бы и вовсе не знать. Впрочем, он не получил никаких сведений, которые смогли бы продвинуть следствие, и ушел, удовлетворенный единственно тем, что взял реванш над Шовье.
Удрученный мыслью о скандале, который не преминет облить грязью и его и, возможно, навсегда закроет перед ним двери Академии, Пондебуа рассыпался в гневных упреках. Он ругался, как дюжина извозчиков, употребляя самые нецензурные слова. Сначала он вцепился в Мишелин. Как она могла, сто миллионов громов и молний, спать (да, спать) с этим хулиганом, с этим мелким сутенером, который находился на содержании у старого дряхлого педераста? В наше время, если и предавались таким излишествам, то хоть умели это скрывать. Мишелин, в первый момент сконфузившись, взяла себя в руки и повела себя нагло. Внезапно приняв облик великосветской дамы, посматривая свысока, она уверенным голосом и лаконичными фразами дала понять кузену Люку, что он совершенно не вправе давать оценки ее поведению. Она не могла потерпеть того, чтобы он позволял себе делать ей замечания, даже если бы она: бросилась в обьятия шофера или садовника. Пондебуа задыхался. Проклятье, мое положение, моя репутация, мои связи, мое творчество, мои читатели! Мадам Ласкен чего только не делала, чтобы усмирить его ярость. Он перекинулся на Пьера, Ленуара, которого все эти открытия, казалось, уничтожили, и стал упрекать его в слепоте, дурости и бездеятельности. Впрочем, долго куражиться ему не пришлось. Ни слова не сказав и не взглянув в его сторону, Пьер поднялся и вышел. Решено, он собирает пожитки и немедленно покидает этот гнусный дом, еще содрогающийся от похотливых порывов его несчастной супруги. Он больше не может. Жалкая кровь Ласкенов сдержала свои обещания. Попав по недоразумению в семью сатиров и припадочных, Пьер спешил вырваться из нее.
Однако, оказавшись в своей комнате, Пьер отложил уход и принял решение просто развестись. Сидя на кровати, он немного помечтал о вновь обретенной свободе. Цена его не волновала. Он не держался ни за что, в чем, как полагают люди его круга, состоит счастье. Если понадобится, он будет работать своими руками. Лишь бы иметь возможность регулярно тренироваться и восстанавливать форму – и он будет счастлив. Но вскоре тщетность мечтаний о бегстве стала для него очевидна. Достаточно было представить себе, как воспримут отец и брат его решение начать бракоразводный процесс. Одним пожатием плеч они его похоронят. Он мог бы ослушаться их воли или подать на развод, не спросив их, но это были лишь теоретические возможности, которые он даже не стал рассматривать. Мысль о том, чтобы воспротивиться или уклониться, была совершенно абсурдна. Отцовская воля жила в нем, как хроническая болезнь. Он мог оценить размеры причиненного ею ущерба и сожалеть о них, но отделаться от нее он не мог. Стало быть, его планы насчет развода, которые могут разрушить замыслы его брата и мсье Ленуара, были чистой химерой. По правде говоря, он даже не посмел бы им их сообщить. Значит, жизнь будет продолжаться – адская, тошнотворная жизнь. Пьер открыл ящик комода, бросил взгляд на свои кроссовки, пощупал белую шерстяную футболку и шорты и спустился к ужину.
Пондебуа (он, естественно, остался на ужин) без конца расписывал последствия катастрофы, обрушившейся на их дом. Будет суд, Шовье на скамье подсудимых, Мишелин, ее мать и муж будут проходить как свидетели. Поклянитесь. Были ли вы знакомы с убитым? Встречались ли вы с ним? и т. д., и т. п. Все это попадет в газеты на первую полосу, и с какими пикантными подробностями! Может статься, и ему придется давать показания. Только этого еще и не хватало. За ужином Пондебуа почти ничего не ел, все более и более удрученный новыми, открывающимися ему перспективами. Спокойствие сотрапезников окончательно выводило его из себя. Не осознавая серьезности этого дела, они ели все подряд и не издавали никаких воплей отчаяния. Одна мадам Ласкен была слегка возбуждена, но по мнению Пондебуа, в совершенно недостаточной мере. К счастью, он не догадывался об истинной природе этого волнения. Несмотря на всю обеспокоенность, мадам Ласкен не могла подавить в себе какое-то пьянящее чувство, сродни веселью. Теперь ей незачем было завидовать кухарке или графине Пьеданж. Драма, лишь иногда ненадолго просачивавшаяся в ее жизнь, возрождалась во всей своей мощи, сгущенности, сложности и закреплялась намертво. Она одним глазом плакала, другим смеялась, а то и невольно смеялась обоими.
– Я удивляюсь вам, Анна, – говорил кузен Люк. – Вы, кажется, не понимаете, что вам грозит. Если только дамочку Элизабет Малинье обвинят в соучастии, что весьма вероятно, то вся история ее связи с Ласкеном будет вытащена наружу. И, конечно же, комичность усугубляется тем, что Шовье сменил своего зятя в постели этой шлюхи. Какая грязь, какой скандал! О, ваш брат может гордиться, что он дурак из дураков. В его возрасте пойматься на удочку такой дамочки, как это печально! К тому же в ней, в этой его Элизабет, нет ничего особенного.
– Вы с ней знакомы?
– Знаком ли я с ней? Да ведь она сначала положила глаз на меня, когда у нее о бедняге Шовье еще и мысли не было. Правда, она быстро смекнула, что я не глотаю наживку. Я же не настолько глуп. И если бы вдруг (допустим невозможное) я соблазнился на эту авантюру, все равно воздержался бы из уважения к памяти кузена.
Шовье пришел к концу ужина. Лицо у него было отдохнувшее, глаза ясные, и в голосе не звучало никакого беспокойства.
– Я проходил мимо, – сказал он. – Зашел с вами поздороваться и узнать, как вы тут живете.
Пондебуа со злобной иронией взирал на этого жалкого олуха, не видящего, какая угроза над ним нависла.
– Так вы что, ничего не знаете?
– Вы о чем? – любезно спросил Шовье.
Пондебуа хмыкнул, затем на одном дыхании и не без злорадства обрисовал положение, осыпал его упреками, приплел суд присяжных, приговор и остановился только у подножия гильотины.
– И вы ничего этого не знали?
– Да нет, я знал все, кроме, простите, суда. Ко мне сегодня заходил инспектор.
– Ну и?
– Я, естественно, заявил о своей невиновности. Что я еще мог сказать? Я думаю, и вы так же поступите, когда подозрения полиции падут на вас.
– На меня? – пролепетал Пондебуа. – Вы думаете, что я тоже…
– Несомненно. Возможно, вы рискуете еще сильнее, чем я, ведь я не знал убитого. А вы не только познакомились на море с этим юношей, но и принимали его у себя.
– Он принес мне свою пачкотню…
– Вот именно. Эварист Милу был литератором. Следствие, без сомнения, сочтет, что ваша неприязнь усугублялась литературным соперничеством. Впрочем, ваше положение небезнадежно, я уверен, что вас оправдают за недостатком улик, если, конечно, вы не оставили следов…
– Следов? Но послушайте, ведь не я же его убил, в самом деле!
– Да? – сказал Шовье. – А я-то думал.
Кузен Люк был бледен, а все остальные тихо радовались. Мишелин смотрела на любимого дядюшку с обожанием, одаривая его скромной улыбкой, исполненной благодарности и нежности.
– Еще хуже для вас то, – продолжал Шовье, – что убитый был педерастом. Всех писателей в этом подозревают – кого больше, кого меньше, особенно в определенном возрасте. Отсюда всего один шаг до заключения, что ревность была еще одним мотивом. К счастью, в этом отношении я за себя спокоен, поскольку полиции известна моя связь с Элизабет.
– Но у меня же есть любовница, – простонал Пондебуа. – У меня есть любовница.
В этот момент появился Бернар Ансело. Он хотел создать впечатление, что приход его случаен, и не собирался ничего рассказывать о нависших над ним подозрениях, но все в нем выдавало глубокое волнение.
Мишелин была озадачена, увидев его в таком состоянии. Его дрожащий голос, крайне нервозные жесты и выражение лица заронили в ней подозрение, что между ними двумя существует какое-то заметное качественное отличие. Тем не менее он сохранял в ее глазах ореол влюбленного, готового ради страсти на убийство. Пондебуа, охваченный страхом, не сразу заметил появление юноши.
– А эта скотина что здесь делает? – воскликнул он. – И это при том, что полиция, вероятно, наблюдает за домом. Она решит, что тут военный совет.
– И то правда, – сказал Шовье, – чему же тут удивляться? Ведь это же естественно, что трое подозреваемых в убийстве сговариваются между собой.
Бернар с массой предосторожностей, чтобы не задеть чувства Пьера Ленуара, кратко изложил допрос, учиненный ему инспектором. Пондебуа закрыл лицо руками и слушал вполуха, в отчаянии разминая лоб. Вдруг он поднял голову и разразился бессмысленным смехом, и каждый подумал, что этот светлый ум повредился, ибо он произнес певучим голосом, не переставая смеяться:
– Боже, я спасен. Пойду-ка я стричься.








