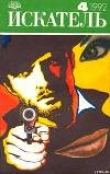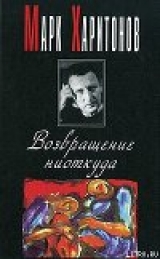
Текст книги "Возвращение ниоткуда"
Автор книги: Марк Харитонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
14. Березовый сок
Смотрит на меня – и не вздрогнула, не удивилась. А если и удивилась, то не встрече этой, ничуть не более невероятной, чем прошлые – ведь с этой женщиной невероятное осуществлялось скорей возможного – а чему-то незнакомому во мне. Или как раз знакомому. Долгая задумчивость была в этом взгляде.
– У тебя щетина, – сказала, словно отвечая на непроизнесенный вопрос. Словно мы продолжали прерванный разговор, и за время нашего молчания что-то произошло, о чем мы оба знали помимо слов. – И с рыжиной. Откуда? На голове нету. Может, ты в душе всегда был рыжий?.. Значит, так все-таки бывает…
Пласт земли на корнях упавшей березы был совсем свежий, еще сырой, он казался несоразмерно тонким, этот плоский слой, из которого взметнулся такой громадный ствол, вся эта могучая масса древесных стеблей. Уязвимая, в считанные сантиметры, пленочка на земной поверхности, на толще неживого песка, несоизмеримая с громадой лесного вещества, которое было ею порождено и напитано.
– Видишь этот надрез? – показала она. – Еще не засох. Когда это было? Вчера?.. позавчера?.. время стало путаться. Я ходила на станцию за билетами… это вон тут, рядом, – неопределенным движением руки показала за спину. – И зачем-то свернула в лес. Никогда прежде не ходила. Вдруг вспомнила, как в детстве пила березовый сок. Редкое запретное счастье: когда удавалось убежать от всех, уединиться, раздобыть нож – если бы это раскрылось, пришлось бы расплачиваться. Ножи нам не разрешались. Подумала, что как раз сейчас он должен течь, Захотелось опять попробовать. У меня был с собой перочинный нож, дорожный. Сделала надрез, вставила соломинку… Не могу объяснить это чувство: запретной сладости, страха, что причиняешь боль, ранишь ножом живое существо – и все-таки, все-таки… И вот сейчас, до отхода поезда осталось время, я сдала вещи в багаж… захотелось найти это место, эту березу… Вот… Но ведь не может быть, чтобы это из-за меня, из-за крохотного надреза. Его и не видно почти. Может, это не та?.. Но надрез мой. Ведь так не бывает? Или как раз бывает. Мы ничего не знаем. И ничего не исправишь, не возвратишь. Что ты молчишь?
Миллионные доли случайности сходятся ради встречи, которой желал – и потому что желал, как будто сам предвосхитил, вообразил или вымечтал, заранее зная, что все эти случайности все равно ничего не значат, потому что через отмеренный промежуток времени, после считанных ударов сердца вы должны разойтись снова, теперь уже действительно насовсем: поезд уже приближается к станции, где-то там, за лесом, неотвратимо постукивают колеса, время сдвинулось, ожило вместе с музыкой. Бессильные, ничего не способные изменить слова застревают в гортани. Загустелый посмертный сок еще течет из потемневшего надреза, капает на прошлогоднюю, сохранившую зеленый цвет травинку, на бурый омертвелый лист, уходит дальше, обратно в землю.
– А ведь я думала, что увижу тебя. Должна увидеть, сама не знаю как, но должна, можешь ты такое представить? – Усмехнулась, прикрыв глаза. – И сюда шла с этой мыслью. И когда тянула сок из соломинки. Просто видела тебя, вот так, как сейчас. Теперь уже можно сказать. Потому что через час с небольшим меня уже здесь не будет. Лучше убежать, пока ничего не случилось. А что случилось, того уже, видно, не отменить. До последнего дня, до этой вот самой минуты я еще на что-то надеялась. К фотографии так и не прикоснулась.
И даже во сне увидеть его не смогла ни разу. Вижу кого-то, кто должен означать его, но знаю, что это не он…
Как будто есть в этой тени что-то, способное окончательно превратить в тень изображенного на ней, оставить где-то там, где нет ни смерти, ни жизни, лишь ожидание без надежды… нет, ужасней всего, что надежда не отпускает. Или это называется любовь? – невозможность освободиться и попытка освобождения. Почему запрещено оглянуться, если хочешь… нет, не вернуть – удержать?.. хотя бы взглядом, хотя бы на единственный миг. Не запечатлеть навсегда, не приобщить к вечности, к миру изображений, одеревенелостей, окаменелостей… но хотя бы еще на миг, на самый последний миг (потому именно и последний)… увидеть крапинки серо-зеленой радужины, и волосок брови, и белую корочку на губах, ощутить тепло родных губ, тепло дыхания, тепло кожи, сладость сока на языке и под языком – сока, соединившего нас в березовом перелеске через сосуды, корни и землю.
Музыка разливается половодьем, деревья погружаются в нее до верхушек. Распустившиеся волосы пахнут клейкими почками, стебли сошлись в вышине над нашими головами, кружится свет, расщепленный на лучи тоненькими ветвями, поворачивается, запрокидываясь, земля со всем, что на ней, и больше не нужно слов, пальцы, умные, нежные, которые лишь кажутся тебе твоими, сами делают то, что ты всегда хотел, как будто знал, как это делается, кожа и тело вспоминают то, чего у тебя еще на самом деле не было, потому что вспомнить – значит прожить, все бывает заново и впервые, единственный и невозвратимый раз, и встреча дается, как чудо, в неповторимый миг, равный проникновению.
Дышит и вздрагивает земля, источает сок черными порами, вобравшими перегной бесчисленных жизней, с которыми мы связаны, не подозревая о них, сосут сладость сосуды и корни, шевелятся травы, трогаясь в рост, бормочут существа, населяющие скрытно от нашего взгляда мир сухих и снова зеленеющих трав, нежно сияющие холмы плавают в музыке, мы связаны с этой землей и этой музыкой, соединены через них, и все на свете соединено через нас…
Прель отжившей листвы и обещание новой, мелодия скрипки и мелодия смычка. Трепет воздуха одухотворяет предметы. Серый валун напрягся и замер, как готовая вот-вот очнуться мысль; бесформенная вечность сгущается зародышем смертной жизни внутри сбывающегося сна, в который ты не можешь до конца поверить, даже когда он совершается наяву – и даже вот уже веришь, но каждое мгновение осознаешь, что сейчас он все равно рассеется, кончится неумолимо, ибо все на свете должно кончиться, каждое мгновение на огромном шаре земли отлетает от чьего-то тела облачком последний вздох или последний хрип, как стон последнего содрогания, и каждое мгновение из материнского тела выпрастывается чья-то новая отдельная жизнь, чтобы с криком вобрать самостоятельный воздух, но для тебя ничто больше невозможно, только продлить еще, еще хотя бы на миг… когда все становится одним общим сердечным биением, а потом уже памятью и виной. Еще на миг… подожди… и невозможно, и не хочется умирать, но без этого не бывает. Все должно кончиться, как кончается жизнь, чьи-то слепые тела лишь временные инструменты замысла, который ищет продолжения через них и после них, драгоценный сосуд уже наполнен залогом неизвестных существований, чтобы они распространились по поверхности земли. Сок сладких видений еще течет, застывая, густея, на мертвеющую кору и уже отмершую листву. Нежность свернулась улиткой под клейким листом. Красный жучок переползает с прошлогодней жухлой травинки на свежую.
На щеку упала капля начинающегося дождя. Я вижу ее улыбку – неясную улыбку женщины, которой не нужно заботиться о вечности, потому что она и так ей принадлежит. Вот и все, говорила эта улыбка. Я свое взяла. Я знаю, что взяла, теперь я точно знаю, без всяких доказательств. Не от него, так от тебя, но тебе до этого не должно быть дела. Что еще надо?.. А еще я знаю, что теперь его действительно больше нет… окончательно. Что ж, возьму на себя и это. Так было надо. Это и есть жизнь. Что-то должно кончиться, что-то должно начаться. Без этого не бывает.
15. За что?
Незачем теперь и шевелиться. Все уже произошло, можешь лишь думать, будто ты этого не знаешь, ты просто пока не готов чего-то вместить. Пока еще есть время – промежуточное время дороги. Не обязательно даже двигать ногами – тебя перемещают дальше, не требуя собственных усилий. Отголосок еще звучащей музыки все больше перекрывается мелким шумом дождя, дробным перестуком копыт, разрастающимся сознанием утраты. Чувство вины и предчувствие беды лишь кажутся безотчетными. Попутная телега везет тебя в город со станции, где ты окончательно и как бы рассеянно, второпях, распрощался – не с женщиной – с возможностью другой жизни, но заодно и с частицей прежнего существования. Не убежать и не вернуться, разве что попытаться не думать – или не сочинять дальнейшего… но разве это в твоей власти?.. Что-то, запавшее, как зернышко, само собой набухает – в уме или в окружающем воздухе.
Две фигуры впереди укрыты с головой мешками; на одном черные буквы Sugar Cuba, на другом простая прореха. Такой же мешок был предложен мне. Он то и дело сползал с головы, руки уставали придерживать. Пахнет кислой сыростью, пылью прошлогодней картошки. Между спинами возниц виден лошадиный круп, изъязвленный мухами, хвост с невычесанными репьями. Порой ноздрей касается сладкий запах пота и парного навоза – когда, задрав хвост, лошадь выбрасывает под колеса свежие яблоки. Редкое для городского человека удовольствие, удивление перед чудом, какое испытывали когда-то, наверное, при виде неживых самоходных машин, таких, в сущности, простеньких созданий собственного ума – их можно разобрать по винтику и собрать снова без остатка тайны.
(Мысли не о том – чтобы вытеснить, не допустить других. Цоканье копыт, шум дождя, глаза открыты, а может, и нет).
Откуда-то со стороны и сверху: это твое тело под мешком перемещается вместе с телегой из неопределенных окрестностей в сторону дома; ты уже почти готов узнавать места. Проселок сменяется щебенкой, затем булыжником, выбоинами в асфальте, а тело ощущает, как твердо и разнообразно откликаются колеса на все подробности дороги, сбивая в голове мысли и чувства. Пустынные улицы, начинающаяся городская зелень, три понурых мешка на телеге, продолжение дороги пока что скрыто за поворотом, но ты как будто видишь даже, что ждет вас там, куда везут тебя так удачно подвернувшиеся попутчики (только сказать им адрес), словно сам составляешь дальше из совпадений и подручных подробностей не от тебя зависящий сюжет. При всем желании не остановить уже болезненной сутолоки внутри головы, не выпрыгнуть из телеги, как не могут колеса вырваться из глубоко вдавленной однажды в грунт и затверделой, точно камень, колеи.
Задремал, или, наоборот, проснулся.
Дрожь темной подкожной жилки на лошадином крупе, толкотня мыслей, как шум крови в ушах, дробь кислого дождя по мешку, скрип колес, цок копыт, невнятные голоса из-под мешков – из пространства:
– И представляешь, спрашивает: за что?
– Ну, люди! Прямо совсем память отшибло.
– Это как если б мне ногу отрезало, а я спрашиваю: за что?
– Тем более его предупреждали.
– Конечно. Прямо сказано было: сиди и не рыпайся.
– Небось знал, что делает.
– Думал, он сам по себе, за себя и ответит.
– За себя проще всего. Ты о других подумай.
– Раньше такие вещи понимали.
– Раньше так и не спрашивали. Хоть среди ночи подыми – заранее были готовы.
– Раньше в такое время уже возвращались… Э, в какое тебе, говоришь, место? – полуобернулся ко мне Sugar Cuba. Жила поворота напряглась на открывшейся шее, выпростался из-под мешка болезненный выпуклый белок. – Подвезем, – пообещал, не дожидаясь, пока я справлюсь со своим заиканием, и поощрил вожжами кобылу. Она ответила коротким ускорением, заранее притворным, и тут же возобновила прежний ритм.
Собака воет во дворе, когда в доме умирает хозяин, осыпается цветок на окне, когда из соседней палаты вывозят мальчика, с головой укрытого простыней. Может, наша тоска и тревога сейчас от того, что где-то в лесу, не слышный нам, плачет заблудившийся ребенок. Все уже произошло, мы только не готовы это воспринять; так хочется оставаться еще ни при чем. Долгий глухой забор вдоль дороги обтянут поверху привычной колючкой, ты еще вправе думать, будто не знаешь, каким нечаянным попутчикам указываешь путь к своему дому, ты предпочитаешь пока усмехаться удачному совпадению, не особенно даже удивляясь, ты объясняешь свою тоску и тревогу другим, сочиняешь слова оправдания за нарушенный и в сущности пустяковый запрет, чтобы не догадываться о чем-то всерьез.
– А номер дома какой? – спрашивает возница. – Скажешь, когда сворачивать.
Я не мог этого прежде видеть, но не удивлялся чувству узнавания. Белые пятна прилипли к окнам; открываются двери вокруг лестничных площадок, взгляды масок провожают меня снизу от перил и встречают сверху. Стучит за спиной по ступенькам протез одноногого возницы, его напарник волочит вслед пустые мешки, и не нужно тебе ничего объяснять, ты понимаешь и принимаешь без удивления, что люди, которые подвезли тебя попутно и которым ты указал дорогу к дому – судебные служители, они будут то ли участвовать в обыске, то ли описывать ваше имущество после него, потому что в цифрах, перепечатанных тобой для отца на длинных листах, оказалась ошибка, то есть не оказалось в наличии чего-то, что они должны были обозначать, – такие вещи тебе объяснять никогда не считали нужным, с тобой взрослые дела не обсуждались, ты даже не знаешь, поставил ли папа под этими цифрами свою подпись, – но это уже подробности; они, глядишь, добавятся чужими усилиями, нарастут задним числом – они уже разрастаются сами собой причудливей, чем ты мог бы придумать. Двери квартиры раскрыты на обе створки (так бывает на похоронах или на свадьбе), толпа соседей, недостоверно знакомых и не знакомых вовсе, расступается перед долгожданным и важным участником действа. Пожалуйте, гости дорогие, здравствуйте, а то мы уже заждались, самовар остыл. И смотрят искательно: узнает ли, ответит ли? Достаточно твоего кивка, чтобы встречное лицо расцвело. Девочка с треугольным вырезом верхней губки и неживой собачонкой в руке по местному обычаю протягивает оранжерейную гвоздику и делает книксен…
Уже не развеять, не отогнать. Папа в пижаме сидит на стуле в углу комнаты, время от времени привычно трогает пальцем зуб. Вдруг спохватывается, что на него смотрят посторонние, неизвестно как вторгшиеся в мир полуденных дурных снов. Он все еще не может понять их присутствия в своем доме, застигнутый врасплох… не успел вовремя очнуться. Сам виноват, теперь терпи. От мешков, брошенных у дверей, поднимается облако пыли. Мама сидит в противоположном углу. Король и королева. Прямые спинки стульев придают обоим вид чинный и значительный, и все держатся с ними предупредительно, как с виновниками и центральными фигурами редкого торжества, готовые избавить от излишних хлопот: сидите, сидите, не беспокойтесь, мы сами. Так бывают хлопотливы на похоронах знатоки ритуала, всегда лучше знающие, что делать; не хватало еще, чтобы покойник вздумал сам действовать – все равно как если бы ожил; то есть не в том скандал, что ожил, а в том, что хочет распоряжаться за других. Это не по правилам. Не так часто выпадает случай.
И невозможно очнуться. Ты уже понял, что это называется обыск, ты явился на него нежданный с такими же нежданными, чужими, непонятными людьми, которым, не подозревая того, указал дорогу от станции, привел, можно сказать, с собой, и вот застыл у дверей, как зритель, как посторонний среди посторонних, если не хуже, а родители даже не встали навстречу, ничто не шевельнулось в их лицах – можно подумать, что они не узнали тебя, обросшего щетиной? – или не хотели признавать ослушника, навлекшего на них беду? а может, не хотели никак припутывать тебя к происходящему, надеялись не выдать твоей семейной причастности?.. Мама взглянула на меня лишь коротко, не изменив застывшего выражения. Ресницы у папы слипались от набухшего ячменя. Тебя же просили оставаться на месте, – слышу я непроизнесенный упрек, – послушался бы – может, ничего бы и не произошло; но раз уж явился – не надо сейчас требовать объяснений, не надо показывать даже взволнованных чувств. Так положено. Если мы все будем вести себя правильно, то есть замрем неподвижно и в безучастном спокойствии, как будто ничего не произошло, все лишний раз убедятся, что никто из нас ни в чем не виноват, недоразумение как-то развеется, можно будет проснуться уже на самом деле, как ни в чем не бывало. Сам же понимаешь, это скорей всего не совсем взаправду, это не может быть взаправду. Так что не надо дергаться, удивляться, задавать лишних вопросов, даже показывать вид, что тебе неприятно, когда незнакомые люди открывают дверцы платяного шкафа, выдвигают ящики, перебирают белье… Я только вижу, как мама напрягается от этих прикосновений – к вещам, не к себе – точно в кресле зубного врача.
Кто-то входил к нам в квартиру, неизвестно зачем, только потому, что двери стояли открытыми. Вот сосед Христофоров, художник со встрепанной бородой, став у дверной притолоки, водит перед собой по воздуху невидимым карандашом, зарисовывает для памяти портреты, чтобы потом воспроизвести их на упаковочном картоне вонючими самодельными красками. Заглядывают мимоходом, из любопытства, оставляют для присмотра детей; компания молодежи пристраивалась на подоконнике, пробуя гитару, группа любознательных сблизила головы над семейным альбомом в плюшевом переплете цвета детства.
Генеральша держит в руках литровую банку с извлеченным из нашего буфета вишневым вареньем.
– Это вы, что ли?
– Она.
– Не похоже.
– Нет, узнать можно.
– А это он.
– Молодой, а уже лысый.
– Лысый, а смотри какую отхватил.
– А это вон сынок.
– Ишь, головастик, с глазищами.
– А вот смотри, как вырос.
– Вырос, да что толку.
– А варенье-то у вас, между прочим, засахарилось. Вы на стакан сколько кладете?
– Дайте-ка попробовать.
– Кстати, сегодня сахар завезти обещали. Хотите, за вас постою?
– Конечно, не самой же ходить.
– Тем более в такой день.
– Вы не чинитесь, мы по-соседски, по-свойски.
– Так хоть сойдемся поближе. А то уж слишком вы себя поставили. Как будто другие не люди.
– А это кто, ваша мать?
– Какая мать? В таком платье! Небось, бабушка.
– Ишь, барыня.
– Ну, не все нос задирать.
Папа и мама на стульях с прямыми спинками – король с королевой – не рядом, а в разных углах комнаты, как будто и теперь все еще самым главным для них было не проявить никаких чувств перед чужими, не нарушить непонятного здешнего ритуала, ну разве что помочь – из привычной добросовестности:
– Что вы все-таки ищете? Вы лучше скажите, чем переворачивать все.
(Безнадежная попытка ума совладать с чем-то, что совершается по другим законам).
– Пока не нашли, откуда нам знать.
– Вещественные доказательства.
– Предметы роскоши. Золото, серебро.
– Золота у меня нет, – (голос мамы едва ли не виноватый; честность не позволяет ей остановиться). – А серебро… не знаю… Пара ложечек осталась, семейных.
– Да много нам и не надо. Мы ж не хапуги.
– Мы на службе.
– Мы против вас ничего не имеем.
– У нас служба такая…
(На синем шелку ложка с кромкой, за долгие годы объеденной, облизанной моими губами, когда я пил из нее лекарство; она еще пахнет им. Мама держит открытую коробку, точно портсигар с предложением угощаться. Непослушные обкуренные пальцы с достоинством берут по одной).
– Между прочим, вам адвокат понадобится, писать кассацию, могу порекомендовать, – наклонилась над маминым ухом Генеральша. Она сразу в обоих своих халатах, лиловый поверх зеленого, но в вырезе все равно проглядывают кружева комбинации. – Кандидат наук, а денег берет не больше других. Другие с вас только зря тянуть станут, а тут по-соседски.
– Почему кассацию? – встрепенулась мама: она еще пробует сопротивляться. – Еще ведь никакого приговора не было… даже суда.
– Да что вы, в самом деле! Точно с луны свалились. – Актиния на подбородке шевельнула белесыми щупальцами. – Какой вам еще суд?
(Стол уже накрыт зеленым, на столе вазочка с цветами. «С собственного участка. Ради такого случая». Стулья для зрителей принесены от соседей, а те, кто больше, чем зрители, по обычаю занимают скамью, на которой они всегда сидели перед подъездом, встречая и провожая нас взглядами, и теперь смотрят, поджав губы, впрочем, готовые и к снисхождению, переговариваются, обсуждая, может быть, заранее известный приговор…)
– Но мне еще даже не сказали, в чем меня обвиняют, – очнулся, наконец, и папа – или, наоборот, понял, что очнуться не удастся. И тут же почувствовал, что сморозил не то. В воздухе проносится ропот не то что неодобрения – непонимания.
– Он, значит, считает, что не виноват ни в чем.
– Что значит ни в чем? – пробует объясниться папа голосом заранее обреченного человека – не перед ними, перед кем-то неявным. – Я мог ошибиться… но без худого умысла, уверяю вас.
– Это все говорят.
– Кого ни спросишь, все ни при чем. А жрать скоро станет нечего.
– Штукатурка на головы сыпется.
– Бумагу, и то теперь нормально не сдашь.
– Всяким жучкам доплачивай.
– Талонов взять негде.
– А они, видите ли, ни при чем.
– То хоть надежда была.
(Проникает в череп помимо ушей, губы не шевелятся.)
– Я не понимаю. Не понимаю, – папа защищается уже последним усилием. Ресницы слипаются все сильней, все труднее держать глаза открытыми. – Может, и виноват. Но не в том, о чем вы говорите. И во всяком случае, без всякой корысти.
– Да, уж это мы видим.
– Это уже другой разговор.
– Холодильник пустой, а рояль поставили.
– Варенья сварить не умеют, а перед людьми гордятся.
– Телевизора сыну не купят, а говорят, что живут.
– Да вы хоть знаете, что такое жить по-человечески?
– Вы хоть однажды сидели за настоящим столом?
– Вы ели хоть раз в жизни устриц?
– Или трюфеля?
– Или черепаховый суп?
– Да вы, небось, и за границей ни разу не были?
– Небось, и Парфюмона не видели?
– А вы знаете, как будет суд по-древнегречески?
– Человек, который ни разу не бывал за границей, не может считаться цивилизованным человеком.
– И не ел устриц.
– Человек, который не видел Парфюмон, не может вообще считаться.
– Тем более черепаховый суп.
– Если так вникнуть – разве это была жизнь?
– Считайте, что и не жили.
– Но как же это… – лицо папы страдальчески напряжено.
– Можете, конечно, упорствовать. Ваше право. Но у вас, между прочим, есть еще сын. Подумайте про него. Какую жизнь вы оставляете ему?
– Какую страну?
– Какую квартиру?
Опущенная голова, ресницы слеплены гноем.
– Это я и сам себе говорю.
– Ну вот и слава Богу.
– Хоть не упорствуете.
– Наконец-то.
– Суд учтет ваше чистосердечное раскаяние.
(А я среди всех, как один из свидетелей – обвинения или защиты? Надо вмешаться, надо что-то сказать, но голос застрял безнадежно, постыдно. Мимо уже выносят зрительские скамьи и домашние стулья, двое служителей описывают скудные наши предметы, запихивают в намокшие мешки.)
– Пишущую машинку не забудь. Или это считается орудие труда?
– Какое орудие?
– Может, пишет что.
– Писатели! Раньше гусиным пером писали, и получалось не хуже.
Лишь пианино засопротивлялось выносу. Его пробовали развернуть и так, и этак, но оно, кряхтя, упиралось одновременно в стену и в дверной косяк – непонятно казалось, как его сюда внесли; пришлось его, наконец оставить в покое, только заклеить крышку бумагой с печатью и двумя красными пломбами, вызывавшими мысль о кляпе. Молодые люди на подоконнике все пели свое под гитару вполголоса, двое обнимались – жизнь в доме шла своим чередом. Две незнакомых женщины, деловито шушукаясь в углу, обмеривали зачем-то в комнате плинтус портновским метром. Одна оглянулась на маму, встретилась с ней взглядом и, как школьница, спрятала метр за спину.
– Ну, чего стоишь? – по-свойски подтолкнул отца в плечо инвалид-служитель. – Пока время есть. Последнее, можно сказать, свидание. Последнее слово. Подойди попрощаться. Это можно.
Мама еще держится, еще стоит прямо, все силы требуются ей теперь на то, чтобы напрячь спину, чтоб не прорвался вопль; с этого дня она будет держаться, как никогда – ни признака того, что могло бы показаться неблагополучием не просто телесным. Папины губы шевелятся безмолвно – или я в ту минуту оглох? Что он сказал перед уходом? Что он мог сказать?
Мы жили.
Вниз по ступенькам. Все глубже, все глубже. Полоски пижамы теряют цвет, очертания расплываются в чем-то прозрачном, как слезы, туманящие глаза.