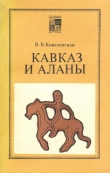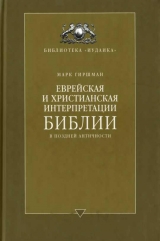
Текст книги "Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности"
Автор книги: Марк Гиршман
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Слова рабби Йосе также можно рассматривать как оспаривающие ту точку зрения, с которой мы столкнулись в «Диалоге». Согласно этому взгляду, встречающемуся уже у апостола Павла, Авраам был совершенен благодаря одной своей вере и не имел нужды в заповедях. Рабби Йосе хочет доказать, что это не так. Даже Авраам не получил полного наследства, потому что о нем не упоминается как о соблюдающем субботу, и только тот, кто стремится соблюдать субботу, наследует всю землю.
Чтобы прояснить наши заключения относительно этой таннаической традиции, дошедшей до нас в составе Берешит Рабба, мы приводим ниже план дискуссии, включая структуру этой серии, а также толкование, помещенное перед ней и после нее: «Он благословил ее (субботу. – Примеч. пер.)вкусными блюдами».
1. Субботняя еда, приготовленная рабби Йегудой Ганаси для Антонина (особая пряность под названием суббота).Холодные субботние блюда вкуснее, чем горячая еда всех других дней.
2. Рабби Ишмаэль бен рабби Йосе узнает от рабби Йегуды Ганаси, что народ диаспоры живет долго, потому что почитает субботу.
(За этим следуют два рассказа амораев о почитании субботы и Дня Искупления).
3. Тиней Руф и рабби Акива.
4. Философ и рабби Гошайя.
5. Рабби Йоханан от имени рабби Йосе – о почитании субботы Авраамом и Иаковом.
«И почему Он благословил ее»…
Этот раздел затрагивает следующие вопросы, касающиеся субботы: субботние блюда имеют особый вкус – некая природная уникальность оказывается присуща субботе, что признается и неевреем (1); вознаграждение за соблюдение субботы – долгожительство тех, кто живет в диаспоре (2); никогда не прекращающаяся деятельность природы не опровергает утверждения о том, что Святой, Благословен Он, соблюдает субботу (3); что естественно, то необязательно совершенно (4); награда за соблюдение субботы – безграничное наследие (5).
В дополнение к сказанному необходимо подчеркнуть, что три разговора мудрецов с двумя императорами и философом (1, 3, 4) имели в виду опровергнуть утверждения относительно деятельности природы в субботу (1, 3) и относительно взаимосвязи между галахой и природой (3, 4). Собеседники мудрецов в этих диалогах изображаются не как отступники или христиане, но как язычники, проявляющие интерес к иудаизму или опровергающие его. По этим причинам я полагаю, что это не диспут с христианами, но часть более древнего спора с язычниками.
Юстин с успехом включил некоторые из этих доводов в собственное сочинение, так как они казались язычникам убедительными и даже могли способствовать их привлечению к христианству. Ответная реакция евреев в «Диалоге» не показана совсем, хотя евреи несомненно делали попытки согласовать отношения между природой и Торой. Трудно определить, намеренно ли Юстин оставил эти попытки без внимания или он просто не знал о них. Тем не менее я уверен, что эта серия толкований дает представление о той полемике, которая велась в талмудической литературе.
Три диалога между язычниками и еврейскими мудрецами, имеющие, за одним исключением, сходную тематику, были помещены вместе. Возможно, это указывает на существование особого литературного жанра, имеющего вид диалога между язычниками и евреями, который и привлек составителя? Если ответ на этот вопрос будет положительным, то это могло бы служить в поддержку точки зрения тех историков, которые считали, что в ту эпоху язычники и евреи действительно вели между собой диалог. Юстин, который, согласно новейшим исследованиям, был весьма сведущ в философии своего времени, базировался на тех аргументах против иудаизма, которые постоянно раздавались из уст язычников в греко–римском мире, и сделал их частью своей собственной атаки на иудаизм.
6. «Диалог с Трифоном» и Мехильта: выборочные сравнения
В этой главе сравниваются подходы к двум темам, которые обсуждаются в трактате Юстина и в Мехильте де рабби Ишмаэль. Мехильта представляет собой галахический мидраш к избранным главам книги Исход, составленный в конце периода тан наев приблизительно к середине III в. [92]92
Некоторые ученые безосновательно утверждали, что Мехильта не является таннаическим мидрашем. Эти утверждения были опровергнуты в работе Кахана «Мехильта из Генизы», с. 515—520.
[Закрыть]. Помимо галахических толкований, этот мидраш содержит большое количество аггадических текстов. В предыдущей главе мы старались показать, что мидраш амораев Берешит Рабба сохранил таннаические источники. Источники же Мехильты несомненно относятся к эпохе таннаев и датируются временем жизни Юстина, а в некоторых случаях даже более ранним. Мы начнем с определения иудаизма, которое дается Юстином, и сравним его с подобным «определением», содержащимся в Мехильте. Затем рассмотрим методики интерпретации, применяемые в этих двух сочинениях.
В главе 46 «Диалога» Трифон задает Юстину следующий вопрос: Какова участь иудея, который, будучи убежден в истинности христианства, продолжает соблюдать еврейские постановления? Будет ли он также спасен? После краткого обсуждения Юстин заявляет, что такой иудей, несомненно, спасется, если только не будет склонять христиан из язычников соблюдать иудейские постановления в дополнение к их христианской вере (47:1). В начале этой дискуссии Юстин еще раз просит иудея перечислить для него постановления, которые все еще соблюдаются после разрушения Храма. Ответ Трифона чрезвычайно интересен: «Соблюдать субботы, обрезываться, соблюдать месяцы, омываться, если прикоснемся к чему–либо запрещенному Моисеем, или после полового совокупления» (46:2). Народы, жившие в греко–римском мире, рассматривали субботу и обрезание в качестве отличительных признаков иудаизма [93]93
См.: Herr. Historical, pp. 134–135. См. также: Gager. The Origins of Antisemitism, pp. 56—57. P. Fredriksen обратил мое внимание на настойчивое упоминание Юстином того, что христиане воздерживаются от запрещенной, присущей язычникам пищи (гл. 34).
[Закрыть], поэтому понятно, почему эти постановления были включены в перечень. Иначе обстоит дело с другими двумя пунктами в кратком перечне Трифона. Что означает «соблюдать месяцы»? Сохраняло ли свое значение омовение после разрушения Храма? С другой стороны, можно было бы ожидать, что постановления, касающиеся запрещенной пищи и дозволенной пищи (кашрут),найдут свое место в кратком перечне установлений, которые продолжали соблюдаться после разрушения Храма. Если бы Трифон действительно был одним из палестинских мудрецов, он бы, несомненно, включил в список изучение Торы. Список Трифона удивляет как тем, что он включает в себя, так и тем, что опускает.
Какими источниками пользовался Юстин, когда составлял этот перечень установлений иудаизма и заставлял Трифона озвучивать его? И если такой диалог между иудеем и Юстином действительно имел место, на что опирался первый, когда давал свою краткую характеристику иудаизма? Во–первых, важность, приписываемая «месяцу», больше присуща библейскому, чем таннаическому периоду. В самом деле, мне представляется, что Юстин опирался здесь главным образом на идеи пророка Исайи – ср.: «новомесячий и суббот, праздничных собраний» (1:13); «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего» (56:6); «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение» (66:23). Думается, что идея списка Трифона основывается на теологии Исайи, хотя и не непосредственно. Кроме этого, может быть, имеется связь и с некоторыми полемическими пассажами из Нового Завета. Рассмотрим, например, Послание к Колоссянам (2:16): «Итйк, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой–нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Вставляя в свой перечень «месяц», Трифон, наверное, принимал во внимание тот факт, что еврейский патриарх приписывал особую важность установлению месяца (см., например, Мишна, Рош Гашана 2:9). Однако влияние Исайи на сочинение Юстина, пропущенное через фильтр Нового Завета, представляется более существенным, чем связь с авторитетом председателя Санхедрина (наси),который, насколько я знаю, ни разу не упоминается в этом сочинении.
Представляется необходимым остановиться и на особой роли омовения в списке Трифона. Здесь возможны два объяснения. Вероятно, Юстин хотел, чтобы оно рассматривалось в качестве основного постановления, так как он сам в предыдущих главах старался показать важность христианского крещения [94]94
В своем издании Уильяме отсылает читателя к главе 19, в которой Юстин приводит различие между христианским крещением и еврейским ритуальным омовением.
[Закрыть]: «И мы приняли его (обрезание. – М.Г.)через крещение, так как были грешны, равно и всем можно принять его подобным образом» (43:2). С другой стороны, это может в самом деле отражать еврейскую шкалу приоритетов во времена Юстина [95]95
О важности омовения для бааль кери(мужчины после ночной поллюции) см.: Alon. The Bounds, part 1, особенно pp. 148–152.
[Закрыть]. В этом контексте нашего внимания заслуживает специальный пассаж из Мехильты. Толкуются стихи 16—17 из книги Исход 31: «И пусть хранят сыны Израилевы субботу… Это – знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки»:
«Между Мною и сынами Израилевыми». Но не между Мною и народами земли. «Это – знамение на века». Здесь говорится, что суббота никогда не будет отнята от Израиля. И поэтому получается, что все, за что евреи полагали души свои, сохранено им. А то, за что евреи душ своих не полагали, не осталось у него. Таким образом, Суббота, обрезание, изучение Торы и омовение, за которые он (народ Израиля. – Примеч. пер.)души положил, сохранено им. Но Храм, гражданские суды и субботние и юбилейные годы, за которые евреи не положили свои души, не сохранены им
(Мехильта, Шаббат 1).
Толкования, которыми начинается этот отрывок, представляют собой отрицательные заключения, выведенные из библейского стиха, – то, что Писание утверждает в положительной формулировке, используется в мидраше для выведения отрицательного заключения. Однако язык мидраша в высшей степени полемичен. Он делает акцент на уникальности Израиля и на его вечной связи с субботой. Суббота была дана не на ограниченный период времени, но навсегда. Может быть, автор хотел вступить здесь в полемику с христианскими доказательствами, подобными выдвинутым Юстином? Так как толкование придерживается буквального смысла стиха, я бы поостерегся давать окончательный положительный ответ на этот вопрос, хотя сам склонен считать именно так. Остальная часть интерпретации говорит в поддержку той точки зрения, что этот отрывок является реакцией на аргументы христиан.
Суббота, обрезание и изучение Торы, несомненно, были теми тремя вещами, за которые Израиль был готов отдать жизнь, особенно если понимать выражение натну эт нашфанкак «жертвовали свои души» [96]96
Таково также толкование в параллельной версии в Вавилонском Талмуде, Шаббат 130а: «ради которых Израиль страдал до смерти». Но см. также: Либерман. Тосефта Кифшута, part 1, р. 111. Ср.: Lauterbach. Mekhilta, р.204.
[Закрыть], то есть израильтяне умирали за эти постановления. Где в этом списке омовение? Рассмотрим, например, известный отрывок, толкующий три слова из Десяти Заповедей (Мехильта, Баходеш, 6):
Рабби Натан говорит: «"Любящие меня и соблюдающие заповеди Мои" – это израильтяне, которые остаются в земле Израиля и полагают души свои (нотнин эт нафшан)за заповеди: за что ты идешь на казнь? – за то, что я обрезал сына своего; за что ты приговорен к сожжению? – за то, что я читал Тору; за что тебя ведут на распятие? – за то, что я ел пресный хлеб; за что тебе дают сто розог? – за то, что я взял лулав
Этот источник ценен для нас по двум причинам. Во–первых, в нем выражение нотнин эт нафшаниспользуется, несомненно, для обозначения понятия «умирать за что–либо». Во–вторых, когда рабби Натан перечисляет заповеди, за которые Израиль отдавал свои жизни, он не включает омовение. Действительно, во всем корпусе таннаической литературы мне не удалось обнаружить ни одного подобного примера такого использования слова «омовение» [98]98
Либерман комментировал этот источник в статье «Преследование», см. прим. 22 об омовении («весь вопрос представляется сомнительным»). Более того, вслед за Либерманом мы должны отметить тот факт, что неевреи не запрещали евреям те действия, которые были частью их собственных обрядов (молитва, отдых от работы по праздникам и т. д.). Купание или по крайней мере омовение после половых сношений было широко распространено среди язычников. См. рельеф на вазе I в. в замечательной книге: Veyne. A History of Private Life, p. 11. См. также: Urbach. Sages, pp. 353 и n. 33.
[Закрыть].
Я не намерен преуменьшать важность обрядов ритуальной чистоты [99]99
В период после разрушения Храма в среде мудрецов Талмуда и послушного им населения были вновь актуализированы и чрезвычайно развиты законы ритуальной чистоты. Так, не только десятины и приношения было принято есть в состоянии ритуальной чистоты, но и обычную еду некоторые мудрецы считали нужным есть только в этом состоянии (см. статью «Чистота ритуальная» в Краткой еврейской энциклопедии). – Примеч. ред.
[Закрыть]Согласно одному источнику, известно, что «очищение распространилось в Израиле» в эпоху Второго Храма [100]100
См.: Alon. The Bounds.
[Закрыть]. Даже после разрушения Храма некоторые мудрецы, которые не были священниками, приняли на себя обязанность соблюдать обряды чистоты, касающиеся пищи, первоначально возложенные только на священников. Может ли полемический тон, который, как мы видели, характерен для текста Мехильты, когда она затрагивает вопрос о субботе, служить объяснением того, почему омовение появилось в перечне установлений, за которые народ Израиля отдавал свои жизни? Это как бы говорит, что ритуальное погружение в воду всегда занимало центральное место, и евреи в такой же степени были готовы отдать свои жизни за него, как за хорошо известные заповеди субботы, обрезания и изучения Торы. Этот обряд не является специфической чертой новой религии.
Если отказаться от этого объяснения и поддержать точку зрения, заключающуюся в том, что акцент на ритуальном омовении в Мехильте вызван не полемическими соображениями, но отражает существенное, глубоко укоренившееся верование, тогда список пунктов, упомянутых Трифоном, частично совпадет с основными положениями Торы, представленными в Мехильте, за исключением пропущенного Юстином изучения Торы. Поэтому я уверен, что сравнение с Мехильтой увеличивает доверие к перечню Трифона в «Диалоге» (46). Два выпущенных пункта – изучение Торы и воздержание от определенной пищи – не равнозначны. Юстин уже говорил о таком воздержании в главе 20, интепретируя его как еще одно установление, данное евреям по причине их склонности к забвению Бога. Напротив, заповедь обучать Торе, фундаментальная для талмудического подхода, вовсе не упоминается в «Диалоге». Еще раз повторим, что это может вполне точно отражать позицию палестинского еврея, который не был не только одним из мудрецов, но даже и одним из их учеников. Как уже отмечалось в главе 4, основная информация о еврейских обычаях и толкованиях исходит от Юстина, который упоминает их, чтобы тут же отвергнуть. «Иудей» Трифон знает очень немного о еврейских традициях, о которых он сообщает в этом сочинении. Поэтому представляется вполне вероятным, что еврей, подобный Трифону, не включил бы изучение Торы в постановления, соблюдение которых характеризовало типичного еврея.
До сих пор мы наблюдали попытки Юстина подорвать основы соблюдения заповедей. В той части книги, где обсуждаются заповеди (10—47), он часто цитирует пророков, которые в свое время карали Израиль, в качестве доказательства выдвигаемого им тезиса о том, что заповеди были даны для того, чтобы обуздать непокорный народ. Тем не менее в этом разделе содержится и несколько примеров типологических, т. е. символических толкований этих же самых заповедей, на которых Юстин желает раскрыть истинный смысл Писания. При типологическом подходе каждое библейское утверждение интерпретируется как «тип», как символ того референта, который оно представляет. В главах 40—47, например, Юстин показывает, что жертвы, приносимые на Пасху и День Искупления (Йом Киппур),есть только символы Иисуса, а обрезание на восьмой день указывает на истинное обрезание, воскресение Иисуса в восьмой день, в воскресенье [101]101
Т. е. день, следующий за седьмым днем (субботой). – Примеч. ред.
[Закрыть].
Юстин использует типологический подход и в главах, посвященных доказательству того, что Иисус есть Мессия (48—108). Эти главы содержат несколько типологических толкований, имеющих параллели в Мехильте. Это сравнение позволяет нам яснее понять экзегетические и полемические подходы к Писанию, принятые обеими религиями. Основная стратегия Юстина заключается тут в том, чтобы показать, что пророчества и библейские стихи наилучшим образом понимаются тогда, когда рассматриваются как предсказания о пришествии Иисуса [102]102
Книги Нового Завета доказывают, что события, предсказанные в Библии, сбылись и что пророческая мудрость Библии свидетельствует об ее истинности. Тавтологичность этого построения не помешала Юстину превратить его в главный аргумент. Подробный анализ см.: Chadwick. Defence, pp. 280–283.
[Закрыть]. Детали жизни, смерти и воскресения Иисуса составляют истинный ключ к пониманию Библии. Юстин утверждает, например, что Псалмы, которые толковались евреями как повествование о роде Давида – о самом Давиде, его сыне Соломоне или царе Езекии, – могут быть полностью поняты только тогда, когда рассматриваются в связи с особенным, уникальным потомком рода Давида – Иисусом Христом.
Стратегия Юстина будет рассмотрена в связи с тремя цитатами из Писания, которые обсуждаются и в Мехильте. Трифону трудно понять, почему Иисус должен был претерпеть такую позорную и унизительную смерть, если он на самом деле был Мессией. Он сопровождает свой вопрос следующей просьбой: «Научи же нас, – сказал Трифон, – из Писаний, чтобы и мы поверили тебе» (90:1). Конечно, Юстин вложил в уста еврея свое собственное убеждение. Юстин полагает, что его толкование Писания может убедить евреев в справедливости его утверждений и отговорить их от того, чтобы они слушали пустые толкования своих собственных учителей. Прежде чем ответить на просьбу Трифона, Юстин ссылается на герменевтический принцип, по поводу которого они оба уже пришли к согласию. Этот принцип состоит в том, что «пророки свои слова и действия открывали в притчах и прообразах, прикрывая содержащуюся в них истину, так что многое не могло быть легко понятым всеми» (90:2). Затем Юстин обращается к библейским стихам, которые он использует в качестве «сырья», и показывает, что каждый рассказ является символом жизни Иисуса, и даже прямо указывает на значимость креста. Первый рассказ в этой серии – о войне с Амаликом: Иисус Навин (Йегошуа) сражался с Амаликом, а Моисей в это время всходил на холм, и «когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль… Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны» (Исх. 17:11–12). Юстин толкует действия Моисея следующим образом: «Не потому народ одерживал победу, что Моисей так молился, но потому, что, когда тот, кто носил имя Иисуса, был во главе битвы, сам он (Моисей) творил знамение креста» (90:5). Сочетание имени Иисуса со знамением креста спасло Израиль от Амалика.
Этот урок «правильного» толкования Писания прерывается в следующих двух главах, чтобы дать возможность Юстину вернуться к теме дурного нрава евреев, который вынудил Бога дать им заповеди. Из–за того что евреи не знают любви ни к Богу, ни к ближним, они проклинают верующих в Иисуса и отказываются правильно понимать неопровержимые знамения, данные в Торе (92—93). Эти пространные инсинуации готовят почву для продолжения урока типологического толкования, на этот раз по поводу медного змея (Чис. 21:4–10). Возможно ли это, вопрошает Юстин, что тот же самый Бог, который запрещает идолы и образы, приказал Моисею сделать медного змея, чтобы исцелить людей? У него есть готовый ответ: «Ибо чрез это Бог возвещал о таинстве, показывая, что Он разрушит силу змея, возбудившего Адама к преступлению, а верующим в того, кто должен был умереть чрез это знамение, т. е. крест, дарует спасение от укушений змея…» (94:2) [103]103
В примечании к этому месту Archambault говорит, что в этой главе слово «знамение», «знак» (sign)синонимично слову «крест» (cross).См. также: Chadwick. Defence, pp. 289–290 – автор указывает на важность креста для аргументации Юстина.
[Закрыть]. Юстин не удовлетворяется результатом собственного толкования и продолжает свою атаку, вопрошая, как еще можно описать действия Моисея. Этот вопрос, сформулированный в резкой форме, побуждает одного из иудеев, слушающих разговор, к «признанию»: «Я неоднократно спрашивал об этом наших учителей, и никто мне не дал ответа» (94:4), – таким образом тот как бы подкрепляет настойчивое утверждение Юстина, что именно он, а не еврейские мудрецы владеет ключом к истинному толкованию Писания.
После этих двух примеров Юстин посвящает несколько глав объяснению текста псалма 22:2: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?» Он резюмирует свой подход к интерпретации Библии в главе 111, в которой приводит еще два комментария об исцеляющей силе пасхальной крови и о червленой веревке в рассказе о Раав, символизирующей спасение, обретенное посредством крови Иисуса. Вот что он пишет о пасхальной крови: «Ужели Бог обманулся бы, если бы не было на дверях этого знака? Нет, говорю я, но Он чрез это предвозвестил грядущее посредством крови Христовой спасение для рода человеческого». Согласно переводчикам этого сочинения, Юстин использует здесь слово «знак» (semeion) в значении «крест» – другими словами, кровь на пороге и двух косяках двери образует собой крест [104]104
См.: A.L. Williams. Dialogue, p. 199, п. 2 (к главе 94); а также: Archambault, Ch. 111, p. 171, п. 4.
[Закрыть]. Если такой перевод верен, то это – третья гомилия о силе креста и его символе в Писании. Однако я не убежден в том, что Юстин не имеет здесь в виду скорее силу крови, чем силу креста, как он поясняет позже в связи с историей о Раав.
Юстин завершает представление своего гомилетического метода резким выпадом против подхода еврейских мудрецов к толкованию Писания (главы 112—114). Они приписывают Богу недостатки, не понимают символической природы Писания и даже верят, что Бог имеет руки и ноги, а также являлся праотцам (114:3). Как мы видели в предыдущей главе, Трифон ничего не отвечал на обвинения Юстина в адрес еврейских мудрецов. Интересно отметить, что некоторые современные ученые склонны соглашаться с утверждениями Юстина относительно восприятия Бога евреями [105]105
См. поучительную статью: Stroumsa. Forms, p. 270. Я не разделяю точку зрения, выраженную в этой статье. Некоторые мудрецы, видимо, придерживались антропоморфического взгляда на Бога, и этот взгляд достигает своего апогея в книге «Шиур Кома». Однако не вызывает сомнений тот факт, что другими мудрецами он оспаривался, даже без ссылок на философию неоплатонизма. См., например: Мехильта, Баходеш 4: «И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его – как шум вод многих» (Иез. 43:2). «Кто дал воде силу? Разве не Он? Но мы употребляем образ из Его созданий, дабы ухо способно было воспринять» (пер. Н. Переферковича). См. также важную статью: Pines. God, pp. 1–12; а также Smith. Image, p. 478, п. 1. Возможно, Хешель прав, когда пишет о споре на эту тему между рабби Акивой и рабби Ишмаэлем (см.: Хешель. Теология, с. 266—277). См. также: Halperin. Faces, pp.251–252. Из последних работ см.: D. Stern. Imitatio, pp. 151–174.
[Закрыть]. В любом случае несомненно то, что евреи были осведомлены о проблеме, содержащейся в стихах, цитируемых Юстином, и толковали их по–своему. Рассмотрим раздел Мехильты, в котором три названных момента – война с Амаликом, медный змей и пасхальная кровь собраны вместе.
Мы читаем в Мехильте (Амалик I) [106]106
Отношение Мехильты к Мишне (Рош Гашана 3:8) рассматривается в: Hirshman. Polemic, pp. 373—375. См. также: «Свидетельство Истины ix, 49 (Robinson. The Nag Hammadi, p. 412).
[Закрыть]: «И когда Моисей поднимал руки свои» – «Разве же руки Моисея подкрепляли израильтян или сражали амаликитян? – но: покуда он воздевал руки к небу, израильтяне смотрели на него и верили в Того, Кто повелел Моисею сделать так, а Господь являл им чудеса и подвиги». Мехильта отрицает какую–либо магическую или символическую силу в действии Моисея. Поднятие рук было актом, имевшим целью направить детей Израиля к вере в Того, Кто повелел Моисею так себя вести. Далее мы читаем: «Подобно этому: „И сказал Бог Моисею: 'Сделай себе огненного змея…'“ Разве змей умерщвляет и воскрешает? – но: покуда он делал так, израильтяне смотрели и верили в Того, Кто приказал Моисею так делать, а Господь давал им исцеления» [107]107
Пер. Н. Переферковича . – Примеч. ред.
[Закрыть]. Те же самые два стиха, которые Юстин считал подтверждением своего взгляда на символическое толкование как единственно возможное, обсуждаются и в Мехильте, но в границах буквального значения. Мудрецы Талмуда представляют и змея, и руки Моисея в качестве инструментов, призванных привлечь внимание к согласию действий Моисея с Божьими заповедями и вновь зажечь веру Израиля в Бога.
Что касается формы, то оба комментария в Мехильте начинаются с одного и того же момента и возвращаются, используя при этом параллельные языковые конструкции. Задается вопрос: Итак, обладают ли руки Моисея или змей способностью творить чудеса? Ответ состоит в том, что исцеляющая и спасающая сила – это сила веры в Бога, в «Того, Кто повелел», в Бога заповедей. Является ли этот мидраш ответом, реакцией на точку зрения Юстина? Или Юстин был знаком с толкованиями такого типа, как содержащиеся в Мехильте, и пытался ответить на них своим собственным, которое делало бы акцент на основных положениях его религии? Прежде чем дать ответ на эти вопросы, рассмотрим два других текста, помещенных в Мехильте сразу вслед за упомянутыми. Один является заключением двух только что проанализированных, другой, представляющий собой удивительный комментарий, стоит особняком: «Подобно этому: "И будет у вас кровь знамением" (Исх. 12:13). Какую пользу может принести кровь ангелу или израильтянам? – но: покуда Израильтяне делают так и мажут кровью двери свои, Господь имеет милость к ним, как сказано: "И пройдет Господь мимо"» [108]108
Пер. Н. Переферковича . – Примеч. ред.
[Закрыть]. Здесь появляется несколько другая модель, поскольку акцент делается не на вере в «Того, Кто повелел», а на действии – Израиль помазал кровью свои дверные косяки. Можно сказать, что само это действие свидетельствует о вере израильтян в Того, Кто повелел им сделать так. Однако сама по себе кровь не обладает никакой силой и является лишь конкретным выражением их веры [109]109
Такое толкование было предложено мне Менахемом Шмельцером, когда мы обсуждали этот текст. Параллельная версия в Мехильте, Бо 7 подтверждает его интерпретацию «"И когда Я вижу кровь". Рабби Ишмаэль говорил: Все открыто Ему?!. Но это означает следующее: В качестве награды за ваше исполнение этой заповеди Я явлю себя и защищу вас…».
[Закрыть].
Что побудило составителя Мехильты (или составителя мини–собрания «подобно этому») поместить три указанных цитаты в один раздел? [110]110
См.: Wallace. Origen. То, как автор обращается с источниками, весьма странно.
[Закрыть]Общий для всех трех текстов момент тот, что они, как может показаться, описывают настоящие магические действия и имеют в виду заставить высшую силу исполнить желания мага. Ответ, который дается в мидраше, следующий: напротив, Бог сам предписал такое поведение, и сила этого действия кроется в большей степени в его согласованности с повелением, чем в самом действии. Это не магия, но заповедь, данная Богом. Думаю, можно с уверенностью предположить, что это полемика или идеологическая борьба с языческим восприятием действия как чисто магического [111]111
Действительно, языческий мир был склонен рассматривать Моисея как настоящего колдуна. См.: Gager. Moses, pp. 134—161. Что касается нашего предмета, Флусер уже указывал на попытку мудрецов Талмуда, а также их предшественников исключить восприятие этих действий как теургических (он указывает на Книгу Премудрости Соломона 15:5—7; 16:10—12). См. его поучительную статью «It is not a serpent», p. 549.
[Закрыть]. Однако возможно, что акцент на вере в Того, Кто повелел,имеет в виду обратить еврейскую полемику против христиан.
Юстин попытался направить эти «жесткие» объяснения в более «традиционное» русло. Он добавил один важный аргумент: эти объяснения противоречат другим библейским рассказам, которые невозможно толковать «буквально». Эти рассказы предназначены лишь для того, чтобы символически изображать могущество Мессии, узнаваемого благодаря кресту и имени Иисус.
До сих пор мы рассматривали основные различия в подходах Юстина и авторов Талмуда к этим вопросам. Однако наше чтение Мехильты еще не закончено. Последняя точка зрения, которая цитируется в Мехильте, принадлежит рабби Элиезеру, жившему поколением раньше Юстина [112]112
Данный текст приводится по Мюнхенской рукописи 117, содержащей Мехильту (факсимильное издание: Baltimore, 1980. Ed. Goldin). Вставки сделаны мною в соответствии с изданием Горвиц–Рабин.
[Закрыть]: «С какой целью говорит Писание „Израиль одолевал“ или „Амалик одолевал“? Чтобы сказать, что, когда Моисей поднимал руки к небу, это означало, что Израиль укрепится через слова Торы, которые будут даны посредством рук Моисея. А когда он опускал руки, это означало, что Израиль ослабеет в своем усердии к словам Торы, которые будут даны посредством его рук». Рабби Элиезер поясняет, что руки Моисея символизируют слова Торы, которые будут даны ему, а поднятие рук означает усиление почитания Торы в будущем. Имеет ли толкование рабби Элиезера своей целью отвергнуть буквальное значение или оно только добавляет к нему еще один смысловой уровень? Я склонен принять последнюю точку зрения, таким образом проводя четкое различие между рабби Элиезером и Юстином, предполагавшим вовсе упразднить буквальный смысл. Однако это не уменьшает принципиального сходства между экзегетическими принципами рабби Элиезера и Юстина. В то время как для рабби Элиезера воздетые руки символизируют слова Торы, для Юстина получившаяся фигура символизирует крест.
Свидетельствует ли наш анализ повествований о войне с Амаликом, о медном змее и о пасхальной крови, содержащихся в Мехильте и «Диалоге», о существовании какой–либо взаимосвязи между ними? Представляется, что нет. Каждое из сочинений толкует проблемы, возникающие при чтении этих стихов, по–своему, и нельзя с уверенностью сказать, что автор «Диалога» был знаком с интерпретацией, содержащейся в Мехильте, или наоборот. Тем не менее, несмотря на все различия, между толкованиями рабби Элиезера и Юстина обнаруживается много общего, а тот акцент на повелевающем Боге, который характерен для Мехильты, может навести нас на мысль о полемике с христианством.
Я специально подчеркнул наличие сходства между подходами рабби Элиезера и Юстина к этим вопросам, чтобы опровергнуть еще один аргумент последнего. Он обвиняет еврейских мудрецов в низменном и вульгарном толковании Писания (112:4) и в том, что они не исследуют смысла слов, которые слушают (112:1). Он также утверждает, что еврейские мудрецы верят в то, что Бог имеет руки и ноги (114:3). Так как настоящая работа посвящена методам толкования обеих религий, я ограничусь этими обвинениями и не буду касаться более грубой клеветы (см., напр., 134:1). Юстин не имел в виду такого еврейского мудреца, как Филон, который, конечно, был бы неподходящей мишенью для подобных обвинений. Атака Юстина была направлена скорее против принципов толкования, известных нам из Мидраша и Талмуда. Он ссылается на некоторые еврейские традиции, которым можно найти близкие соответствия в этой литературе [113]113
Кроме параллельной версии в Берешит Рабба 8 на тему «Сотворим человека» (Диалог 62:2—3), можно указать предание об одежде евреев, которая увеличивалась в размере вместе с носящим ее во время странствия по пустыне (Pesikta de Rav Kahana, transl. Braude, p. 219 и Диалог 131:6); установление относительно того, что два козла, приносимых в жертву в День Искупления (Йом Киппур), должны быть одинаковыми внешне, находим в Мишна Йома 6:1 и параллельных версиях (Диалог 40:4) – возможно, в выборе Юстином слова (keleusthentes)можно видеть следы еврейского выражения мицватан ше–йигхийу(им следует быть); текст о верблюдах женского пола в Берешит Рабба 76:7, который Юстин объясняет как имеющий противоположный смысл (112:4), и другие. Полный перечень возможных соответствий приводится в работе: Shotwell. Biblical, pp. 71 —115. Автор базируется на исследовании A.L. Williams, напечатанном в его издании «Диалога», и в особенности на пионерской работе Goldfahn. Justinus, pp. 49—60, 114—115, 193—202, 257—269. Некоторые из выводов, содержащихся в указанных работах, заслуживают более подробного обсуждения.
[Закрыть]. Может быть, наиболее впечатляющий пример: три толкования на стих «Сотвори человека по образу Нашему», которые Юстин приписывает евреям и которым мы находим параллель в Берешит Рабба. С другой стороны, сочинения Юстина сохранили для нас и такие толкования, которые похожи на еврейские, но не известны нам по еврейским источникам. Пример такого рода – комментарий, в котором, согласно Юстину, евреи толкуют стих «как зелень травную» (Быт. 9:3): «Как мы некоторых растений не едим, так еще в то время Ною заповедано было делать такие же различия между животными» (20:2). Нам не удалось обнаружить следов такого толкования. Наоборот, этот стих казалось бы учит нас, что Ною, в отличие от Адама, было позволено есть любых животных [114]114
См., например, Ваикра Рабба 13:2: «Так язычникам, которые не наследуют жизни грядущего мира, написано: „как зелень травную даю вам все“. Но Израилю, который наследует жизнь грядущего века: " Та живностьбудет вам в пищу…"».
[Закрыть].
Знание Юстином еврейских источников, впрочем, далеко от удовлетворительного. Совершенно ясно, что большая часть того, что он приводит от имени евреев, вращается вокруг библейских глав, которые рассматривались христианами как возвещающие об Иисусе, в то время как евреи толковали их как свидетельства о царях из дома Давида [115]115
См.: Диалог 63:2 (Соломон); 67:1–2, 83:1 (Езекия) См. также: Kamesar Virgin, pp. 51—52 .
[Закрыть]. Юстин также опирался на другой источник информации о евреях, а именно на позицию, занятую евреями по отношению к христианам и христианству (не говорить с ними, проклинать их в синагогах, считать Иисуса колдуном и т. д.) [116]116
Запрещение разговаривать с еретиками встречается уже в Тосефте, Хуллин 2:21 (Диалог 38:1); проклятие христиан и Иисусах – 16:4, также см. важную статью: Horbury. Benediction, pp. 19—61. Об Иисусе как колдуне см. Диалог 69:7, а также Smith. Jesus the Magician.
[Закрыть]. Юстин обладал определенными познаниями о еврейском обществе, например о том, что мудрецы разрешали евреям иметь четыре или пять жен [117]117
См. Диалог 134:1 (полигамия). Об этом см.: М.А. Фридман. Полигамия, с. 7—13, где автор склоняется к тому, что полигамия была распространена среди вавилонского еврейства, в то время как палестинские мудрецы отличались «тенденцией к моногамии» (р. 11). Некоторые делают из утверждения в 72:3 вывод, что евреи хранили в синагогах списки Септуагинты (издание A.L. Williams, р. 152, п. 3). Хотя само по себе это справедливо, я не убежден, что этот отрывок из «Диалога» может быть использован в качестве доказательства или даже намека на этот факт. Он может указывать на то, что на самом деле был использован список Писания на иврите. Я не утверждаю, что Юстин знал иврит (общепринятая точка зрения такова, что не знал, хотя однозначного доказательства нет), но полагаю, ему было известно, что так понимают этот стих (Иер. 11:19) у евреев. См. предшествующее примечание в издании Уильямса, указывающее, что этот стих встречается во всех вариантах на иврите и на греческом.
[Закрыть], но в целом его представления о еврейской комментаторской традиции вообще и о раввинистической в частности не слишком содержательны. В своем нарративном творчестве авторы Талмуда также, как и Юстин, умели интерпретироватьПисание, выходя за рамки буквального понимания. Слепота еврейских мудрецов к тому, что, по мнению Юстина, являлось единственно верным толкованием Писания, а именно к толкованию, утверждающему, что в Библии возвещается об Иисусе Христе и сообщается история его жизни, делало метод толкования раввинов в его глазах низменным и вульгарным. Сочинение Юстина – это выразительная попытка отвратить просвещенных грекоязычных евреев от талмудических толкований и убедить их в том, что христианская интерпретация Библии – единственно правильная. В своем стремлении внести раскол между еврейским народом и его мудрецами Юстин собрал всю возможную клевету против последних, включая утверждение о том, что они верили, будто Бог имеет руки и ноги.
Мы попытались показать, что в талмудической литературе содержатся отклики на аргументы, подобные выдвигаемым Юстином и его предшественниками, как язычниками, так и христианами, хотя в его утверждениях можно обнаружить немало преувеличений и передержек. В конечном счете Юстин верил, что обрел свое толкование Писания благодаря милостивому откровению, дарованному ему старцем на берегу моря, как это описано в первых главах книги. Неслучайно книга заканчивается на том, что сам Юстин прощается с евреями перед тем, как сесть на корабль, и желает им «позаботиться о предпочтении Христа Всемогущего Бога их собственным учителям» (142:2). Даже эта литературная условность, возможно, имеет параллель в обширном комментарии в начале Мехильты, где говорится, что земля Израиля была избрана среди всех других для пророчеств. Те, что пророчествовали за морем, могли это делать благодаря заслугам праотцев, и «говорил Он с ними лишь на чистом месте, рядом с водой».