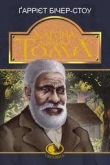Текст книги "Дядька (СИ)"
Автор книги: Мария Теплинская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Он хотел было зайти в какой-то подъезд, но тут дорогу ему преградил рослый седоусый швейцар.
– Куда?
– Погреться хотел… – робко ответил солдат.
– Проваливай!
Совсем пропали силы… Кружилась голова, отнимались ноги… Он едва успел прислониться к стене какого-то дома, а то бы и вовсе упал.
И тут же отчего-то вдруг сделалось так хорошо… Кругом рассвело, потеплело, и вот уже вокруг не заснеженная городская улица, а поросшая мягкой травкой и синим барвинком опушка березняка, а он сам прислонился не к холодной каменной стене чужого дома, а к белому и круглому стволу высокой березы, к ее нежной атласной коре, сверкающей на солнце… А прямо перед ним, как живая, встала Кулина; стоит, улыбается ему серыми глазами из-под темных ресниц. Из-под белого головного платка спадают на плечи русые косы в голубых лентах; тонкие, в золотистом загаре, руки застенчиво спрятаны под передник… Не знал он тогда, что уж более года прошло с тех пор, как вынули из ее кос голубые ленты, и не носить уж ей их больше никогда… А холод сквозь наваждение все больше студил тело, туманил голову…
А над городом плыли в синем морозном воздухе перезвоны множества колоколов, сплетаясь и перекликаясь меж собой, глуховато-басовитые и серебристо-высокие, протяжные и часто-звонкие. Это бесчисленные звонницы сзывали народ к вечерне.
И шли мимо к вечерне люди; шли парами, семьями, небольшими группами. Редко кто из них обращал внимание на привалившегося к стене человека. Да и то: глянет кто-нибудь, пожмет плечами и дальше пойдет, а иной еще и выбранится:
– Ишь, надрался! Люди богу молятся, а эти по кабакам водку жрут! И где у них совесть?
Шли мимо и две женщины. Одна из них, увидев замерзающего солдата, повернула к нему.
– Разбудить бы надо, – сказала она своей спутнице. – Так ведь и замерзнуть недолго, да еще в таком-то мундирчике на рыбьем меху.
– Да ты что! – всплеснула руками вторая. – Охота тебе была с ним связываться! Еще спьяну не разберет, что к чему, да и заедет кулаком тебе в морду…
Сквозь оцепенение Горюнец почувствовал, как кто-то трясет его за плечо, расслышал чей-то далекий голос:
– Сынок, а сынок! Очнись ты наконец, нельзя на морозе дремать!
Он едва повернул закоченевшее тело, с трудом поднял тяжелые веки. Его тормошили две женщины в темных платках, низко надвинутых на лоб.
– Гляди, уж и посинел весь… Живой, слава богу!
– Нет, на пьяного вроде несхож, водкой не пахнет…
– Сомлел, видать, на морозе-то! Да еще и голодный, небось. Может, доведем его до места? Сам не дойдет. Солдатик, ты сам-то откуда будешь?
– Да куда ж мы с тобой его поведем? – возразила другая. – Бессрочник ведь он. Гляди, и с узелком. Некуда ему идти.
– М-да, – задумалась первая. – А послушай, давай-ка его ко мне пока отведем, а там видно будет.
Вторая испуганно замахала руками:
– И, да что ты, милая, куда его тебе! У тебя ж трое по лавкам! И опять же, что он за человек – вдруг лихоимец какой?
– Где ж ты видала, чтоб лихоимцы при всем честном народе на улицах замерзали! Ты глянь, молоденький какой, мальчик совсем, даром что рослый…
Горюнец уже не был мальчиком; молодила его худоба, да еще налет голубого инея на темных усах. В освещенной горнице он оказался взрослым и вполне расцветшим мужчиной, хотя и в самом деле очень молодым. Он не сопротивлялся, когда его раздевали, укладывали и растирали спиртом; как будто сквозь сон он слышал причитания женщин над своей несчастной спиной, на которой «живого места не осталось».
После этого он дня два провалялся в горячке, в бреду и без памяти. Хозяйка поила его какими-то травяными отварами; питье пахло липой, медом и как будто еще душицей. У хозяйки было трое детей; он слышал в забытьи, как они подходили к нему и иногда маленькими прохладными ладошками трогали ему лоб.
Потом жар спал, Горюнец поднялся на ноги, однако хозяйка и слышать не хотела о том, чтобы отпустить в такую даль больного человека, пока он хоть немного не поправится. Ему было очень неловко стеснять эту женщину; муж ее уже несколько лет как служил в солдатах, сама она ходила куда-то стирать белье; ей приходилось одной кормить своих троих детей и постоянно считать крохи. Но она была суеверна: ей казалось, что если она оставит без помощи другого солдата, то и с ее мужем где-то вдали непременно случится беда.
Он старался помогать ей, чем мог: колол дрова, отгребал снег от крыльца, носил воду – однако все равно чувствовал себя камнем на ее шее. Да к тому же хозяйка чем-то неуловимо напоминала ему мать, хотя была моложе, и всякий раз при взгляде на нее пронзала его острая тоска: необоримо звала его далекая родина, без нее он чувствовал себя веткой, срезанной корня, лишенной живительных соков земли.
В конце концов он тяжело простился со всеми и собрался в дальнюю дорогу. Хозяйка, не желая ничего слушать, почти силой вручила ему какую-то одежду, оставшуюся от мужа, проводила, перекрестила, пожелала доброго пути.
– Верно ты решил, сынок, – сказала она на прощание. – Где ты родился, где дом твой остался, туда ты и вернуться должен.
Поначалу это казалось безумием: отмахать пешком две тысячи верст. Он и сам сперва не слишком верил, что когда-нибудь доберется до своей родной деревни, да и сейчас еще удивляется, как у него хватило сил на такую дорогу. Тяжелым сном вспоминается ему, как медленно ползли версты, как вязли ноги в загустевшей холодной грязи, как порой хватала за горло та безжалостная рука… В дороге застигла его весна, в дороге она пышно и бурно расцвела, в дороге незаметно перетекла в сочное лето. Отправился он в путь в марте, а до дому добрался лишь к середине июня.
Митрась хорошо знает эту историю; слыхал ее несколько раз и дядька Рыгор, хотя сам Горюнец довольно неохотно рассказывал об этом периоде своей жизни: слишком тяжелы были воспоминания.
А вот русские песни, принесенные им с востока, Горюнец очень любил и нередко пел, иногда вместе с Митрасем, а бывало, один, а Митрась только слушал. Мальчик любил его слушать, хотя русские песни довольно непривычно звучали в дядькином исполнении, с его твердым белорусским выговором и при этом неожиданно мягкими интонациями.
Многие песни у них оказывались общими, то есть, каждый услышал их сам по себе. Поэтому слова песен у них часто не совпадали, и они временами даже спорили, кто же прав. Так было, например, и с милой их сердцу казачьей песней «Ой да не вечер», которую дядька узнал от товарищей, а Митька подслушал в ночлежке у какого-то мимохожего казака.
Ой, да не вечер, да не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ой, да много виделось… —
затянет, бывало, Горюнец негромким, ласкающим голосом. Петь в полную силу он теперь не решался – берег дыхание.
А Митранька тут же и перебьет:
– Во сне привиделось, дядь Вань! Я же слышал!
– Да что ты там мог расслышать, с одного-то раза! – добродушно отмахивался Горюнец. – Небось, первые слова як ворона ловил, а потом уж сам от себя додумал.
Но чаще Митрась не был настроен с ним спорить; ему только хотелось слушать его дивный голос, ведущий распевную печальную мелодию, с трагической ясностью повествуя о зловещем черном вороне, что вьется «над моею головой», или о том же казаке, которому недобрый сон предсказал скорую гибель:
Ой, налетели ветры злые,
Да с восточной стороны,
И сорвали черну шапку
С моей буйной головы…
Митрась слыхал и от Хведьки, и от Леськи, и от того же дядьки Рыгора, что когда-то давно, еще до солдатчины, Янка был первый на все село певец. Правда, не звучало тогда в его голосе столь напряженного волнующего драматизма, но зато была в нем тогда утраченная ныне спокойная мощь. Помнится, долгими июльскими вечерами, когда косари уже кончали работу и устраивались на отдых кругом костров, затягивал он, бывало, песню, и разносилась она далеко-далеко, над лугами и над рекою, и вдали за Бугом люди завороженно умолкали, внимая прекрасному звучному голосу. И при этом лицо его было спокойно, губы едва открывались, и голос лился как будто сам собой, без малейшего напряжения.
Теперь голос его не утратил своей красоты, но прежней силы в нем уже не было. И пел он теперь совсем негромко, словно боясь пробудить стерегущее его зло. И почти никогда не пел теперь на людях, только в узком кругу.
Вот и теперь он задумчиво посмотрел на мальчика, потом медленно перевел взор на притихшего Рыгора, и вдруг весело предложил:
– А знаешь, Митрасю, давай-ка споем с тобой ту нашу песню… Ты знаешь, «Ой, да не вечер»!
И снова полились вверх, к потемневшим доскам низкого потолка, два голоса, мужской и детский:
Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Разрезвился подо мной…
Рыгору тоже очень хотелось им подтянуть, но он не знал слов, и поэтому лишь иногда тихонько подпевал мелодию. Рыгор с трудом разбирал по-русски, но при этом отчетливо представлял, слушая эту песню, неспокойный Дон, низко нависшую грозовую тучу, будто наяву слышал мрачный рокот волн и тревожное завывание ветра. Он никогда не видел Дона, не знал, какие люди там живут, и даже представить себе не мог, что и в помине нет там лесов, а лишь сухая бескрайняя степь. За всю свою жизнь он ни разу не отлучался от родных мест далее Брест-Литовска, и порой саднило его смутное сожаление, что не довелось повидать ничего другого. В такие минуты он даже как будто немного завидовал Янке, которому, при всех его несчастьях, все же повезло увидеть мир.
А за окнами уже совсем сгустилась темная осенняя ночь, сырая, холодная. Смутно сквозили в черной туманной мгле оголенные мокрые ветви облетевшего тополя, да падали в холодную вязкую грязь рыхлые тающие хлопья. А в хате, мирно потрескивая, горела лучина, и четкие тени плясали и вздрагивали на круглых темных бревнах стен.
И в который раз пожалел Рыгор, что не может навсегда остаться в этой мирной покойной хате, с этими славными, дорогими его сердцу людьми.
Глава десятая
Следующие несколько дней протекли для Горюнца в тяжелом унынии. Погода на дворе стояла прегадкая: те же низкие косматые тучи, те же непроглядные туманы, та же промозглая сырость. Эта пора была для него настоящим проклятием: ему казалось, будто гиблый сырой туман вытеснил весь воздух, и теперь приходилось бороться за каждый его глоток. Постоянно он теперь ощущал в груди свинцовую тяжесть, иногда переходившую в тупую, давящую боль. Но всего хуже был неотступный страх перед жуткими приступами удушья, которые могли настичь его в любую минуту, и это неизбывное их ожидание было для него едва ли не хуже, чем сами приступы.
Митрась теперь целыми днями сидел дома, тоскливо глазея в сырое окно. Дядька знал, что он с нетерпением ждет Степановой свадьбы, чтобы вместе с другими мальчишками потолкаться возле окон, глядя на чужое веселье. Он теперь только про то и говорил:
– Вот соберемся все вместе, придем и станем под окнами. И пусть только нас кто оттоль погонит, пусть только попробуют! Дядь Вань! – оживился он вдруг. – А может, и ты с нами пойдешь?
– Да ну, старенький я уже – на окнах-то виснуть! – отмахнулся Горюнец.
Дело было в том, что Митрасю, видимо, не давала покоя обида на Степана, что тот не пригласил дядю Ваню на свою свадьбу, хотя прежде, как слыхал Митрась, был с ним дружен. Потому мальчишка считал, что будет только справедливо, если дядя Ваня хоть в окошко с улицы посмотрит. Да кстати говоря, на чужую свадьбу в окна заглядывали не только мальцы и молодые парни, но и весьма почтенные селяне отнюдь не считали это большим грехом – об этом ему рассказывали и Юрка, и Хведька, и Андрейка.
Дядька, разумеется, объяснил мальцу, что вовсе он на Степана не в обиде, да и вообще не их ума это дело: Степан жених, ему и решать, кого звать на свадьбу, кого не звать. Но слова эти, видимо, прозвучали для Митрася не слишком убедительно, ибо самого дядьку не покидала если не обида, то, во всяком случае, какое-то неприятное чувство, словно его не просто обошли, а сделали это нарочно, чтобы досадить, уязвить, «поставить на место».
Вася Кочет, которого тоже не пригласили, по этому поводу заявил, что Степан просто не любит пригожих хлопцев, ибо сам возле них кажется еще неказистее. Правда, братья Луцуки, которых он все же позвал, оба хороши собой, но ведь они умеют играть на скрипке, а какая же свадьба без музыки?
Но даже наивный Василек в душе понимал, что дело здесь не только в неприглядности жениха.
Невеста же Степана, дочка вдовы Павлихи – робкая, миловидная, очень светловолосая девушка – выросла у Янки на глазах. Сколько раз он, бывало, заступался за нее в детстве перед другими мальчишками, которые не прочь были довести до слез эту тихую девочку. Помнит он, как плакала эта Владка, когда уходил он в солдаты, как тяжело всхлипывала, отирая слезы и без того уже насквозь промокшим рукавом. А воротясь из солдатчины, он вместо прежней беловолосой худышки обнаружил совсем взрослую застенчивую красавицу, со светло-золотыми косами и нежным румянцем, словно весенняя зорька.
Владка, пожалуй, была бы и рада пригласить на свадьбу прежнего своего заступника, но беда в том, что жениху это могло не понравиться, да и соседям показалось бы неприличным.
В глубине души Янка прекрасно понимал причину своего угнетения. Не в Степане тут даже дело было и не в свадьбе, а прежде всего в том, что явилась для него эта свадьба лишним напоминанием о его собственной горемычной доле и безотрадном будущем. Все его одногодки давно женаты, и теперь один за другим женятся хлопцы моложе его. А ему, видно, на роду написано так бобылем и дожить, любуясь, как свечка, на чужое счастье. И вся его краса так пустоцветом и отцветет, и не останется на земле никого с такими бровями, словно черные стрижиные крылья, с такими глазами – словно два барвинка проглянули из темной хвои густых ресниц, с его чудным голосом… Раз он уже обошел судьбу, родившись на свет; больше она не даст себя обмануть.
Недавно он снова навещал Кулину. Плохая вышла встреча: дома оказался Микола, Кулинин муж, да и сама она совсем не ждала его, да видно, не слишком была и рада.
Когда он робко, чувствуя необъяснимо жуткий холод в груди, постучал в калитку ее хаты, ожидая увидеть в открывшейся двери легкий тонкий силуэт молодой женщины в белой намитке, то очень смутился, увидев, что вместо нее к нему навстречу идет широкоплечий детина с темными, как у него самого, усами и суровой повадкой. За три года Микола почти не изменился, разве что чуть заматерел. На незваного гостя он, впрочем, поглядел без вражды и даже без удивления.
– А, это ты? – буркнул он. – Как же, слыхал, говорили мне люди – вернулся, значит?
– Вернулся, – чуть растерянно откликнулся Янка.
– Ну так пойдем, что ли, в хату, коли уж пришел! – небрежно бросил Микола прежнему своему сопернику.
Янка нехотя побрел следом, смущенно глядя на его крутую спину, на спутанную гриву буйных волос, что спускалась, по полесскому обычаю, до самого ворота. Совсем не к месту Янке вспомнилось, как всегда дивила его эта Миколина прическа, ибо вся местная шляхта, напротив, высоко подбривала волосы сзади, оставляя на виду всю шею – видимо, в подражание своим достославным предкам. Комары эти голые шеи кусали немилосердно, однако шляхта предпочитала геройски терпеть, нежели ее будут равнять со всяким длымским быдлом. Правда, и сами длымчане все же стриглись короче, и лишь Рыгор Мулява да еще двое-трое в деревне носили гриву наподобие Миколиной.
Кулина вертелась возле печи; в калыске плакал разбуженный младенец.
– Вот, Кулинка, гостя тебе привел! – объявил с порога Микола. – Снова пришел до нас.
Кулина, повернув голову, скользнула по нему все тем же беспокойным взглядом светло-серых глаз, каким наградила его при той, последней их встрече.
– А, это ты? – проронила она. – Ну, садись.
И больше не глядела в его сторону, зато нарочно сердито прикрикнула на плачущего младенца:
– Да цыц ты, неугомонный!
Изо всех сил пыталась она при Миколе казаться равнодушной, да только неважно это у не выходило. Не то чтобы в ней ожили былые чувства – в это как раз Янке плохо верилось – но она, видимо, ощущала какую-то постыдную неловкость. Он подозревал, что примерно то же чувствует и Микола: хоть и знает, что ни в чем перед ним не повинен, а все равно ему тяжко и стыдно, словно чужое место занял, чужое счастье украл.
– Дай, Кулинка, я его возьму? – предложил Горюнец, наклоняясь над калыской.
Кулина растерянно на него поглядела:
– Зачем тебе? Да он мокрый, небось… А впрочем, возьми, отчего ж нет?
Янка осторожно поднял малыша; ребенок потянулся к нему и притих.
– Да нет, сухой вроде, – улыбнулся солдат.
– Что ж тогда орал? – удивилась мать.
– Да на руки взяли, вот он и примолк, – ответил Микола. – Одно слово – баловень растет! А к Янке всегда младенцы тянулись. Вечно он, сколько я помню, всякую мелочь кругом себя собирал. Девчоночку эту помню, чернявенькую… Леськой, что ли, звать?
– Леськой, – несмело и торопливо кивнула жена. Ее до сих пор немного коробило воспоминание об этой девчонке, об ее бездонных темных глазах, в глубине которых при одном взгляде на бедную Кулину вспыхивал непримиримый огонь. Кулину до сих пор не покинуло чувство вины перед Янкой; Леська в этой ее вине была открыто убеждена. К тому же девчонка всегда ревновала к ней Янку и уже поэтому ее не любила, а замужество Кулины дало этой Леськиной неприязни самое святое право: сперва отняла друга, а потом позабыла его с такой легкостью, без сожалений предала его память…
– Да, Ясю, – вспомнила вдруг Кулина. – Твой-то хлопчик как? Ну, тот, что летом с тобой приходил, чернявенький такой?
– Да я понял, – ответил Янка. – Жив-здоров, с хлопцами нашими бегает, по хозяйству мне помогает. А-ай!
Это маленький Ясик, расшалившись, больно потянул его за волосы. Горюнец бережно разжал его крохотный кулачок, поводил пальцем по ладошке. Малыш засмеялся, показав розовые беззубые десны. Улыбнулся и Горюнец, но тут же улыбка его померкла, сменилась тяжелым раздумьем.
– Тоскует, – вздохнула Кулина, поглядев на сумрачного, потемневшего лицом гостя, к плечу которого доверчиво приклонил головку ее младенец.
– Что тут поделаешь! – процедил сквозь зубы Микола, отводя взгляд.
Когда же он решился вновь посмотреть на своего гостя, почудился ему в склоненной голове, в упавших на колени темных натруженных руках все тот же невысказанный укор. Младенца у гостя Кулина уже забрала и снова укладывала в калыску. «Ну что он сидит? – вспыхнуло у Миколы внезапное раздражение. – Что ему тут надо? Жалости просит? Так довольно уж его пожалели…»
Незваный гость, казалось, угадал его мысли: медленно поднялся с лавки, сдержанно простился и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь.
После той встречи Горюнец решил не ходить больше к ней. Никому он там особо не нужен, да и для него самого, в чем он с большим трудом себе признался, Кулина уже давно мало что значила. Но с ее уходом осталась в его душе холодная черная пустота, и долго она еще не даст ему покоя, и станет еще безрадостнее его и без того нелегкая жизнь.
А к Рыгору он заходил снова уже накануне Степановой свадьбы, и опять не застал его дома. В этот раз Авгинья встретила его без прежней неприязни; скорее даже внимания не обратила, кто пришел – не до того ей было нынче.
В хате все было посдвинуто, поперевернуто, на полу громоздились сбитые в кучу половики, и здесь же валялся брошенный веник, опутанный паутиной. Авгинье помогали прибираться две ее замужние дочери; обе небрежно повернули головы, лишь едва кивнув вошедшему Янке.
– Совсем я с ног сбилась! – пожаловалась Авгинья неизвестно кому. – Ох уж мне свадьба эта, скорей бы все кончилось!
Янке стало немного жаль ее: этот кавардак, поди, и за день не разгребешь, а сколько они уже тут возятся! Да и вообще: много ли у нее в жизни радости? Весь век хлопочет за всех, бьется, что рыба об лед, и хоть бы кто спасибо сказал! И муж не любит, и бабка век заела…
Вспомнив о бабке, он невольно поглядел в ее сторону. К печке было не подойти: к ней была углом придвинута кровать, тут же валялись кучей смятые половики. А бабка Алена по-прежнему сидела на печи, как будто и с места не трогалась; низко надвинутый платок закрыл половину лица, из-под него торчит один только нос крючком. Кривые узловатые пальцы, как всегда, что-то перебирают, голова мерно покачивается. Она давно отжила свой век, и нет ей больше дела до сует земных.
– Эй, Христина! – крикнула меж тем Авгинья старшей дочери. – Ты эти крынки оботри хорошенько да ставь их опять на полку. Ишь, закоптились!..
Христина прошмыгнула мимо Янки, в упор его не замечая и тем самым давая понять, что никому он тут не надобен. Янка, разумеется, понял этот молчаливый намек и поспешил распроститься с гостеприимными хозяйками.
Когда он вошел на свой двор, Гайдучок с радостным визгом кинулся ему под ноги.
– Ну, чего тебе еще? – небрежно-ласково потрепал его хозяин. – Что, дурной? Что, косматый? Никак, стосковаться успел?
Услыхав на дворе знакомый голос, на крыльцо выскочил Митрась – тоже, верно, соскучился один в темной хате. А впрочем, уже нет, не один.
– Дядь Вань, иди скорей! – заторопил Митрась. – Аленка пришла, тебя ждет. Да ты только погляди на нее!
– А ты что это раздетый на холод выскочил? – как будто сердито шумнул на него дядька. – А ну, живо домой! – и дал ему легкого шлепка, подталкивая назад.
Леська и впрямь ожидала его с нетерпением: едва он успел войти, как она тут же взлетела на ноги и закружилась перед ним по горнице, ослепив его яркими красками своего наряда. На ней была клетчатая цветная панева, немного распахнутая на левом боку; от быстрого кружения она разлетелась колоколом, больше открыв глазу белую сорочку с широкой каймой вышивки на подоле. Но всего лучше был ее новый корсаж, который не так давно подарила ей тетка Зося, приезжавшая в гости. Савка по этому поводу, конечно, поворчал, что, мол, рано ей еще, не доросла наряжаться, что никакого проку с таких подарков, девку только портить… Зато Леська сияла всеми цветами радуги, сокрушаясь лишь тому, что некуда ей это чудо одеть.
Этот корсаж был скроен не совсем обычно и напоминал скорее панскую казнатку былых времен – так, во всяком случае, казалось Леське. Он был очень низко вырезан на груди, и столь же глубоки были проймы – чтобы не мялись пышные рукава сорочки. И по всем вырезам проходила изящная вышивка алым шелком по темно-вишневому суконному полю. Спереди казнатка затягивалась такими же алыми витыми шнурами, и все шесть дырочек, сквозь которые продевался шнур, были обиты блестящими серебряными клепками – ну разве не прелесть? Правда, изначально было задумано, чтобы казнатка не только туго охватывала фигуру, но и чтобы полочки спереди немного расходились, подчеркивая белизну рубашки. Однако шилась она с расчетом на грудь побольше Леськиной, и потому ей пришлось затянуться почти до упора – полочки подходили вплотную друг к другу. По этому поводу Савка ехидно посоветовал ей перед уходом:
– Ты смотри там, не выпади из гарсета своего…
Однако Горюнец, как и большинство мужчин, не слишком разбирался в девичьих нарядах, чтобы оценить по достоинству все это великолепие, а потому просто спросил у нее:
– Ты куда ж собралась – нарядная такая?
– К Владке на девичник! – ответила та. – А завтра на свадьбу пойду.
– Дак тебя же вроде не звали?
– Эка беда! – беспечно отмахнулась девчонка. – Вчера не звали, а нынче вот зовут. Сама Владка меня и пригласила.
– Вот как?
– Ну да! Стариков да Савку, верно, без меня и звали. Бабуля говорила, что в года я еще не вошла, а Савка ворчал, что нечего всяким зеленым девчонкам на свадьбах отираться. Я сперва расстроилась, а потом поняла, что мне и самой не так туда и хочется.
– Не хочется? – изумился Митрась.
– А чего я там не видала? Духота, разгул, шум… Там одна Дарунька чего стоит!
– Ну, только если так, – согласился Митрась, который и сам неплохо знал, что за счастье эта Дарунька, родная дочка приветливой тетки Альжбеты.
Это была девушка старше Леськи и уже считалась невестой. Да только вот женихов для нее пока не находилось – видимо, отпугивал ее сварливый норов, да притом и нехороша была: высокая, прямая, ровно жердина, с длинными, как ходули, ногами и с длинной шеей, с торчащими вперед неровными буроватыми зубами, косо поставленными глазами и тощенькой жалкой косицей, которую не спасали никакие шелковые ленты. Длымь всегда по праву гордилась красотой своих девчат; да и те, что не попали в красавицы, были, во всяком случае, миловидны. Даруне же не досталось и этого; она, видимо, болезненно переживала свою непривлекательность, и этим отчасти объяснялась ее зловредность. Леську она отчего-то просто терпеть не могла и никогда не упускала случая сказать ей гадость. Леська, разумеется, платила ей столь же откровенной неприязнью.
На свою свадьбу Владка пригласила Даруню вынужденно: все ж таки сестрица двоюродная, как можно обойти!
А Леська среди приглашенных оказалась и впрямь случайно: вчера она забежала в хату невесты, чтобы поздравить ее, и обнаружила Владку горько рыдающей на груди своей матери, строгой и молчаливой вдовы Евы. Девчонка в растерянности застыла на пороге: еще так недавно счастливая красавица Владка радостно щебетала с подружками о своем предстоящем замужестве. Помнит Леська тот нежный румянец, заливший от волнения лицо девушки, и трепетную улыбку на розовых губах, и тот ни с чем не сравнимый чудный отсвет в глазах, от которого любая девушка становится настоящей красавицей. И теперь изумленно застыла, увидев, как вздрагивают крупной дрожью Владкины плечи, услышав ее надрывные горькие всхлипы.
– Владочка, что случилось? Почему она плачет? – спросила Леська у тетки Евы.
– Страшно ей сделалось, – ответила вдова. – Бывает…
Леська участливо провела рукой по светлым Владкиным косам – нежные, мягкие, шелковистые, не то что у нее у самой… Владка всхлипнула, что-то невнятно проговорила.
– Степан с Катеринина дня на заработки уходит, – пояснила тетка Ева. – Страшно ей без него с Авгиньей оставаться.
Леське нечем было утешить бедную Владку. И без того понятно, что с первых же дней придется ей крутенько: не пряники есть, чай, берут! И работу всю на нее там сложат, да еще и за бабкой ходить велят. Там у них один дух томный чего стоит! А уж про тетку Авгинью и говорить нечего: уйдет Степан – так она совсем бедную Владку со свету сживет!
– Ничего, ничего, – утешала дочку Ева. – Рыгор дома остается, Авгинье воли не даст.
– Да-да, ты к дядьке Рыгору поближе держись! – подхватила и Леська. – Обойдется у тебя все, Владочка, вот увидишь!
В ответ на эти слова Владка вдруг оторвалась от материнского гарсета, повернулась к Леське заплаканным лицом. Всхлипнула в последний раз, дрогнула покрасневшими ноздрями, потом благодарно обняла Леську и прерывисто зашептала:
– Спасибо, Лесечка… Приходи завтра ко мне на девичник… И на свадьбу потом приходи – к венцу меня одевать…
Так вот и вышло, что впервые в жизни и явно раньше срока получила Леська приглашение на свадьбу, да притом не какое-нибудь, а личное, особое.
– Так ты к ней теперь? – спросил у нее Митрась. – Везет же! А мы с хлопцами завтра пойдем в окна глядеть, как вы там гуляете.
– Ничего, придет еще твое время, сам тогда будешь гулять! – утешила его Леська. – А мне уж бежать пора…
Горюнец видел в окно, как легко, хоть и одета была в тяжелый кожух, сбежала она по ступеням крыльца – и вдруг отметил, как красиво стала она держать голову, чуть откинув ее назад. «Ишь ты! – подумалось ему с необъяснимой тоской. – Уж и заневестилась! А давно ли…»
И настигли его все те же печальные думы: вот пройдет еще два-три года, подрастет Леська, а там и замуж выйдет, детки пойдут… Тогда уж несподручно ей будет всякий день к нему забегать.
Вот так, один за другим, и уходят близкие… Сколько у него прежде было друзей-товарищей, добрых, верных – и где все они теперь? Кто постарше – те давно своим домом зажили, а молодые… На что им теперь Янка? Изредка разве кто забежит по старой памяти, да и то ненадолго: кому весело с недужным? Ваське и то не до него стало – кралю себе приглядел, синаглазую Ульянку, из-за нее и старого друга совсем позабыл, все реже заходит. И с Леськой, глядишь, то же будет, никуда не деться… А как вдруг не захотелось Янке ее терять! До того не захотелось, что, вопреки рассудку, затеснились в груди безумные мечты: вдруг да случится чудо, что-то произойдет, переменится… Но нет – не бывать тому! Это молодым хорошо в чудеса верить, а он-то уж знает, что коли и бывают чудеса на свете, то всегда не с нами, и без толку зря надеяться, понапрасну надрывать себе сердце пустыми мечтами.
Наконец он отвернулся от окна и с какой-то обреченной нежностью уставился в лицо сидевшего напротив Митрася, подперев кулаком худую остроскулую щеку. И этот взгляд, полный глубокой тоски и туманного сожаления, не на шутку испугал мальчишку.
– Дядь Вань, да что с тобой? – встрепенулся он вдруг.
– Хоть бы ты меня не покинул, Митрасю, – тихо промолвил дядька.
– Да что ты, Бог с тобой! – еще пуще перепугался Митрась. – Да куда ж я от тебя денусь? Да как же я без тебя…
Эта неубедительно-страстная речь, однако, плохо утешила Горюнца. Его растревоженное сердце и здесь чуяло беду, какую-то смутную пока еще угрозу. Хотя как будто с этой стороны никакая беда прийти была не должна: все казалось так мирно, так надежно. Однако именно эта обманчивая надежность его как раз и тревожила. Слишком хорошо знал Горюнец ту черную силу, что неотступно преследовала его уже много лет, и эта сила, несомненно, решила согнать его с этого света, но прежде отнять у него все, что ему дорого, все, ради чего стоит жить; а его самого превратить в ничтожный обсевок – без детей и без будущего. Но нет, шалишь, злодейка! Скольких ты уже извела, погубила, но этого хлопца, уж поверь, ты не скоро добьешь! Без сил, без подмоги, без надежды, но до последнего вздоха он будет сражаться с тобой, а там еще поглядим, кто кого одолеет!
Он встряхнул головой, избавляясь от минутного наваждения, и, вновь опершись на локоть, стал глядеть в окно.