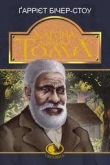Текст книги "Дядька (СИ)"
Автор книги: Мария Теплинская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– День добрый. Лесю, – кивнул ей, входя, Горюнец. – Погодите только, ребятки, дайте передохнуть: устал я, озяб, через весь лес почти шел.
Он присел на скамейку здесь же, в сенях, и довольно долго разувался, распутывая слишком туго затянутые узлы намокших постромок. Затем размотал пуховый шарф, которым кутал горло. Шарф был мягкий, очень приятный на ощупь (мать вязала!) и совсем не кусался.
Пройдя в горницу, он устало присел на лавку; дети тут же уселись по обе стороны от него.
– Ну что, дядь Вань? – начал допытываться Митрась, теребя его за плечо. – Что она сказала?
– А что ей сказать? – усмехнулся невесело дядька. – Что всегда говорит, то и теперь сказала: недолей я будто наказан, а против недоли идти – то ей не под силу.
Митрась досадливо поморщился: что-то похожее, помнится, говорил и приходский батюшка, которого он так невзлюбил.
– Да за что же, за что ты наказан? – почти со слезами выкрикнул Митрась.
– Мне-то почем знать, за что? – дрогнул плечами дядька. – Этого и сама бабка Марыля толком не скажет. Наказан – и все!
Леська, сидя рядом, молча глядела на друга. Неяркий пасмурный свет падал ему в лицо, зарывался в мягкие волнистые кудри. Ясные его глаза его неподвижно глядели вперед, на потемневшие бревна стен, и Леська впервые заметила возле них тонкие, почти неприметные лучики первых морщинок и горькие складки у губ. Она догадывалась, что сказал он далеко не все, что главное оставил при себе, не желая, чтобы кто-то еще принимал на свои плечи тяжесть этого знания. А ей вдруг вспомнился другой человек, очень на него похожий. Такой же мягкий и светлый у него волос, такая же милая и ласковая улыбка. Только вот брови у него посветлее и без такого крутого излома, да в прозрачных серых глазах – ни капли синевы.
– Ясю, – легонько тронула она его за плечо, улучив минуту, когда Митрась отошел. – Ты Даню Вяля знаешь?
– Вяля, Вяля, – задумался он. – Это кто ж такой? Не припомню…
– Ну как же! – расстроилась Леська. – Данила Вяль, хлопец один из Ольшан, появился у нас недавно.
– А, так ты про того ольшанича? – догадался Ясь. – Так бы сразу и говорила, а то я голову ломаю! Знаю его, конечно, видел разок-другой. Тебе-то он зачем понадобился?
– Да так, – уклончиво ответила она. И тут же поспешила добавить:
– Он вчера у Владки на свадьбе был.
Янка в ответ чуть нахмурился, вспомнив, что это, наверно, и есть тот самый «панич из Ольшан», о котором не давеча говорил дядька Рыгор.
А Леська все пыталась понять, чем же вызвано это его минутное недовольство. Может быть, он, как и Савка, осуждает ее за нескромность? А быть может, просто вдруг почувствовал себя одиноким, покинутым, почти преданным? Так ведь было и с ней, когда Ясь увлекся Кулиной. (Почему всегда и везде эта Кулина? Давно пора из головы ее выбросить!).
И, словно желая избавиться от неприятных мыслей, перевела она беседу на прежнее:
– Так, стало быть, не может бабка Марыля тебе помочь?
Он покачал головой.
– И могла бы – да не станет. Боязлива она, бабка-то Марыля, страшно ей против недоли черной выступать. Вот бабка Алена – та могла бы отважиться.
– Дядь Вань! – окликнул Митрась. – Расскажи про бабку Алену!
– Да я уж сколько раз тебе про нее рассказывал, – удивился дядька.
– Ну, еще расскажи! Давно ты про нее не говорил…
Знает Митрась, что дядька его опоздал родиться: лет тридцать или даже двадцать тому назад в единый миг был бы он исцелен от тяжкого недуга. Бабка Алена тогда еще в полной силе была. На весь повет не было лучшей ведуньи-травницы; любую хворь могла исцелить, от любой беды избавить. А и не сумеет – так скажет, по крайности, отчего та беда приключилась. До самого Брест-Литовска шла слава о ней, вся округа в пояс ей кланялась. Люди сказывали, даже пани одна приезжала.
– Я сам ее не видел, совсем младенец был, – признался Горюнец. – Мне дядька Рыгор о ней рассказывал. Красивая такая пани, белокурая, вся в кружевах да в белой дымке, подолом землю метет. А уж как на крыльцо поднималась, подобрала высоко подол свой, дабы не замарать о ступени грязные – а ножка-то… Бог ты мой! Маленькая, беленькая такая, в башмачке атласном, ленточкой розовой перевязана… Уж сколько годов миновало, а мужики наши все забыть не могут!
– Да ты, дядь Вань, не про ножки, а про бабку Алену рассказывай! – перебил Митрась.
– Ладно, – усмехнулся дядька. – Так вот. Не надо было долго голову ломать, чтобы зразуметь, зачем та пани приехала: все очи у ней были заплаканы, да все она кружевной хусткой их отирала. По всему видать, с паном-то у нее разладилось, с кавалером, в смысле.
И что вы думаете? Взяла ее наша бабка за белу ручку, поглядела в ясны оченьки, а потом взяла уголек – да не уголек, а целый уголь, едва ли не с мой кулак – пошептала над ним, да ей и дала.
– Возьми, говорит, красавица, уголек, а в самую пятницу, как полночь минет, прочти молитву да весь тот уголь натощак всухомятку и съешь!
А барыня слушает да слезами умывается, а сама на каждое слово головой кивает: все, мол, сделаю, как ты велишь! Крепко, видать, присушило ту барыню…
– И что же было? – нетерпеливо спросила Леська? – Так и съела она тот уголь?
– А вот слушайте дальше. Денька через три наезжает она опять – веселая, розовая, что яблонька весной! Раскинула руки, да так бабке на шею и бросилась, словно и не пани она вовсе, а простая наша девчина. Обнимает, целует, кошелек тяжелый сует.
– Бери, говорит, родная! Ты сердце мне исцелила, покой воротила!
– Нешто и впрямь тот пан к ней вернулся? – изумилась Леська. – Вот хорошо, теперь и я знаю, что делать, коли меня каханый когда покинет!
– Ну, не совсем так дело было, – улыбнулся Янка. – А вот что пани та рассказала. В пятницу, едва полночь ударила, достала она тот уголь и давай молитву щебетать на своей латыни – католичка ведь, они все только на латыни и молятся. Так вот, молится наша пани, а сама все на уголь поглядывает да примеряется: как же она его, здоровый такой, есть-то будет – не пряник, чай. Ну, да и каханого ведь жаль, вернуть-то хочется! Дочитала молитву свою, перекрестилась, откусила от того угля – а он в глотку-то не идет, обратно лезет! Хоть бы водицей запить – так тоже нельзя, бабка Алена особо про то помянула. Ну, проглотила-таки с грехом пополам, заново кусает – и опять он ей в горло нейдет! Однако и тут худо-бедно справилась. А уж на третий раз, как застрял у ней тот уголь комом во рту – плюнула наша пани, да и говорит:
– А поди ты прочь, изменщик бессовестный! Мало того, что душу всю мою вымотал, так я еще за тебя, за неверного, этакие муки терпеть должна?
И тут же словно камень с души у нее свалился, тут же к ней и сон, и покой вернулись, а про пана того неверного и думать забыла!
– Не любила его, выходит, – задумчиво вздохнула Леська.
– Выходит, что не любила, – ответил Ясь. – Только голову себе туманила попусту, а с этого тоже ничего хорошего не бывает. А уголь-то бабкин и помог ей туман тот развеять.
– Ну, хорошо, хоть навозом ее кормить ваша бабка не додумалась! – захохотал Митрась.
– А что? – подхватил дядька. – С нее и это бы сталось, коли уголь бы не помог! С углей, мол, проку мало, так милости просим, любезная пани, навоз кушать! Глядишь, ума бы и прибавилось. Так что, Лесю, – закончил он, – ни один каханый того не стоит, чтобы этакие муки за него принимать.
– Ну а коли стоит? – спросила она тихо.
– А за того, кто стоит, и угли тебе жевать не придется, – серьезно ответил друг. – Он и сам тебя вовек не покинет. И не надо, Лесю, долю чужую к себе тянуть, не то своей тебе потом не дадут. Дядьку Рыгора хотя бы вспомни: тоже ведь чужое взял по молодости.
– Не взял, а всучили, – мрачно поправила Леська.
– Всучили! – бросил Горюнец. – Да кабы он тогда хоть слово против сказал – уже бы не всучили! В том-то вся и беда, что и сам он не разумел тогда ничего. Ему-то, молодому, и разницы особой не было: что Авгинья, что Маланья! Ну, тебя-то, я знаю, старики неволить не станут, да только сама, гляди, не обманись. Я и сам, был грех, едва не обманулся.
– А как мне, Ясю, долю свою узнать? – спросила она.
– Узнаешь, – ответил он. – Ты вот вспомни, как ждала меня летом у дороги. И скажи, часто ли было, что ты любого встречного за меня принимала?
Она молча кивнула в ответ. Да и как не кивнуть, если и в самом деле готова она была принять за милого Яся любого встречного хлопца, светлого волосом, широкого в плечах и тонкого станом…
– А могло ли быть, Лесю, что ты бы меня не узнала, коли и впрямь бы увидела?
– Нет, – с жаром заверила она.
– Вот видишь. Так и с долей своей. Встретишь – узнаешь; а покуда не встретила – не хватай что ни попадя…
– Так ты, дядь Вань, должно быть, голодный, – спохватился Митрась. – Я вот бульбу тебе закутал.
– Вот спасибо! – обрадовался дядька. – Бабка Марыля мне, кстати, опять велела горячей бульбой дышать. Уж который месяц дышу я той бульбой, и хоть бы что толку…
Дети не знали, что Янкин недуг тут вовсе и ни при чем. Недуг был лишь поводом, чтобы отправиться к ней в лес; Янка и сам понимал, что ведунье его не одолеть. Но он не хотел, чтобы дети знали, для чего он на самом деле ходил к бабке Марыле: к чему их пугать понапрасну?
С некоторых пор он почему-то стал бояться темноты. Смешно, не правда ли? Расскажи кому – засмеют!
И все же вечерами, когда за окном сгущались осенние сумерки, а по стенам и углам бродили причудливые, страшноватые тени, сердце его вдруг начинало сжиматься от страха перед наступающей ночью. Так бывало с ним когда-то давно, в раннем детстве, когда маленький Ясик, запуганный с вечера страшными сказками, просыпался, как от толчка, в самый глухой час ночи и больше не мог заснуть, холодея от ужаса, принимая забытую на стуле материнскую рубаху за присевшего покойника в саване, а летающая по стене тень от занавеске казалась ему пляской ужасной ведьмы. Виделись ему также мавки-русалки, эти прозрачные красавицы с длинными текучими косами, под чьими шагами не мнется трава. Он, конечно, знал, что мавки не злобны, а порой даже благодушны, но в такие минуты боялся их почему-то даже больше, чем всех на свете ведьм и даже Рыжего лешего, что нагоняет неизлечимую лихорадку.
Позднее, в отрочестве, с ним повторилось нечто подобное, но теперь все было куда страшнее и серьезнее. Что там покойники, ведьмы да мавки в сравнении с тем, что теперь так нежданно обрушилось на его неокрепшую еще юную душу!
Как-то в церкви услыхал он проповедь отца Лаврентия, что придет время, и все светила небесные падут на землю, и море ринется на сушу, и взорвутся повсюду горы огненные, и придет миру конец. После той проповеди Янка шел домой, не помня себя от ужаса, ничего не видя кругом, а перед глазами у него стоял тот страшный миг далекого будущего, когда на их мирные леса и поля обрушатся гигантские волны дальних морей, когда тут и там разверзнется земля, и из нее с ревом вырвется адское пламя, и нигде ничему живому не будет спасения, ибо такова воля Божия… Он, конечно, знал, что все это случится очень нескоро, когда от него самого не останется даже праха. Но он и боялся не за себя – за тех людей, что будут жить после. Да что там за людей – за весь мир боялся!
На третий день-таки не выдержал – побежал к батюшке. Задыхаясь от волнения, спросил у него, нельзя ли как-нибудь спасти мир от неотвратимой гибели.
Отец Лаврентий с пугающей суровостью посмотрел на мальчика, затем важно покачал головой и ответил:
– Нет, отрок, даже думать тебе о том грех. Люди – прах земной пред Создателем нашим, во прах все и уйдет, и грешны мы все перед Ним от самого Адама. Взгляни вон туда! – величавым взмахом руки указал он на заднюю стену церкви. Янка испуганно следил за движением его холеной, чуть отекшей руки – сизовато-белая, она казалась почти неживой в отпахнувшемся рукаве черной просторной рясы.
– Что видишь? – вопросил батюшка.
– Страшный суд, – еле выговорил мальчик.
– Вот то-то! Смотри туда, хорошенько смотри, и пусть всегда тебе это видится, как начнут бесы тебя искушать на мысли богопротивные! Вспомни тогда, что ждет всех грешников: святотатцев, отступников, прелюбодеев, богохульников, вольнодумцев – всех, всех! Помни об этом, отрок, до самой смерти, и живи во страхе Божием, а ересь всякую прочь из головы выбрось, и будет тебе на том свете Божья благодать. Ну, понял?
Похолодевший от нового страха мальчишка лишь отупело кивнул.
– Вот и умница. Ну, беги до дому! – священник отечески потрепал его по голове своей набрякшей сизой рукой и легонько подтолкнул к дверям.
Выйдя на вольный свет из тяжелого церковного полумрака, Янка весь вспыхнул бессильным гневом, что этот взрослый, умный, грамотный человек, пастырь Божий, не хочет даже пальцем шевельнуть для спасения мира. Хорош пастырь, нечего сказать! На том свете, вишь ты, благодать, а как же этот?
Он в отчаянии глянул окрест – его окружали серебристые березы, густой красный ракитник, заросли клубящейся белой таволги с ее сладко-пряным ароматом. А дальше, вдоль реки – луг в сквозном кружеве ромашек, жемчужные облачка в высоком голубом небе. А совсем рядом, почти у самых ног – пестрый зяблик, веселая и храбрая птичка, деловито ищет корма, с дружелюбным любопытством поглядывая блестящим круглым глазком. И что же теперь делать, как спасти все это?..
Потом стало еще хуже. Стало казаться, будто уже теперь земля уплывает из-под ног и обдает нестерпимым жаром, а солнце срывается с неба и стремительно летит вниз.
Он ничего не сказал матери; каким-то смутным чутьем он уже знал, что здесь не поможет ему ни мать, ни дядька Рыгор – никто из живущих. Это нелегкое испытание он должен был выдержать сам и один.
Что-то почуяли дружок василек да маленькая еще Леська. Но когда они подступали к нему с расспросами, он либо отмалчивался, либо неловко пытался заговорить им зубы, отвлечь на другое. Нет, ему даже в голову не приходило, что они могут его не понять, однако он боялся испугать друзей, заразить их собственным ужасом. Зачем ему, чтобы еще и они терзались?
Мало-помалу ужас рассеялся, рассосался, будто глубоко скрытый нарыва, и когда от него осталось лишь немного тяготившее воспоминание, Янка вдруг понял: он стал взрослым.
И вот теперь это хорошо знакомое, леденящее кровь чувство неизбывного ужаса вернулось вновь. Каждый вечер, ложась спать и задувая лучину, он тягостной обреченностью думал: опять начнется… Приступы болезни почти всегда терзали его ночами, днем они приходили сравнительно редко. Наступила самая скверная для него пора: на дворе стояла слякотная, стылая осень с мелким дождем и тяжелыми непроглядными туманами.
Но даже не приступов он боялся. Он и в самом деле часто просыпался, схваченный за горло невидимой беспощадной рукой. Невозможно было вздохнуть, от удушья темнело в глазах, и меркли, расплываясь, белые завески на окнах и длинные полосы лунного света на полу. И каждый раз ему казалось, что вот это приступ – последний, что больше уже ничего не будет… Ему блажилось во тьме склоненное над ним лицо костлявой старухи, жуткий оскал желтых зубов; он отчетливо видел мертвенно-холодный блеск ее косы и костлявую руку, протянутую к самому его горлу.
Когда же приступ наконец его отпускал, измученный Горюнец подолгу успокаивался, слушая глубокое и ровное дыхание Митрася, в который раз благодаря судьбу, что послала ему этого хлопчика.
И в одну из таких минут пронзила его внезапная и жуткая догадка. Судьба привела – судьба может и увести… Неотвратимый рок… Недоля черная… Он и сам не знал, отчего ему вдруг подумалось, будто с Митрасиком вскоре должно случиться что-то ужасное; более того, тупым гвоздем терзало его смутное подозрение, будто в том, что случится, виновен лишь Ян Горюнец, и более никто.
И с тех пор почти каждую ночь лежал он без сна, глядя во мглу черными впадинами глаз, пытаясь отогнать тревожные думы. А душа его давно уже знала ответ, в чем же его вина, вот только признаться себе в этом он никак не хотел. Когда-то давно, еще несмышленым подлетком, забрался он слишком далеко в заповедную глухомань и потревожил дремавшее в лесу неведомое черное зло. И с тех пор он смутно, но неустанно ощущал, будто бы носит это зло за плечами, и оно медленно и неотвратимо губит его.
Он не хотел даже думать, почему это черное зло выбрало своей жертвой именно Митрасика; почему не Лесю, не Василя, не дядьку Рыгора, наконец. Не хотел, чтобы не навлечь беды еще и на них. Он просто ощущал, почти что в и д е л, что черная туча медленно сгущается именно над Митрасем.
Наконец, пришло решение: идти за советом к бабке Марыле.
Бабка Марыля жила в глубине леса, в той же хатке, где некогда обитала старая Алена. Знахарки часто живут на отшибе, подальше от соседей. Вероятно, этот обычай тоже пришел из глубины веков, когда колдуны и травницы уединялись, чтобы не навлечь на других гнева недобрых сил. А быть может, стали они удаляться уже позднее, дабы поменьше попадаться на глаза добрым христианам и недобрым завистникам.
Бабка Марыля была проще и ласковее Алены. Она не глядела на просителей так зорко и строго, не пронзала их насквозь острым буравом своего взгляда, от которого люди поневоле ежились. Нет, эта старушка всегда расспрашивала спокойно, терпеливо и кротко. Она любила людей и ворожила именно для того, чтобы помочь, спасти от беды. За помощь она брала лишь то, что ей давали, и это изобличало в ней истинную целительницу, получившую свой дар от Бога. Но в то же время она была много слабее своей предшественницы и не внушала людям такого безграничного уважения, как та в прежние времена. Не все ей еще удавалось, многого она пока не познала. Но и к ней столь же часто, как, бывало, к Алене, приходили люди со своими бедами и сомнениями – и из Длыми, и из других сел, где жили крестьяне пана Любича, и даже из тех деревень, что принадлежали Островским, грозе окрестных мест. Не отказывала она в помощи и дворовым, и застянковой шляхте, и даже лихим гайдукам – и надо сказать, что эти последние держали себя у бабки Марыли на удивление пристойно и смирно.
Горюнца она встретила так же, как и других – ласково и приветливо.
– Здравствуй, молодец, голубь сизый! Что так рано прилетел?
– День добрый, – скромно поздоровался гость.
– Никак, про каханье гадать пришел? – улыбнулась ведунья. – На бобах, на воске? И которая же девка тебя присушила? А впрочем, не говори: не стоит девичье имя понапрасну трепать, а в твоем случае и подавно!
– Нет, бабунь, не про каханье гадать я пришел, – как будто спокойно, однако при этом со странной поспешностью в голосе ответил Янка.
Он снял отсыревшую свитку, сдернул с головы шапку-кучму, и бабка Марыля всплеснула руками, глядя, как рассыпались его русые кудри вдоль впалых щек.
– А и похудел же ты, милый, лицом-то! Недуг, верно, все гложет?
Он молча кивнул.
– Травки-то пьешь ли, что я тебе наказывала? Бульбой горячей дышишь?
– И травки пью, и бульбой – все, как вы, бабунь, велели.
– Не помогает?
– Полегчало мне с них Трошки, – вздохнул Горюнец, – да все равно душит ночами, не отпускает…
– А больше я, солдатику, ничем и пособить не могу, – с горечью сказала Марыля. – Вот хочешь казни, хочешь милуй. Не в моей то власти, а видно, только в Божьей.
– Знаю, бабусь, и не виню я вас, – ответил солдат. – И за то дзянкую, что смогли вы для меня сделать. Другое у меня до вас дело.
– Ну, пройдем тогда, что ли, в горницу, – пригласила его ведунья. – Побеседуем.
Он прошел следом за хозяйкой через тесные сени в маленькую темную горницу, потянул ноздрями сухой и терпкий аромат лесных трав и кореньев.
– Присядь, – старуха указала ему на лавку, застеленную очень старой, вытертой медвежьей шкурой, еще бабки-Алениным наследством.
– Вот гляжу я на тебя, Ясю, – продолжала ведунья, – да вспомнить никак не могу: чей же ты сын будешь? Батьку твоего как звали?
– Антон Гарунец, – ответил он.
– Вот как? Слыхала я вроде когда-то. А мамку?
– Агриппина.
– Знакомые все имена, да вот никак не вспомнится. Я ведь в лесу сижу, давненько в миру не бывала. Тебя-то я хорошо помню: личность у тебя больно приметная, и видать сразу, что длымчанин ты. Не по одежке, не только. Породу вашу за версту узнать можно, верно люди бают! Холопы вот заходят ко мне – с вами и не сравнить! Пришибленные все, тупые, что бараны пуганые; того только и ждут, кто бы по хребтине палкой огрел! А вы – не то, вы все волей дышите, и ничем ту волю не известь… Ты вот: и в солдатчине намаялся, и хвороба тебя одолела, а все равно воля в тебе жива. Чей же ты все же будешь: не помню-таки…
– Как же вы, бабунь, имя мое не позабыли? – удивился парень.
– А имя твое мне и помнить не надо; мне поглядеть на тебя довольно – и уж знаю, как тебя звать. Ясь ты будешь, и больше никто. По нашему-то краю что ни мужик – то Янка или Ясь. Много я вас перевидала, все вы чем-то друг на друга похожи, а чем – и описать не могу… А ты еще и белокурый, чернобровый, а очи у тебя – ровно барвинки. Я как впервые тебя увидела, так сразу и подумала, что все наши старые песни про тебя сложены: такие там были хлопцы… Нет, не пойдет тебе другое имя; право же, не пойдет! – закончила бабка, склонив голову набок и глядя на него чуть искоса.
– Ну как же, бабусь? – возразил Янка. – А вот есть у меня дружок: тоже белокурый, и брови черные, и очи синие, а зовут Василем.
– Василь другой, – не согласилась бабка. – Знаю я, про кого ты говоришь, помню его тоже. И похож он на тебя, верно, а все равно – другой; уж его нипочем Ясем не назовешь. Да и очи у него, кстати, не синие вовсе, как у тебя, а больше в голубизну тянут. И в самом деле: что цикорные васильки! Не полевые, что с рожью водятся – те темные. А я про те говорю, что вдоль дороги растут, голубенькие такие, будто неба кусочки.
Бедный хлопец поначалу слегка растерялся от всех этих цветочно-именных тонкостей, но затем решил приступить-таки к делу.
– Ну что ж, бабусь? Коли уж вы столько всего про меня знаете – может, скажете, как беду мою размыкать?
– Ах да! – спохватилась бабка. – Я и забыла совсем. Так что же у тебя стряслось? – подперев щеку ладонью, старуха устремила на него свой зоркий взгляд.
– Да пока ничего не стряслось, да только боюсь, что стрясется. Хлопчик со мной живет, бабунь, Митрасем звать, чернявенький такой – может, знаете?
– Знаю, хороший хлопчик, – кивнула бабка. – Диковат, правда, трошки.
– Да с чего ему и другим-то быть? – вздохнул Горюнец. – С малолетства худо ему пришлось, лиха сколько выпало… Били много…
– Ну так что же с тем хлопчиком? – спросила бабка.
– Боюсь я за него, – ответил он. – Ночами особенно: как раздумаюсь – так с ердце и мрет… Чует оно, мое сердце: отнимут у меня его скоро – за грех мой тяжкий…
– Вот как? – оживилась бабка Марыля. – И какой же то грех?
– Не знаю… – повинился он тихо.
– Знаешь, – возразила старуха. – Только сказать не хочешь. Ну да мне-то можешь не говорить, лишь бы сам себе голову не туманил! Ну, вспоминай!
Он послушно уставился в одну точку и на какое-то время застыл, не шевелясь. Эти мгновения старуха с легкой насмешкой вглядывалась в его напряженное красивое лицо, и от ее зоркого глаза не укрылось, как почти незаметно и лишь на миг болезненно дрогнула крутая черная бровь длымчанина.
– Вот и я говорю: знаешь, – заметила она. – И всегда знал.
Да, бабка Марыля права: он знал. Тяжелым камнем лежало это на его сердце и совести; вот уж сколько лет не хотел он об этом думать, упрямо гнал прочь эти мысли. И все же – вот оно: молчаливые исполины-сосны, унесшие далеко ввысь раскидистые вершины, темная резная стена густого ольшаника, и он сам – длинный, голенастый, излишне любопытный подросток, опасливо глядящий сквозь черные ветви этого ольшаника на тихую пустынную поляну…
– Как же мне теперь быть? – спросил он у ведуньи с каким-то обреченным смирением.
Бабка Марыля снова взглянула на него зорко и прямо и ответила с несвойственной ей суровостью:
– А вот теперь, сокол мой, расскажи мне все: что с тобой сталось, чем ты нагрешил и чего теперь боишься. От меня таиться тебе не след, коли уж и так за советом ко мне пришел.
И он, цепенея от невольного страха, чувствуя, как стынут в горле слова и бегут по спине холодные струи, рассказал.
Ведунья слушала его внимательно, не перебивая ни единым словом, все больше мрачнея лицом.
– Ну что ж, – сказала она наконец. – Теперь, по крайности, все мне ясно. А я-то все в толк не возьму, с чего хвороба твоя никак не проходит. А стало быть, вон оно что!
– Да перун с нею, с той хворобой! – отмахнулся Янка. – Вы мне одно скажите, бабунь: Митраньку о н о не тронет?
– Не знаю, голубе, – честно ответила старуха. – И никто тебе того не скажет. А впрочем, погоди трошки.
Старуха засуетилась, зашарила у себя на полке, отыскивая среди своих бесчисленных снадобий нужное. В горнице еще сильнее запахло сушеными травами. Наконец бабка извлекла маленький мешочек, тряхнула его на вису.
– Папороть-семя, – пояснила она. – На Купалу собрано.
Ведунья бросила щепоть из мешочка в пламя зажженной лучины, отчего та на миг ярко вспыхнула; другую щепоть сыпанула в темную глиняную плошку, долила туда же воды почти до краев и дала Янке в руки.
– Ступай к лучине, – коротко приказала она. – И гляди в воду, в самое дно.
Он поднес плошку с водой к самому пламени. Вода в ней заходила красивыми и ровными огненными кругами.
– Что видишь? – спросила ведунья.
– Ничего не видать. Вода кругами идет.
– Тихо сиди. Не шевелись. Гляди, хлопче, гляди, покуда не увидишь…
Так прошло еще несколько минут. У Горюнца затекли руки, от неподвижности заныла спина.
– А теперь? – вновь вопросила старуха. – Теперь видишь?
От долгого пристального всматриванья у него начали болеть глаза, и перед ними все задрожало, раздваиваясь.
– Да… – ответил он не слишком уверенно. – Только вот разобрать не могу: не то тучи идут, не то вихри какие-то…
– Смотри, смотри, хлопче, недолго уже…
Смутное изображение стало яснее; светлые огненные круги отошли дальше к краям, а в середине он вдруг отчетливо разглядел круглый и темный неподвижный омут. И в самой глубине этого омута маячил какой-то огонь, но не тот золотистый и безобидно-радостный, как круги по краям плошки, а зловеще-багровый, несущий с собой беду. И он ощутил, как сердце ледяным комком застыло в его груди, поняв внезапно, что это – огонь свечи-громницы.
Плошка дрогнула у него в руках, вода плеснула через край; темные брызги запестрели на половицах.
– Н-нет! – выдохнул он, побелев от испуга.
– Нешто увидал? – откликнулась Марыля.
– Увидал, бабусь, да лучше бы мне того не видеть… Может, не сбудется, а?
– Ты же сам хотел знать, – ответила ведунья. – Думаешь, ты в воду смотрел? Ты в себя смотрел, в судьбу свою. А судьба – она, солдатик, такая: увидать ее можно, да только не всегда то увидишь, чего тебе хочется.
– И… ничего поделать нельзя?
– А что тут поделаешь? Судьба – она судьба и есть: что на роду написано, тому и быть.
Вот и вся тебе бабка Марыля! Да и чего от нее было ждать? Заладила, что твоя сорока: судьба да судьба!
Видно, только и осталось ему, что сразиться со злой судьбой в одиночку. Как бы там ни было – по доброй воле он не отдаст ей хлопца. Он примет бой. Пусть и немного сил у него осталось, а не уступит он черному злу, не склонится перед грозной недолей.
Однако черный ледяной ужас в его груди так и не растаял даже теперь, когда он сидел в своей мирной уютной хате, прикрыв глаза, а подле него притулилась тихая, задумчивая Леська. Он погладил ее по голове; клубящиеся упругие завитки защекотали его ладонь, но даже это его не успокоило. Он чувствовал рядом тепло ее плеч, слышал ровное дыхание и тихо радовался, что хотя бы ей не грозит беда. Она была так чиста и свежа, и ему отчего-то казалось, что она сколько угодно может сидеть возле него, отмеченного злым роком, и нисколько ей это не страшно, ибо хранит ее что-то незримое и могучее. Настоящей отрадой было бы для него отогреться возле этой девочки, но он знал, что не вправе расслабиться. Черное зло не дремлет!