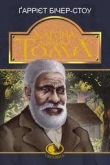Текст книги "Дядька (СИ)"
Автор книги: Мария Теплинская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Мария Теплинская
ДЯДЬКА
Глава первая
Торная извилистая дорога проходит через лес. С двух сторон наступает он на нее плотной непроницаемой стеной, готовый стиснуть, раздавить, сомкнуться. Но дорога спокойно и невозмутимо течет все дальше. Словно узкая серая река: ей все равно, где бежать – лесом, полем, лугом, лишь бы бежать, не останавливаться. Впереди дорога ныряет за поворот, лес точным полукругом повторяет это движение, и кажется, что впереди уже нет дороги – один густой, непроглядный лес, где на темно-плюшевом фоне еловых лап трогательно белеют кривые стволики худосочных березок.
Небогатая, скудная, родная до последней травинки земля, встречай же своего сына! Три долгих года он был оторван от тебя, три долгих года носил в сердце горькую память, не надеясь больше тебя увидеть. Долгие недели и месяцы шел он к тебе через грязь и распутицу, под дождем и холодным ветром, чтобы теперь навсегда пустить корни на родной стороне.
– Дядь Вань, долго еще идти? – тронул его за рукав идущий рядом мальчик.
– Да мы уже почти дошли, Митрасю, – ответил Горюнец. – Вот свернем зараз, пройдем еще трошки, там будет посреди леса большая такая поляна, и вот на той поляне как раз наша Длымь и стоит.
Какое-то время они шли молча. Митрась немного волновался: как-то его примут на новом месте? И он невольно крепче стиснул твердую дядькину руку. Дядька улыбнулся, слегка шевельнул пальцами, пощекотав Митранькину ладошку.
– Ничего, хлопчику, не робей! Народ у нас добрый, не обидят. И мамка обрадуется: сколько она, бывало, плакалась, что я у нее один…
Последние слова он произнес как-то неуверенно, словно и его вина была в том, что его младшие братья и сестры не заживались на свете.
– Мы с тобой вот что сделаем, – предложил Горюнец, когда они уже подходили к деревне. – Подойдем тихонечко к хате. В калитку стукнем, а сами пригнемся, чтобы нас через тын не видно было. Она выйдет, поглядит – нет никого. А мы еще постучим. Мамка от радости упадет, как нас с тобой увидит!
– Боюсь, не выйдет это у нас с тобой, дядь Вань! – усомнился Митрась. – Вон ведь она, в огороде!
Действительно, за низким тыном самой ближней к лесу хаты маячила какая-то белая женская фигура.
– М-да-а! – озадачился было Горюнец, а потом вдруг встревожился:
– Постой-постой, да это, кажись, и не она!
Странная и жуткая догадка закралась в душу солдата, внезапно смутила всю его радость от возвращения домой – что-то бесформенное, неуловимое, но явно отдающее какой-то бедой.
Подойдя ближе, он увидел, что не ошибся. Нагнувшись над огуречной грядкой, вполоборота к нему стоит девочка-подросток. На голове у нее белый платок, который издали легко можно было принять за намитку. Распашная панева сброшена, длинная темная коса тяжело свесилась с плеча. Внизу коса расплелась, и красноватое закатное солнце насквозь просвечивает пушистые каштановые пряди, отчего они, вспыхивая, горят в солнечных лучах жаркой медью. Икры у нее загорелые, крепкие, худые, как у цыпленка; край чуть приподнятой, высоко подпоясанной сорочки приоткрывает еще по-детски угловатое колено. Она ловко орудует мотыгой, выворачивая с корнем сорную траву. Платок немного сбился, из-под него виден кусочек загорелой щеки и завиток пушистых волос.
– Бог в помощь, девонька! – громко, но спокойно приветствовал ее Горюнец.
Девчонка вздрогнула от неожиданности и обернулась, приглядываясь: где-то она уже видела этого длинного, худого, как весло, человека. Соломенный брыль надвинут низко, трудно разглядеть под широкой тенью его лицо, и все же знакома, очень хорошо знакома ей эта приветливая, ласковая улыбка под темными усами.
И вдруг, узнав, отшвырнула мотыгу и с радостным криком бросилась навстречу:
– Ясю! Ясеньку! Родненький ты мой!
Она все никак не могла успокоиться и долгое еще повторяла:
– Вернулся, голубчик ты мой! Я всегда знала, что ты вернешься, это другие не верили…
В мгновение ока Леська перепрыгнула через низкий перелаз и вытянулась перед ним во всей своей красе: худая, вся из острых углов и ребер. Длинные худые ноги почти до щиколоток припорошены серой огородной землей, чего она отчего-то вдруг застеснялась. Лицо покрыто густым деревенским загаром, носик немного облупился. И – как будто с чужого лица – красивыми тонкими линиями черные брови вразлет, и под ними – редкой красоты глаза: большие, темно-карие, подернутые поволокой, словно у лани.
Где же теперь та, прежняя Лесечка, та крохотная девчушечка на крепких ножках, с тугими щечками, с круглыми, как обливные прянички, глазками – такая, какой она была в те далекие времена, когда он впервые ее увидел? А какие мягонькие, тепленькие, были у нее тогда ручонки, которыми она, бывало, хваталась за его шею! Плохо только, если слишком сильно сжимала, но тогда он лишь коротко предупреждал: «Лесю, больно!» – и маленькие ручки тут же разнимались.
А теперь – вон какая вытянулась! И руки какие стали – худые, темные от загара, с выступающими острыми косточками запястий. И взгляд сделался непривычно глуховатым, замкнутым. У девочки теперь своя жизнь, свои думы. Хотя чего уж тут горевать: ведь она давно уже выросла!
– Лесю, – решился он наконец, – а мамка дома?
Она низко опустила голову, устремив взгляд на свои босые грязные ноги, и глухо проронила:
– Нету мамки.
В воздухе повисла звенящая тишина. Леська не глядела на него, но при этом явственно, почти физически ощущала, что он ждет. Наконец она решилась, подняла на него глаза, однако, не выдержав его взгляда, снова уставилась в землю.
– Не дождалась она тебя, Ясю, – прозвучал ее голос. – Девять дней вчера было.
Она по-прежнему на него не смотрела, но ей вдруг показалось, что он словно бы окаменел. Все в нем стало каким-то неживым, и даже его рука на ее плече вдруг показалась мертвой и неподвижной, как будто на плече у нее лежал булыжник. Потом рука медленно и тяжело соскользнула вниз.
Медленно и словно заторможенно он стянул с себя брыль, обнажая голову; затем подал знак своему спутнику, чтобы и он сделал то же.
И Леська только теперь увидела стоявшего поодаль мальчика с уныло опущенной головой. Слипшиеся черные космы торчали в разные стороны, словно перья у растрепанного галчонка, спускались к серой от грязи шее. Снятый с головы брыль – такой же, как у дядьки, разве что чуть поменьше – он рассеянно вертел в руках, держа за широкие поля.
Леська нерешительно погладила его по этим растрепанным вихрам, но мальчишка сердито дернулся – не привык к ласке.
На дворе вздрогнул, с трудом поднял вислоухую голову и вдруг залился хриплым радостным лаем старый пес Гайдук, уже который день лежавший не вставая. Янка присел возле него на корточки, потрепал рукой. В бурой собачьей шерсти еще гуще, чем прежде пробилась седина, глаза уже почти ничего не видели, однако старый пес отчаянно силился подняться и все лизал теплым шершавым языком Янкину руку, а тот, а тот, поглаживая старого друга, растроганно приговаривал:
– Ах, Гайдук, дружище! Надо же, дождался меня, дождался… Я и не чаял, не верил, что дождешься…
И снова тяжкое горе встало перед ним: вот ведь и Гайдук дождался, а матери уже нет…
А в хате было безмолвно, чисто, как будто бы и ухожено, и все-таки отчетливо сквозила какая-то стылая пустота; было ясно, что в доме уже никто не живет.
Ничего, казалось, не изменилось с тех пор, как три года тому назад уходил он из родного дома, прощаясь с ним навсегда, не веря, что когда-нибудь сможет вернуться. Все было по-прежнему: и белые завески на окнах, и пестрые цветные половики, и клетчатое покрывало грубой шерсти на старой широкой кровати с горой подушек в суровых полотняных наволочках – и все же ощущалось присутствие чего-то нового, нарушившего привычную гармонию. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что это была маленькая серая кошка, что свернулась на потемневшей от старости, еще бабкиной, укладке. Кошечка приподняла изящную головку и слабо, жалобно мяукнула. Янка вдруг почувствовал, как к горлу его подступил комок, а перед глазами все расплылось и задрожало.
– Это Мурка, – послышался у него за спиной Леськин голос.
Он обернулся и увидел ее в дверях. Она стояла в дверном проеме темным силуэтом, окруженная плавающим радужным ореолом. Она уже успела одеться, и темная панева тяжелыми складками свисала ниже колен; тонкие смуглые пальцы все еще затягивали гашник.
– Мурыся, Мурысенька! – позвала она кошку.
Однако Мурке явно не хотелось покидать обжитое местечко, и тогда Леська пробежала через всю горницу, стащила кошку с укладки и, прижимая ее к себе, уселась на лавку. Но Мурка почти тотчас же мягким и ленивым прыжком соскользнула с ее колен и, пристроившись на полу возле ее ног, принялась невозмутимо вылизываться.
– Она хранила ваш дом, – кивнула Леська на кошку. – Все девять дней, что…
Голос у нее внезапно задрожал, подобно струне, готовой вот-вот лопнуть, и она не смогла договорить. Резким поворотом она отвернулась к окну, тяжело плеснув длинной темной косой, однако Янка успел заметить, что веки у нее припухли, а ресницы слиплись тонкими черными лучиками. Он понимающе обнял ее и привлек к себе, как делал, бывало, в далеком детстве, утешая в каких-то пустяковых ребячьих бедах. Она послушно припала к его плечу, крепче обхватила за теплый бок и горько, с отчаянием разрыдалась.
Ему осталось лишь беспомощно гладить ее по голове.
– Лесю, голубка, ну успокойся! Ну что ж теперь поделаешь, на все воля Божья… Ну не надо плакать, ей тяжко от слез…
И тут у него перед глазами снова все поплыло, и он сам ничего уже не видел сквозь горькие, до сих пор сдерживаемые слезы.
Спустя менее получаса Янка стоял на крыльце и с силой плескал себе в лицо студеной водой; Леська, стоя рядом, сливала ему на руки воду из ковша. Сама она уже умылась, и свежие чистые капли еще дрожали на ее черных ресницах. Она уже не плакала, хотя маленькая грудь по временам все еще нервно вздрагивала, да голос порой прерывался.
– Последние дни она совсем уже не вставала, – рассказывала девочка. – Высохла вся, почернела, лежит пластом, словно тень, порой часами не ворохнется. А голос-то какой стал слабенький! Я в той же горнице стою, в другом только углу – и то едва слышу. Прежде она хоть с костылем, едва-едва, но все же ходила, а потом уже и на это сил у ней не осталось. Я забегала к ней, пособляла, конечно, чем могла, да ведь вот в чем беда: не могла ведь я долго у ней засиживаться, дома ведь тоже дела сколько…
Он лишь кивнул в ответ. И в самом деле: в чем ей оправдываться? Чем она, такая пигалица, могла помочь его несчастной матери, если ни один знахарь оказался не в силах одолеть злую судьбу, излечить надсаду?
– И так-то, – продолжала она, – Савка все бухтел на меня, хотя порой и сам к ней захаживал. Кстати, это он тын ваш подправил, ты видел? А то уж совсем было повалился…
Они снова прошли в хату. Леська вновь примостилась на лавке, он присел рядом; подался вперед, опершись локтями о колени, лег подбородком на сжатые кулаки. Леська с какой-то щемящей нежностью смотрела на его темную от загара крепкую шею, на светло-русые завитки волос, такие по-детски трогательные. За три года волос у него улегся, перестал пушиться и из прежнего, чуть золотистого сделался совсем в тон степного ковыля, что стоит у нее дома на полке в маленьком глиняном кувшинчике – разве что чуть потемнее, чем тот ковыль. Она протянула руку, погладила его по голове; волосы приятно скользнули под рукой.
– Ясику, ты же был совсем белый, ровно одуванчик! – удивилась она. – Теперь какой-то темный…
– Да ну, – отмахнулся Ясь. – Никогда я не был «ровно одуванчик»! Ты просто не помнишь.
Они и сами не заметили, как разговор снова вернулся к прежней тяжелой и скорбной теме.
– Дня, Ясю, не проходило, чтобы не помянула она тебя. Да все судьбу свою проклинала: «Вон, мол, у соседей – трое, что бугаи, здоровые! За что же моему-то, единственному, злой жребий выпал?» А по весне видение ей было, уж какое – не знаю, она не рассказывала, да только пришла я к ней на другой день, а она и говорит: «А ты знаешь, Лесю, Ясик наш скоро воротится!» я так и села! «Когда?» – спрашиваю. А тетка Агриппина мне: «Да вот этим летом, верно, придет. Ох, дождаться бы!» И с тех пор так и ждала тебя со дня на день, да все повторяла: «Скоро придет, скоро придет…» Соседи все жалели ее, а промеж собой посмеивались: совсем, мол, с горя баба сказилась! А я с чего-то поверила… С тех пор, поди каждый день бегала на шлях, глядела тебя, выкликала…
А однажды засиделась я у ней допоздна – ей тогда уж совсем худо было. А она мне все говорила: «Шла бы ты, Лесечку, до дому, тебя уж, верно, ждут давно…» А я часто допоздна у ней засиживалась, а бывало, что и ночевать оставалась. Вот так я у ней сидела все да сидела, покуда дед за мной не пришел; тогда уж на дворе совсем темно стало. Всю ночь я потом ворошилась, все уснуть не могла, страшно мне было чего-то, тяжко… А поутру вскочила ни свет ни заря, паневу только накинула, даже кос не заплела – и бегом к ней! А Гайдук ваш воет, да так что душа стынет… Подбежала я, дверь распахнула, а она…
У девочки снова перехватило дыхание: не смогла она произнести страшного слова.
– Остыла уже совсем, – всхлипнула она наконец. – стрункой вся вытянулась, и очи уж закрыты, и руки… руки на груди крестом сложены…
Он долго и тягостно молчал, потом поднял голову и негромко попросил:
– Про Кулину мне расскажи. С Кулиной что теперь?
– Кулина замуж вышла, – бумажным голосом ответила девочка. – На тот хутор, за Миколу-шляхтича.
Янка даже не дрогнул в ответ: он, в общем, и ждал чего-то в этом роде. Он даже удивился про себя, когда понял, что не слишком огорчен: за три года разлуки Кулина утратила для него свою реальность, стала чем-то неопределенным, отвлеченным, словно лики святых на иконах. И уж в сравнении с тем горем, что так внезапно на него обрушилось, все остальное мельчало, делалось малозаметным и будничным.
– Давно уже вышла – года два тому, – продолжала Леська. – Тетка Агриппина не была на той свадьбе. И я тоже не пошла.
– Никто там тебя и не ждал! – рявкнул кто-то с порога. – А то ты нужна была там кому, пигалица этакая! Янка, здорово!
В хату шагнул загорелый курносый парень, кряжистый и рослый, к тому же весьма сердитый на вид. На широком, темном от загара лице кустились бесформенные желтые брови, а на лоб спадала растрепанная пегая чуприна, выгоревшая на солнце.
– Беда мне с Аленкой, – буркнул вошедший. – В хате дела сколько: и пол неметен, и миски вон не помыты, а она тут сидит, ки-и-исю гладит!
Леська в эту минуту и в самом деле поглаживала за ушами присевшую возле ее ног Мурку, а та благосклонно урчала, лениво поводя твердыми треугольными ушками.
– Вот делать ей больше нечего, как чужих кошек гладить да на чужом огороде горбатиться! – продолжал бушевать вошедший.
Янка тут же и узнал его: ну конечно же, Савка, Леськин дядя, что, помнится, всей душой невзлюбил его неведомо за какую вину. Да и без того Савка всегда был тот еще орешек: хоть он и не имел злой души, однако с детства отличался норовом упрямым и властным, так что ладить с ним порой было нелегко.
– Вот разумеешь ли ты, – объяснял Савка уже спокойнее, – тетка Агриппина скотину вашу дядьке Рыгору передала, а на эту козу дом свой оставила, покуда ты не воротишься. А ты, глянь-ка, и впрямь воротился – не чаяли, не гадали…
– Неправда, я всегда знала, что он вернется! – перебила Леська.
– Ну, о тебе и речи не было; ты у нас девка шалая, чего не выдумаешь! Я про других, про умных людей говорю. А дядька-то Рыгор тоже с матерью твоей все нянчился, до последних самых ее денечков. Да себя все казнил: «Моя вина, не углядел!» и упреждал-то он все ее: ты, мол, Граня, за соху не берись, я сам вспашу тебе полосу. Да только все никак собраться не мог: своя ведь земля непахана стояла. Вот она и не утерпела: весну упустить боялась. Так вот и сгубила себя!
А полосу он потом все же вспахал. И ты знаешь: может, он, Рыгор-то, и раньше бы поспел, да вот женка его заела, что из-за чужой, мол, бабы свое хозяйство вконец забросил. Ненавидела она ведь мамку твою, как одно только бабье племя и может.
– Да я помню! – вздохнул Янка. – Уж такая злодейка-баба, слов нет!
– Вот и я про то же. Когда вот только скотину свою да птицу мамка твоя им оставила – тут вроде малость притихла. А теперь, гляди, опять взбеленится: мы, мол, за той скотиной ходили, пасли ее, а теперь назад отдавай! А уж дядька Рыгор, поди, до гробовой доски себе того не простит.
– Да что ты на дядьку Рыгора все валишь? – снова вступила Леська. – Сам-то ты где тогда был? Тоже, помнится, на чужую пашню не больно торопился!
– Ну, помалкивай! – властно оборвал ее Савка. – Самим нам тоже есть что-то надо, да и ты, поди, не воздухом живешь! А то как лопать да рассуждать, так все вы горазды, а работник – я один! Это тебе у нас делать нечего, так и проторчала всю весну на чужом огороде!
– У меня и свой не заброшен, – ответила Леська. – Я за эту весну два огорода вскопала.
– Вот я и говорю: делать тебе нечего! – сердито бросил Савка.
– Постой-ка, Лесю, – вдруг встрепенулся Горюнец. – Ты мне скажи: Панька-то как? Не обижает больше тебя?
– Глаза бы мои его не видели! – безнадежно вздохнула девочка.
– Так ты его и не видала уж который день! – фыркнул Савка. – Да он тебя и обидеть, поди, не успеет: ты же у нас, едва того Паньку завидишь, тут же в кусты сигаешь! Боится она его, Янка, хуже, чем своего Киселя!
Янка невольно улыбнулся от этих слов, а девчонка смутилась: ох уж этот Савка! Только и знает, что Киселем ее дразнить, да еще при народе! Мало ли кто чего в детстве боялся – так что же, все поминать?
– А что на селе у нас новенького? – спросил Горюнец у Савки.
– Да что там! – отмахнулся тот. – Кой-кто из хлопцев у нас оженился, да дед Василь помер, – после этих слов Савка мрачно вздохнул. – Гайдукам панским в лесу попался, засекли они его нагайками до смерти. Все село тогда роптало, да только что могли поделать? У н и х же – сила! А мы кто? Мы – изгои, одна только слава, что вольные. Нет над нами заступы, окромя разве что идола того лесного, да и тот уж который век молчит, ни слуху от него, ни духу! Да еще поди разберись: то ли есть он, то ли вовсе его не бывало!
Но тут, случайно глянув Янке в глаза, Савка невольно оробел: таким непроницаемо суровым, почти враждебным, и в то же время странно встревоженным стало его лицо.
– Не говори так, Савел, – произнес он тихо и строго. – Ты же знаешь: есть он. Нельзя худо о нем говорить.
Савка, ожидавший, видно, чего-то похуже, снова приободрился:
– Ишь ты! А ты почем знаешь, что есть? Ты видал его, что ли, да?
Горюнец не сразу ответил, и на сей раз почти ничего не изменилось в его лице: лишь слегка дрогнули черные брови да веки едва уловимо изменили положение. Однако взгляд его стал немного иным: то ли яснее, то ли, напротив, загадочнее, и Савка вдруг смутно заподозрил, что он знает об этом таинственном и грозном лесном идоле много больше, чем пожелал сказать.
– Жаль деда Василя, – снова вздохнула Леська. – Хороший был старик, светлая ему память!
– Да, – проронил Горюнец, отрешенно и мрачно глядя в пространство. – Вот она – недоля злая…
И тут Савка, чувствуя себя не в своей тарелке от Янкиных суровых слов и тяжелых взглядов, решил сорвать зло на Леське.
– А ну ступай до дому, непутная! – рявкнул он на девчонку. – Хватит, насиделась в гостях!
– По какому праву ты меня гонишь? – возмутилась в ответ девчонка. – Не твоя здесь хата, и воля здесь не твоя! Я с Ясем хочу побыть, сколько годов мы не виделись, дождалась наконец-то! Он меня из хаты не гонит, и тебе не след…
– А вот я как вожжу достану – узнаешь тогда, по какому праву да чья здесь воля! – прикрикнул Савел. – А ну живо до дому, чтобы и духу твоего тут не было, чуешь?
– Ты, Лесю, и в самом деле ступай покуда домой, – мягко посоветовал Ясь. – А вот завтра к вечеру приходи. Да скажи всем, кому след, чтобы тоже приходили ко мне – Василю моему, дядьке Рыгору, Луцукам-братишкам… Да, и Хведьку тоже не позабудь!
Хведька Горбыль был на год старше Леськи – Горюнец оставил его хлопчиком-подлетком лет одиннадцати. В своей семье Хведька был самым младшим, что уже само по себе его глубоко удручало, да к тому же и ростом не вышел. Из-за мелкого своего росточка, да еще из-за крапи ярких веснушек на носу, на щеках и даже на губах он казался еще моложе своих лет, и все его потуги выглядеть солиднее и значительнее лишь смешили односельчан. Силенок у него было еще маловато, ни до какой тяжелой мужской работы его, конечно, не допускали, да и нужды в том особой не было: у Хведьки было два уже почти взрослых брата, да и отец был еще в полной силе. Хведька поэтому очень переживал, что все считают его маленьким, несмышленым, едва ли не бесштанником. Поэтому он напускал на себя большую важность, примачивал водой торчащие белобрысые вихры и пытался водиться с хлопцами старше себя. Хлопцам он, однако, был нужен, как редьке второй хвост, они только смеялись над ним и почти всегда прогоняли. Если Хведька приходил на посиделки или появлялся под старой раскидистой липой на краю села, где хлопцы обычно собирались летними вечерами, его дружно осыпали насмешками:
– Ты, братка, пошел бы сперва умылся, а то у тебя молоко материно по губе течет!
Или:
– Ой, Хведю, да у тебя штаны совсем продрались, весь зад светится, поди зашей сперва!
Разумеется, не все шутили так добродушно; были и такие, кто откровенно гнал его прочь:
– Пошел, пошел отсель, покуда по шее не надавали!
Янка тогда над ним тоже немного посмеивался, но больше жалел. Поэтому Хведька, если его сразу не прогоняли, садился всегда рядом с ним или с Васей Кочетом, неотлучным Янкиным другом, тоже очень спокойным и ласковым. Оба они, кстати, всегда защищали мальчонку, когда остальные нападали на него всем гуртом.
Кто-то из этих «остальных», то ли Савка, то ли Рынька Луцук, прицепили ему кличку-погоняло Ножки-на-вису, которую вскоре подхватили и другие. Прозвали так бедного Хведьку за то, что он любил сидеть на каком-нибудь возвышении, хотя бы на развилке той же милой их сердцу липы. Видимо, тогда он казался себе выше ростом, чем был на деле. Во всяком случае, голова его и вправду гордо возвышалась над остальными, зато ноги беспомощно болтались, не доставая до земли.
Как-то он теперь, этот маленький забавный Хведька? Должно быть, совсем вырос, не узнать…
– Так ты позови его, Лесю, добре? – напомнил Горюнец.
– Добре, Ясю, позову и Хведьку! – откликнулась она. – Всех позову, кого захочешь!
Помахав ему рукой, она птичкой выпорхнула из хаты, взметнув на прощание тяжелым темным подолом.
– Тебя с единого слова послушала, – с обидой бросил Савел. – А я с ней бьюсь, бьюсь, и хоть бы толку…
– Вот и приглядись, как с нею нужно, – усмехнулся Янка.
– Ну, ясное дело, ты ее все по головке гладишь, а с ней нельзя так, живо слабину почует да на голову тебе и сядет.
– Мне до сих пор не села, – покачал головой Ясь. – Да и ты, Савка, шел бы тоже домой. А то мне еще нынче баню топить, Митраньку моего отскребать! Митрасю, где ты там? – только теперь спохватился Горюнец.
А Митрась, пользуясь тем, что про него все забыли, занял недавнее Муркино место; мальчишка крепко спал на жесткой крышке сундука, подтянув под себя ноги и даже не сняв пропыленных лаптей.