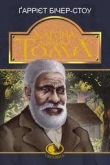Текст книги "Дядька (СИ)"
Автор книги: Мария Теплинская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Да, такова была горькая действительность. Семь человек из тысячи вытягивали черный жребий солдатской службы. Только семь… Но для этих семи, нередко совсем юных, неоперенных еще парнишек, жизнь была уже кончена – впереди ожидал один лишь кромешный ад. Каждый знал, что по прошествии двадцати пяти лет, когда сможет он, наконец, от этого ада освободиться, для него это уже не будет иметь значения. Многие и не доживали до этого срока; даже если и не гибли в сражениях – умирали от жестоких побоев (чего стоила одна «зеленая улица», когда от человека, получившего тысячу ударов палками, оставалось кровавое месиво), от почти несъедобной пищи, чуть ли не отравы – беззащитных солдат нередко обворовывали без всякого зазрения совести, ибо это сто лет в обед было в порядке вещей; заживо гнили в затхлых сырых казармах.
А иные – бесполезные калеки, тяжело раненные, безнадежно больные, обреченные в любом случае медленно умирать, – словом, все те, из которых вытянули уже все силы и было ясно, что ни на что больше они не сгодятся, – получали так называемый «бессрочный отпуск», а попросту говоря, оказывались выброшены вон, как никому не нужный хлам. Да и те могли еще почитать себя счастливыми, что хоть живыми на волю вырвались! А уж какой ценой пришлось заплатить за ту волю, которая природой-матерью даром дана была – кого это заботило?
Глава третья
Недалеко от кладбищенской ограды, в тени старой, кряжистой вишни схоронили Агриппину Горюнцову, и в ногах поставили простой деревянный крест с косой перекладиной внизу. Немного времени прошло с тех пор, могила еще не поросла травой, а у зеленых вишен на дереве лишь чуть порозовели бока.
Горюнец приходил на эту могилу; иногда с Митрасем, но чаще один: кладбищенская тишина пугала и отвращала мальчика, Горюнец это чувствовал. Да что с него спрашивать: он ведь не знал этой женщины, и имя ее было для него пустым звуком.
Не раз Янка находил на могиле полуувядшие полевые цветы: то вьюнки, то ромашки, то малиновую лесную герань. Наверняка их приносили девчонки, скорее всего, Леська. А однажды встретил он на могиле и ее самое: сидела на холмике, поджав по-детски худые темные ноги, слезы подолом утирала. Ясь тогда, присев рядом, обнял ее за плечи, по голове погладил.
– Что ж теперь поделать, Лесю! Жить-то надо… Не плачь, не тревожь душу ее понапрасну…
Невыносимо тяжкое горе понемногу притуплялось, рассеивалось в будничной суете. Да и горевать уже было некогда: наступала страдная пора.
Промелькнул одной короткой ночью, отзвенел песнями, отшептал наговорами Купала. Весь вечер ходили в лугах над рекой девчата с купальскими факелами, рдеющими, будто цвет папоротника. В белых сорочках, богато расшитых по рукавам и подолу, опоясанные заговоренными дзягами – цветными длинными кушаками с наложенными на них тайными чарами, обережными или приворотными, носили они высоко эти факелы, обходили поля и деревню. От факелов тех зажигались потом высокие костры, в один из которых бросали Марену – наряженное в негодную ветошь соломенное чучело, от них же хлопцы запаливали и скатывали с обрыва в реку старое колесо – и катилось оно, что солнце ясное, а за ним след тянулся огненный. А потом затевали через костры прыгать, чтобы сгорела в огне вся худоба, чтобы выйти из него чистыми и свободными. А потом по лесу бродили в поисках цвет-папоротника и неведомых кладов, звонко окликая друг друга. И в песнях, играх, хороводах не умолкая звенело это звонкое имя: Купало! Купало!
И едва ли знал кто-нибудь, что окликали тем именем древнего бога, давно забытого, но отнюдь не утратившего былого могущества. Грозен и великодушен древний Купала, своенравен и щедр. Вечно молод и полон огненной силы бог Купала, охранитель хлебов, покровитель влюбленных. И давно уж никто не вспоминает, пришивая к своим дзягам пушистые шарики из лебяжьего пуха, что лебедь – птица Купалы, что опоясывая затем себя тем поясом, отдаешься ты под защиту бога. Да, хоть и позабыли люди Купалу, да он их не забыл…
Но ушел Купала, начинался покос. Трава созрела, стояла густая, сочная, но так уж было заведено: до купальских игрищ не косить.
Янка достал свою косу, ту самую, с которой в юности выходил на луга. Как сверкала она на солнце, слепя золотым огнем, с каким лихим свистом рассекала воздух!.. Теперь коса потемнела, посинела, будто от печали… Cлезы навернулись на его глаза, немые горькие слезы о бесталанной своей доле…
Митрась через двор нес ведра на коромысле, оставалась за ним в пыли дорожка темных круглых следов от упавших капель. Глянул, вздохнул и тихонько пошел дальше. Он знал: в такие минуты дядьку лучше не тревожить.
Как-то вечером, развязавшись с домашними хлопотами, собрался Горюнец навестить на соседнем хуторе Кулину, прежнюю свою каханку. Он не осуждал ее: и сам ведь не чаял, не гадал так скоро домой воротиться; не оставаться же ей было вековухой, ожидаючи невозвратного… И все же обидно ему, что так скоро утешилась, позабыла…
Одному неловко было идти, взял и Митраньку с собой. С мальчишкой ему уверенней: когда идет он рядом, колени у дядьки не так подкашиваются, ровнее бьется в груди беспокойное сердце.
– Дядь Вань, – спрашивает он, – а куда мы идем?
– Молодицу одну навестим с тобой, – сдержанно поясняет дядька. – Прежде была девчина, а теперь уж молодицей стала.
И такая безысходная горечь почудилась в этих словах, такая тоска необъятная…
– Ты любил ее, дядь Вань? Да? – последнее слово Митрась произнес почти с надрывом, устремив на дядьку широко раскрытые глаза, полные наивного детского сострадания.
Тот не ответил. Митрась увидел, как поспешно отвернулся дядька, чтобы не заметил Митрась его глаз, на которые набежали скупые слезы; еще увидел, как дядька утайкой отер их рукавом.
Чтобы как-то сгладить свою неловкость, Митрась решил спросить о другом:
– Дядь Вань, а где тот кучерявый живет?
– Какой кучерявый, Митрасю? – не понял сперва Горюнец. – А, ты, наверное, про Паньку спрашиваешь? В Голодай-Слезах он живет.
– А Голодай-Слезы – это где?
– А это, Митрасю, деревня панская, к югу от нас подале. Он и сам-то панский, из имения, а мы вольные.
– А у нас он что делал?
– А ты его поди спроси, чего он до нас повадился! Взбредет ему в голову – так прибежит, а нет – так и сидит у себя в Голодай-Слезах, али еще где бегает. Порченый он хлопец: часто горелку пьет, работать не хочет. Сперва-то его в пастухи определили – да где там! В первый же день две коровы да телок у него отбились, в лесу заплутали – едва потом нашли! Да что с него возьмешь: на панском дворе рос, да и с головой у него, видать, что-то не то…У нас его Панька-шатун зовут. А еще – олух Божий Афанасий.
Кулина вышла замуж за молодого шляхтича, но жил тот шляхтич не в застянке, как все прочие, а на одиноком хуторе, да и шляхтичем он был, надо сказать, лишь наполовину, и кровь у него была не голубая, а дай-то Бог лиловая. Мать у него длымчанка была; и вот за то самое, что на длымчанке женился, изгнала родня отца его с молодой женой на все четыре стороны. Тогда вот и построила молодая семья этот хуторок и на нем обосновалась. Здесь и родился Микола. Отцовская родня, бабки да тетки, за своего его не считали и знать не желали, но материнская ветвь не оборвала связи со своим кровным. Так что длымчане Миколку хорошо знали, да и сам Янка ходил у него когда-то в приятелях – Микола был годом постарше. Характер у Миколы уже тогда был крутой и властный, и теперь Горюнец, прежний воздыхатель его молодой жены, опасался худого приема.
На робкий стук выбежала из хаты сероглазая молодая женщина. Казалась она с виду мягкой, но как будто давно чем-то обеспокоенной, даже боязливой; не очень-то сладка, видно, у ней жизнь за таким хозяином. Постояла немного в растерянности, пристально глядя в лицо нежданному гостю, с кротким недоумением и даже будто с недоверием изучая давно позабытые черты; потом вдруг медленно, с тоской подалась вперед, обняла за плечи теплыми руками, припала к груди, проронив лишь одно:
– Боже ты мой!
И тут же разжала руки, отстранилась.
Не было в ней особой радости, и взгляд остался таким же оцепенелым, замороженным, с примесью какого-то суеверного испуга; так же точно глядела бы она на внезапно ожившего покойника.
– Это… и впрямь ты? – ахнула она, обращаясь будто не к нему, а к себе самой. – Воротился-таки, правду люди сказывали…
– Да, то я, Кулина, – отозвался он так же невесело. – Живой, не покойник. Хозяин твой дома?
– Нет, одна я. Дите у меня в хате уснуло.
– Вот уж и дите у тебя… – вздохнул Горюнец. – Давно родилось-то?
– Третий месяц пошел, – откликнулась женщина.
– Хлопец?
– Ага… Яська.
– Как и я… – раздумчиво протянул он, глядя куда-то поверх ее головы.
– Да, Ясю. Тяжко мне было забыть тебя! Знала бы, что вернешься – дождалась бы, конечно… Да только проводили тебя, словно в могилу закопали, оттуда ведь не вертаются… А мне, как и всякой девчине, замуж надо было идти; Микола-то – мужик хороший, работящий, да и не пьет почти.
– Разве норовом крут? – усмехнулся Горюнец.
– Есть тот грех; да кто из нас без греха? А это что с тобой за хлопчик?
– Это Митрась, – представил его Горюнец, обнимая за плечи.
– Да кто он тебе? Не было ведь у нас на селе такого.
– А он и не из наших мест, я в Смоленске его повстречал. Племянник он теперь мой названый.
– То-то я гляжу: на родню-то вроде и не похож: ты беленький, а он, вишь, чернявый. Славный какой хлопчик-то!
Кулина вздрогнула, когда когда Митрась резко дернулся, едва она протянула руку, чтобы погладить его по голове.
– Диковат еще, – снисходительно засмеялся Горюнец, привлекая его к себе; Кулина ревниво поразилась, увидев, как доверчиво и послушно прильнул к нему мальчик. – Он чужих боится. Били его много…
– Как же ты теперь живешь-то, Янку? – спросила тихо молодица.
– Да вот, живу потихонечку… Ты, Кулинка, не жалей меня, я на судьбу не сетую. Домой пришел, на родную сторону. И Митранька со мной; уж скоро вырастет, подмога мне будет. Правда, Митрасю?
…Нет, и в самом деле не жаль ему ничего больше. Что о былом горевать! Смотрит он на нее сейчас: и та, и не та Кулина. Нет, не годы минувшие и не замужний убор так ее изменили. Просто Янка за эти годы стал иным. Теперь без грусти он понял, что в общем-то и не была никогда Кулина такой, какую он с давящей тоской вспоминал; такою сделало ее лишь пылкое воображение юноши.
И все же зашел Горюнец на прощание в хату; наклонился над зыбкой, где тихо и ровно дышал спящий младенец. Осторожно провел ладонью по мягонькой детской щечке – и надолго запомнила его огрубевшая от работы рука тонкий бархат младенческой кожицы.
Когда возвращались они домой, солнце уже почти село, только небо на горизонте было еще окрашено розовым. На завалинка и у калиток мирно беседовали старушки, женщины, курили трубки деды. Над селом плыл тихий, ясный летний вечер.
На одной из скамеек, поставленных возле калиток, чтобы сидеть на них вечерами, провожать закаты, Горюнец увидел Васю Кочета, собравшего вокруг себя кучу ребятишек. Они расположились кружком: кто возле него на скамейке, а иные, кому не хватило места – перед ним на корточках, а то и просто на землю уселись. Василек вполголоса рассказывал им какую-то сказку, и Янка с тоскливой болью вспомнил собственные отроческие годы, когда и сам он так же собирал вкруг себя детвору.
Среди русых и светлых головок, окруживших Васю, он тут же приметил длинную темную косу, соскользнувшую с острого плечика. Леська блестящими глазами уставилась на Василя, боясь упустить хоть слово. Сидевшая с нею рядом Виринка что-то чертила прутиком по земле и слушала не слишком внимательно.
– …и тогда порешили расколоть его на тыщу кусков и пометать в Буг, – расслышал Горюнец Васин голос.
Он пристроился рядом с Леськой, слегка толкнул ее плечом. Та повернула голову, небрежно кивнула.
– О чем это он рассказывает? – шепотом спросил Янка.
– Про Дегтярной камень. Тс-с-с!
– …И вот один замахнулся на него молотом, – продолжал, не замечая подошедшего друга, Василь. – Как ударил, а молот-то отскочил, да мужику-то прямо и в лоб! Убил напрочь. А на камне том даже зарубки не осталося… Тогда решили так его в Буг стащить. Дюжина толкала – не качнулся даже. Потом у них у всех руки отсохли…А наутро пришли на то место люди, а камня как не бывало! Даже трава не примята, где он лежал. Никто его больше с тех пор не видел. Да ходят слухи: лежит где-то в наших краях колдовской тот камень, совсем близко от нашего села…
– Ой! А он порчу на нас не нашлет? – испугалась маленькая Зося, девочка лет семи с белесыми мягкими косичками.
За Васю ответил Янка:
– Ну зачем же ему порчу на нас насылать? За что? Мы живем себе тихо, никому не мешаем, никого не обижаем. И он нас не тронет, не надо только его сердить.
– А как его не сердить? – спросила Зося.
– Меньше о нем болтать, вот как! Он этого не любит. А ты, Василю, поди-ка сюда – поговорить нам надо!
Оробевший Вася, хлопая глазами и не вполне понимая, в чем же он провинился, поплелся в сторонку следом за другом. Янка огляделся по сторонам, уверяясь, что никто их не подслушивает, а потом сердито зашептал:
– Ты что: совсем ума решился? Хочешь беду накликать?
– Господи… Ясю… Ты о чем же?., – растерянно забормотал Василь.
– Нашел, право, о чем детишкам рассказывать! Да и брешешь ты к тому же: никто его молотом не бил, и руки ни у кого не отсыхали.
– Ну а что ж такого? – Вася, похоже, никак не мог взять в толк, в чем же тут соль.
– Ты же знаешь, какая сила в том идоле затаена! Такая сила, что предки наши даже имя его боялись вслух сказать, оттого оно ныне и позабылось… Не любит он, чтобы напрасно его тревожили.
– Ну вот еще! – беспечно отмахнулся Вася. – Я ж честный христианин, с чего бы мне какого-то еще идола поганого бояться…
Янка зажал ему рот ладонью, он было, пожалуй, поздно: опасные слова уже подхватил ветер. Янка попытался хоть как-то отести возможную беду.
– Эй, это не Василь сказал! – крикнул он в сторону леса. – Это один гайдук из Островичей, мы его не знаем и знать не хотим!
Едва ли это помогло: через несколько дней женщины нашли Васю на опушке леса. Хлопец лежал навзничь, раскинув руки, изжелта-бледный, с обостренными чертами. Бабы перепугались, заголосили, завыли, ровно над покойником. Наконец кто-то из них разглядел, что он еще дышит.
Вася пролежал в забытьи около часа; когда же пришел в себя, он так и не смог объяснить, что же с ним случилось. Помнил только, что кто-то словно ударил его по затылку, отчего в ушах у него зашумело и все пошло кругом.
Бабы повздыхали по этому поводу, старики головами покачали. Понемногу происшествие с Васей позабылось, однако сам он еще долго, едва слышал о Дегтярном камне, бледнел и вздрагивал.
А лето меж тем все больше разгоралось. День уже шел на убыль, сумерки собирались все раньше, все гуще, а полуденный жар с каждым днем делался суше, смолистей, медвяней. Травы поникли, подсохли, длинные узкие листья луговых злаков пожелтели и закрутились сухими спиралями.
Горюнец любил эту пору: в такие дни тяжкий недуг ненадолго отпускал его, давал на какое-то время позабыть о себе. Прежде он не любил июльского зноя, всегда был рад укрыться в тенечке. Земля там была прохладная, сизая, травка – шелковая, а кора дерева, твердая и шершавая, приятно щекотала ладонь, стоило к ней прикоснуться.
Теперь же, напротив, когда в полдень косари останавливали работу, чтобы отдохнуть и поесть, он заваливался на самом солнцепеке, широко распахнув ворот, и запрокидывал голову, притенив лицо соломенным брылем, подставляя под исцеляющие лучи грудь и горло. Хорошо было так лежать на прогретой земле и чувствовать сквозь полотно рубахи интенсивно бьющее тепло, проникающее до самых костей.
Косьба меж тем подходила к концу. На луга выходили уже не с косами, а с граблями. Горюнец сгребал подсохшее сено, волоча его по щетинистым, колющим босые ноги остаткам стеблей, глядя, как под зубьями грабель сена набиралось все больше, как оно потом выбивалось, вываливалось, оставалось на земле горками – знай подбирай!
Косить, безусловно, было приятнее: машешь да машешь себе косой! Руки, правда, устают, зато весь выкладываешься в этом широком размахе, все видят молодецкую твою удаль… Хотя какая уж теперь удаль, когда где-то в глубине тела, притаясь, дремлет недуг.
А тут – гляди только, как шматки сена из-под зубьев выскальзывают! И спина затекает…
Вот он выпрямился, потянулся локтями кверху, расправляя затекшие мускулы.
– Устал, Ясику? – окликнула его Леська.
Она работала неподалеку, растрепанная, с горячими щеками. Славная все же девчина подрастает: здоровенькая такая, свеженькая, что твоя серебристая уклеечка, кровь горячая бьет струей, дыхание чистое. Худая, правда, еще, голенастая, как цыпленок-подросток, ну да ничего, нальется еще соком!
– Ты работай, работай давай! – подгоняет ее Савка. – Нечего лясы точить!
Ох уж, Савося! У самого еще над губой полторы волосины, а распоряжаться норовит, что твой глава семьи. Да и немудрено: в доме у Галичей, кроме него, мужиков почитай что и нету, а от старого да хилого деда Юстина проку в работе уж и немного. Да и никогда, помнится, не был Юстин работником особо добрым: на жене его, на Тэкле, почитай, и держалось все Галичево хозяйство, она подпирала его могучими, истово терпеливыми своими руками, дабы совсем не развалилось. Теперь вот только, как Савка подрос, понемногу наладилось, и достаток кое-какой появился. А то, бывало, в марте уже, почитай, без хлеба сидели, и маленькая Леська от голода плакала. У нее уж и сил не оставалось тогда в голос реветь, и она лишь чуть слышно всхлипывала, размазывая слезы по неумытым щекам. Несколько раз Янка тогда приводил ее к себе обедать, однако скоро ему пришлось от этой затеи отказаться – исключительно из-за тяжелой и злобной воркотни отца, что всегда сводилась к тому, что они-де сами не так богаты, чтоб свое добро на ветер пускать, и не для того он с себя жилы тянет, чтобы тут всяку сопливу босоту его горбом кормить. Но все равно частенько утаивал для нее Янка какую-нибудь краюху. А Савося, похоже, и тогда уже супился: почему это одной Аленке, почему не ему?
Cавка родился поздно, он всего на четыре года старше своей тринадцатилетней племянницы; в ней еще свежа память, о прежнем босоногом, покрытом ссадинами мальчишке, и она оттого упорно не желает признавать его главенства, часто артачится, даже когда его доводы совершенно справедливы, и они постоянно цапаются. Был бы он ей просто братом – может, тогда бы обоим спокойнее жилось…
Вот и теперь, на лугу, все корчит из себя строгого и бдительного надзирателя, пыжится так, что без смеха и не взглянуть.
– Савося, полегче! – улыбнулся Горюнец.
Но Савка сдвинул белесые бровки и, набычившись, в упор поглядел прозрачно-желтоватыми глазами и пробормотал сквозь стиснутые зубы что-то негодующее.
У Тэкли с Юстином было четверо детей. Вернее, на самом-то деле было больше, но выжило только четверо: три девчонки да хлопчик – младшенький. Зато уж те, что выжили, удались на славу: здоровые, ладные, с гибкими, сильными и подвижными телами и ярким, диким шиповником полыхающим, румянцем – никакая хвороба их не брала. Савка, правда, выдался белобрыс и мешковат, зато уж все Галичевы девчата – Ганна, Маринка и Зося – красавицами слыли: все, как одна, стройные, высокогрудые, с тяжелыми косами ниже пояса, с темными пологими бровями и большими глазами в оправе темных ресниц – серыми или слегка зеленоватыми, цвета чуть запыленной травы (голубоглазых в семье Галичей не водилось). Этих красивых, здоровых и работящих девушек очень быстро и охотно разобрали замуж и потом нахвалиться не могли на своих жен.
Только вот со старшей, Ганной, нехорошо сложилось: умерла она совсем молодой, будто бы от горячки, да бабы меж собой гутарили, что, вернее, с тоски сгорела.
Вышла она замуж за украинца. Нездешний он был, из-под самого Брест-Литовска, а сюда уж никто и не помнит, каким ветром его занесло. Родители Ганны были решительно против этого брака: темноглазый чужак-хохол с лихими усами и вызывающими, на их взгляд, манерами, едва ли мог расположить их к себе. Оба они, а особенно Тэкля, даже и слышать не хотели про того Микифора. Из-за этого, помнится, какие-то жуткие страсти разыгрались. Янка тогда еще маленький был, не все понимал; помнилось только, что Ганнуся была отчего-то бледная и заплаканная, и пугающе сердитыми, озабоченно-неприветными стали вдруг старшие Галичи. Нередко теперь по вечерам доносились из Галичевой хаты неясные вопли и плач в ответ, видимо, на родительскую брань, да иногда – звон пощечин. И уж совсем удивило маленького Яся, что ни с того ни с сего старики вдруг сразу сдались, осели, смирились. Никто на свадьбе не радовался; больше вздыхали да всякие беды молодым пророчили. Увез Микифор Ганну в свое дальнее село, и на несколько лет она словно в воду канула.
И в самом деле, сбылось все худшее, что бабы напророчили. На четвертом году после свадьбы Микифор помер, отравившись грибами, а Ганна, не поладив со свекровью, нежданно-негаданно домой воротилась. Вернулась не одна: привезла с собой малую дочку.
Юстин не хотел сперва ее принимать:
– Мы, доню, говорили тебе: не ходи за него – ты не слушала, по-своему сделала. Вот сама теперь и расхлебывай, а нас не срами.
Мать и сестры сурово молчали, уставясь в пол. Ганна стояла у дверей, взгляд ее метался по всем углам, словно ища поддержки, а потом вдруг рухнула, как подкошенная, на лавку, и разрыдалась.
– Ну куда мне теперь деваться? – проголосила она, захлебываясь слезами. – Куда я подамся? Только в Буг и осталось!
– А девчонка? – ахнула тихо одна из сестер.
– Я с девчонкой кинусь! На что ей, горемычной, и жить теперь!
Девчонка испуганно цеплялась за ее подол, не подозревая, видимо, какая ей грозит участь, и глядела на всех круглыми ошеломленными глазами, полными страха и беспомощной детской мольбы.
И тут не выдержала Тэкля: кинулась, сгребла внучку в охапку, прижала к своей большой, возмущенно колыхавшейся груди и решительно заявила:
– Еще чего! Топись сама, коли жить надоело, а девчонку не дам!
Так и остались они обе в родительской хате. Первое время Леська всех дичилась и большую часть времени проводила под лавкой, в обществе большой пестрой кошки, которая терлась об нее бархатным бочком и тыкалась мокрым носиком. Оттуда Леська с большим интересом наблюдала за всеми, но выбраться отчего-то не решалась. Иногда к ней под лавку забирался Савося, но скоро ему надоедало там сидеть, разглядывая чужие ноги, и он опять вылезал.
Потом Леська понемногу освоилась, из-под лавки выбралась и стала сосредоточенно бродить по хате и по двору, молча и деловито совать нос во все углы – знакомилась с обстановкой. Взрослые обеспокоились, как бы она не опрокинула на себя какую-нибудь крынку или, еще того хуже, чугунок с кипятком, да и мешало всем, что она тут под ногами путается, и Леську стали выпроваживать на улицу, под Савкин надзор, однако семилетнему дядюшке куда больше нравилось гонять с мальчишками, чем нянчиться с новоявленной племянницей. Поэтому он сажал ее на врытую возле калитки скамеечку, а сам удирал к дружкам.
Поначалу девчонка сидела смирно, как и было ей велено; однако вскоре ей становилось скучно, она сползала вниз и расхаживала по деревне. Вот тогда-то и подманил ее Янка: посвистел в глиняный маночек. Она подошла, протянула маленькую оучонку:
– Дай!
Взяла маночек, сосредоточенно повертела в пухлых пальчиках, не понимая, что с ним делать. А он опять ей посвистел. Так и подружились.
Сестры и братья у Янки были, но долго почему-то не заживались: или рождались мертвыми, или умирали в первый месяц жизни. Мать плакала, отец же озлобленно ворчал, считая во всем виноватой жену, тем более, что Янка, которого он по никому не понятным причинам тоже не очень-то жаловал, как будто назло, рос на редкость жизнеспособным и почти никогда не болел.
Мальчику тоже очень хотелось иметь сестру или брата, тем более, что почти у всех его приятелей они были. В деревне редко можно было встретить семью даже с двумя детьми: самое меньшее – трое-четверо, а нередко и больше.
А тут вдруг эдакая хорошенькая смугленькая девочка, совсем ничейная, бродит по деревне без всякого присмотра – отчего бы ему не взять ее под свое попечение?
Янка и в самом деле очень добросовестно за ней приглядывал: носил на руках, рассказывал сказки, они вместе ходили по ягоды. Все были очень довольны таким оборотом дела, а уж Савка, бывало, теперь сам тащил ее к Янке, передавал с рук на руки:
– На тебе твою кулему! – и с чистой совестью убегал играть.
А маленькой Лесечке оченьскоро показалось: Ясик был всегда. Вот так же, как земля, трава, солнце, заросли ромашек у реки. Он был ее заботливой и бдительной нянькой, все могли быть уверены, что Лесечка у него не утонет в Буге, не упадет в канаву, никуда не убежит и не заблудится, и никакой великовозрастный забияка ее не обидит. И в то же время Ясик был очень спокойным, покладистым, никогда не кричал, не срывался, не дергал малышку по пустякам. Если увидит, что она куда не туда полезла – только вздохнет, а потом молча возьмет ее за руку и так же молча оттащит подальше. А еще его можно было как угодно трепать, тормошить, карабкаться к нему на колени, мять ему пальцами уши – он и бровью не поведет. Иногда, правда, если она уж очень его допечет, он отвернется от нее, закроет лицо ладонями и вздрагивает всем телом, будто плачет. А то еще опрокинется на спину, руки на груди крестом сложит, глаза закатит и говорит:
– Ну все, Лесю, ты меня обижаешь, я помер!
Она сперва толкнет его да потрясет – не шевелится. Потом попробует раздвинуть ему веки пальчиками, а после, видя, что все напрасно, как поднимет рев:
– Мой Ясик по-о-омер, у-у-у!
А он глядит на нее сквозь ресницы и едва сдерживает улыбку.
Десять лет миновало с тех пор, а как будто вчера все было. И сейчас у него на душе какая-то неприятная горечь, неведомо откуда поднявшаяся, беспокоит, мутит. Наконец он понял: в казарме, на царской службе, и по дороге домой, он почти забыл о существовании маленького друга; вспоминал все больше мать да Кулину свою ненаглядную, а о ней забыл. А ведь как она его упрямо, безнадежно ждала! Если бы Кулина умела так ждать…
И вот встала перед его глазами картина: серая, пыльная, уходящая в лес дорога, выползающие на нее кустики подорожника, туманно-синий сумеречный воздух, окутавший маленькую одинокую фигурку, стоящую у обочины. Девчонку пробирает вечерняя прохлада, от усталости подгибаются коленки, а она все стоит и ждет, не замаячит ли впереди белая его рубаха, в которой он был, когда провожали его на тяжкую солдатскую службу…
Тут подсказала ему неумолимая память, как в тот последний день отчаянно захлестнулись на его шее тонкие детские руки, как болезненно всхлипнуло все ее маленькое тело, и ему стало еще тяжелее.
Вот она теперь – сидит, поджав ноги, хлебает из жбана окрошку.
– Ложку мимо рта не пронеси! – дразнит Савка.
А и впрямь: задумалась девочка, смотрит куда-то вдаль, ложкой два раза попала мимо жбана. Кто знает, какие мысли бродят в ее темноволосой голове… Так замечталась, что не заметила даже, как соскользнула в жбан с окрошкой ее коса; хорошо еще, Савка не видел, отвернулся. А ей хоть бы что: вытащила, отжала намокший кончик и снова задумчиво глядит в небо. Ползет-шевелится в небе пушистое облачко с подтаявшими краями, со свинцово-сизой середкой; люди кругом ходят, смеются, громко разговаривают, а она знай себе глядит на это облачко, не замечая ничего вокруг… И вдруг трепетнула ресницами, обратила на Янку свои карие очи.
– Ясю, – произнесла она тихо, – ты знаешь что-нибудь о Дегтярном камне?
У Горюнца в ответ тревожно дрогнули темные брови, строго сошлись у переносья.
– Лесю, – ответил он сурово, – чтобы я от тебя про то больше не слыхал! Даже думать о том забудь, чуешь? Грех это, Лесю, – добавил он уже спокойнее.
Он уверен: Леська не перестанет думать о таинственном идоле. Долго еще будут ее тревожить эти темные думы, будут расти, назревать и под конец выползут-таки наружу, принося и ей, и ему, и еще многим другим неведомые беды. Так пусть же она хоть помалкивает, не бросает на ветер опасные слова. Пусть дремлет до поры, окруженный дремучими дебрями, грозный идол. Придет, неизбежно придет час его пробуждения, и тогда… Впрочем, лучше не думать об этом.
А над лугами гуляет ветерок, плавает дух свежескошенного сена, разлетаются звонкие окрики косарей. Все кругом так спокойно, невозмутимо… Спи подольше, Дегтярной камень, не тревожь мирных людей!