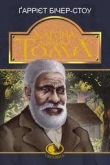Текст книги "Дядька (СИ)"
Автор книги: Мария Теплинская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Дядь Вань! А от нашего-то пана, кому девки каждый год кисею носят – никто не бежал?
– Ты про пана Генрика? – догадался дядька. – Да нет, этот как раз ничего, добрый. Подвинутый, правда, трошки: дел своих не разумеет, да зато с мужиками нашими, да и с другими, запросто гутарит, будто ровня мы ему. Бежать от него не с чего, да и некому особо: дворовых у него – раз, два и обчелся. Вот пан Ярослав из Островичей, мы его Яроськой зовем – вот тот зверь будет похуже волка февральского. Молодой, чуть постарше меня – а люты-ый! И батька его немногим был лучше, я помню. Теперь всем имением сын правит, батька на хлебах у него сидит. И гайдуки у них такие же подобрались – один другого злее! Не так даже от панов, как от них житья людям нет. Ну, каков поп, таков и приход! Так вот, все почти, кого мы укрываем, из Островичей, от Яроськи бегут.
– А Яроська знает, что мы их укрываем? – спросил Митрась.
– Знает, конечно, да локти со злости кусает. Что ему с того толку: доказать-то все равно ничего не может! Да ты не бойся: будь их воля, они нас давно бы с землей сровняли, а наша Длымь, как видишь, сколько лет невредима. Хранцузы – и те ее стороной обошли.
– Дядь Вань, а ты хранцузов видел? – спросил Митрась.
– Ну что ты, мне и двух годов тогда не было. Или уже было? Да нет, теперь и не вспомнить! Ты вон дядьку Рыгора спроси, он-то их видал, хорошо должен помнить! Как погнали их прочь из Москвы по разоренному краю, так и застряли они потом в наших болотах; так вот дядька Рыгор тебе расскажет, как мужички наши хранцузов из лесов выколачивали да в самую дрыгву загоняли. До сих пор, небось, те хранцузы наши длымские сякеры помнят! А я одно только помню, смутно так: будто бы мамка меня во что-то закутала, взяла на руки да и понесла куда-то в лес. Бежит, меня к себе прижимает, а сама мелкой дрожью так вся и колотится…
Какое-то время он сидел в легкой задумчивости, а потом, словно о чем-то вспомнив, встрепенулся и строго взглянул на Митрася.
– Так ты помнишь, о чем я тебе говорил? Как заслышишь в лесу али на реке треск большой – тут же прячься! Неважно куда – в кусты, в овраг, за дерево – куда угодно! На дороге особо зорко следи. Они злые теперь, лютые. Просекли уж, поди, что это мы Игната укрыли. В деревню к нам они не пойдут, мужика взрослого не тронут, а такого, как ты мальца, до смерти умучают, и добро, коли только нагайками захлещут, а чего хуже не учинят… И прежде я тебе про то говорил, а теперь пуще прежнего берегись!
– Послушай, дядь Вань! – перебил Митрась. – А какой он, тот Ярослав? Красивый али урод?
– Да как тебе сказать, Митрасю, – задумался Янка. – Люди гутарят – красавец, а я его вблизи и не видал, как следует не разглядел.
И вдруг нежданно сплюнул:
– А ну тебя с тем Яроськой! Не хочу я и говорить про него. Ты вот Паньку видал? И дулю под глаз от него получил! Так вот считай, что Яроська – тот же Панас, только еще хуже!
В тот же день Горюнец вновь принялся обучать Митраньку приемам тайного боя. На сей раз они перешли из хаты на дальний край улицы, где возле самой околицы громоздились высокие сугробы. Собравшаяся кругом детвора неудержимо хохотала, глядя, как Митранька раз за разом летит кувырком в рыхлый колючий снег. Откровенно говоря, прием, который дядька с ним отрабатывал, был всем хорошо известен и никакой тайны из себя не составлял, а хлопцы смеялись больше оттого, что Митрась никак не мог уразуметь, каким же образом дядя Ваня, только что стоявший прямо перед ним, вдруг исчезает неведомо куда, будто бы в воздухе растворяется, а сам он летит в сугроб от коварной подсечки сзади.
А вот Леська, стоявшая тут же, давно уже все поняла. Янка, стоя к нему лицом, просто-напросто берет его правой рукой за правый же рукав, чтобы удобнее было развернуться, затем мгновенным поворотом проскальзывает ему за спину, и уже оттуда валит с ног подсечкой.
– Митрасю, справа! – звонко крикнула она. – Направо гляди!
– Лесю, не подсказывай! – шутливо погрозил Янка.
Подсказка, однако, пошла впрок, и на сей раз дядьке не удалось, как прежде, проскочить мальчишке за спину – тот успел-таки развернуться к нему лицом.
– Вот Лесе теперь дзянкуй, – кивнул в ее сторону Горюнец. – Кабы не она – так ты у меня до самой ночи в сугроб бы и нырял! Ну, остынь пока, погутарь с хлопцами!
Хлопцы вновь загоготали, захлопали его по спине, что-то стали наперебой объяснять. Микитка, сын дядьки Макара, попытался даже повторить дяди-Ванин трюк, однако тут Митрась был начеку, и Микитка сам отправился кувырком все в тот же сугроб.
– Ишь ты! Зразумел-таки! – восхитился Андрейка.
А Митрась думал совсем даже не о том. Ему не терпелось расспросить Леську о лежащем на длымчанах зароке укрывать беглых, а также о странном обычае дарить рантухи пану Любичу. Он подозревал, что Леська знает об этом больше, чем его друзья-хлопцы, и в то же время охотно ему обо всем расскажет, не отмахнется, как дядя Ваня.
Однако, увидеться с нею наедине он смог лишь ближе к вечеру, когда уже стали собираться над лесом синие сумерки.
Едва поняв, в чем дело, Леська ухватила его за рукав и потащила за бани. Это был потаенный уголок, где, бывало, целовались парочки и куда приходили девчата делиться друг с дружкой своими тайнами.
– А это что, тоже тайна такая? – спросил Митрась, уже привыкший к жутким тайнам «под страхом смерти».
– Да нет, что ты! – отмахнулась та. – Про это у нас любой знает. Просто чтобы посреди дороги нам с тобой не стоять…
Они свернули за бани, на крышах которых лежали пухлые слоистые сугробы, разворошили валенками нетронутый снег.
– Дивлюсь я, что ты допрежь этого не знал, – продолжала Леська. – Ну, слушай же.
И вот что рассказала она.
Двести лет тому назад была их Длымь такой же крепостной деревней, как Сенковка, Коржи, Голодай-Слезы и другие окрестные села. Была она в те времена небольшой – дворов от силы двадцать. Ненавистных панов Островских тогда еще не было и в помине, а Длымь, сенковка, Голдай-Слезы и другие деревни принадлежали Любичам, которые, кстати, еще в те времена отличались незлобивым спокойным нравом, и поселянам при них жилось более или менее сносно.
Но вот пришла беда: двинулись на Речь Посполитую полчища шведов; разграбили, обгадили, разорили почти всю страну, только в беловежские чащобы не сумели пробиться. И побежала в Беловежу со всей Речи Посполитой шляхта из городов и застянков; явилась чужая шляхта и в эти края.
– На что не любим мы шляхты, Митрасю, – говорила Леська, словно бы почему-то оправдываясь. – Не любим и тогда не любили. Да только вот сердцем мы слабы – в том, верно, и погибель наша. Жалеем всех без разбору, а порой и тех, кого жалеть бы и вовсе не надо…
И в самом деле: что могли поделать люди, глядя на опустивших головы стариков, на перепуганных женщин, за юбки которых цеплялись малые дети? Все шляхтичи, кто мог носить оружие, ушли воевать, а в беловежские чащобы пришли одни старики, да бабы, да ребята малые. Ну что было с ними делать? Приютили, конечно. Кого-то местные шляхетские застянки приняли, у кого там родня была; прочие по крестьянским хатам разместились.
И долго жили они здесь, целую зиму. И сжились они с хозяевами, даже подружились. Шляхтянки вместе с местными бабами лен пряли, коров доили; дети их вместе с деревенскими ребятами в снежки играли, с гор катались.
Но вот закончилась война, сгинули шведы, убрались за море. Тогда и шляхта пришлая вернулась на свои пепелища. Чуть не со слезами прощались с добрыми хозяевами, едва не на шеях висли.
Кабы знали тогда доверчивые, добрые поселяне, чем ответят им за приют!
– Сколько ни живем мы с ляхами на одних землях, – продолжала Леська, – столько и ненавидят они нас, православных. Не унимались ляхи, все норовили в католичество нас обернуть. Сколько люда нашего православного через то погибло – подумать страх! А глумились как над нами: и налогами давили, и церкви наши запирали, а ключи от них жидам передавали, а там уж как жид решит: захочу, мол, – отопру, не захочу – так и будете выть на паперти! Да только не отреклись мы от веры своей, как ни терзали нас. Не покорились ляхам, не склонили головы. Но дорогую цену заплатили за это… Ты вот, Митрасю, недавно у нас живешь, ляхов еще не знаешь, а мы-то хорошо с ними знакомы. Совести у тех ляхов отродясь не бывало, и верою они только бесчинства свои покрывали. Плевать им на ту веру было, не больно-то они сами и набожны. А вот добром чужим поживиться – это они всегда были рады. Жгли, грабили, скот угоняли, топтали посевы… С девчатами творили разные мерзости… – на этих словах она аж зубами скрипнула, и лицо ее исказила ненависть.
– Ну так вот, – вернулась она в прежнее русло. – Как шведы сгинули, так и нахлынули в наши края такие вот молодчики – мужья, сыновья, отцы тех, кого наши люди в годину тяжкую приютили. Ясное дело: шведы их самих пограбили, а тут – край нетронутый… Пожгли без совести хаты, угнали скотину, людей саблями изрубили, нагайками посекли… Кто успел – те на болотах укрылись, да только немного было таких – ночью ведь ляхи напали. А хуже всего девчат изобидели – многие потом сраму не пережили… Больше всех Длыми нашей досталось, а было еще поблизости несколько весок – так те и вовсе дотла спалили.
Леська судорожно вздохнула, переводя дыхание. Митрась, взволнованный рассказом, растерянно глядел на ее подрагивающие губы, на проступившую на щеке нервную ямочку.
– А потом, как ушли лютые, – снова донесся до него звенящий от волнения Леськин голос, – собрались уцелевшие все вместе. В нашу Длымь все стеклись, бо у нас кой-какой остов еще сохранился, а соседние веси дотла сгорели. С тех пор и поднялась наша Длымь такая, какой ты теперь ее видишь – большая и вольная.
– Постой-ка! – перебил Митрась. – А как же вы вольными-то стали?
– Вот тут-то самое диво и начинается, – она наклонилась к самому его уху, заговорила уже полушепотом.
– Ляхи напали ночью, а ушли только с рассветом. Довольные, нашим скарбом нагруженные, угоняя впереди нашу скотину, с хохотом, с прибаутками своими мерзкими, воротились они в свои застянки да местечки. День целый там веселились, пили горелку да пиво наше, а нашим мужикам даже с горя выпить было нечего, за помин души порубанных – все, что было, те катюги вылакали…
А на другую ночь страшная кара на них обрушилась: тысячи пожаров занялись в застянках, в местечках, даже в самом Бресте – аж оттуда приходили до нас ляхи! Это горели дома всех тех, кто грабил и жег наши веси. Погорели, сказывают, все их добро: никто ничего вынести не успел.
– Вот это да! – восхитился Митрась. – Никак, наши подпалили?
– В том-то и дело, что нет, – прикрывая рот ладонью, снова зашептала Леська. – Местечки-то наши сам знаешь какие: всяк всякого в лицо знает. А в тот день никто ни единого чужака не заприметил. Да и потом, добро ихнее вон даже в Бресте горело, а до Бреста от нас добираться добрых три дня, коли посуху, а тут и суток не минуло. И та шляхта, что в Брест-Литовске жила, тоже до дома добраться еще не успела, это уж потом бабы погорелые их воем встретили. И самое-то диво: погорели одни лишь те, кто у нас разбойничал; соседних-то домов, что рядом стояли, огонь и не тронул. А ведь всегда как бывает: дом горит – кругом мухи красные вьются, другие дома пламенем занимаются. Да и откуда бы нашим бедным людям узнать было, кто же именно их пожег да пограбил, и как бы они в один день сумели разведать, где дома всех тех окаянных? Да кабы и разведали – ляхи бы потом тоже узнали, что у таких-то выспрашивали. Тут-то вся и соль: никто ничего не выспрашивал, никого чужих не было, а дома – на тебе! – погорели.
– И… и что же это было? – затаил дыхание Митрась.
– Погоди, не все сразу. Дикий ужас охватил тогда всю окрестную шляхту. Молва кругом пошла, будто бы не иначе как сила нечистая руку приложила. Так и по сей день слывем мы среди них нечистыми. Ненавидят они нас люто, да вот не трогают – боятся. И сказывают, будто пан Любич, что тогда нами владел, как узнал про то – две ночи соснуть не мог, а на третью будто бы что-то поблажилось ему – уж я и не знаю, что – да только завопил он дурным голосом – едва успокоили. А потом схватил все бумаги на владение нами, спалил их в камине и объявил всех длымчан вольными – отныне и навечно. И земли нам выделил; мы только оброк должны были пану платить, что живем на них – так по сей день и платим. А чтобы потомки того Любича ненароком не забыли, что мы теперь навеки вольные, да не протянули бы к нам руки свои загребущие – каждый год мы про то им напоминаем: приносим им вместе с оброком рантух – покрывало женское, что шляхтянки тогда носили. Теперь-то уж рантухов давно не носят; на свадьбах только их и увидишь, невесту им покрывают. Вот и приносим мы им рантух, чтобы не забывали паны, как приняли у себя наши предки шляхтянок с дедами да малыми детками, и как потом стали вольными. Ткет этот рантух непременно девчина, из лучших наших мастериц. Однако и мы не должны забывать, какой ценой досталась воля нашим прадедам. С тех самых пор лежит на нас зарок: коли встретим в лесу беглого, должны мы его от погони укрыть, на произвол судьбы не бросить. Помни об этом и ты, Митрасю, – ты ведь тоже теперь наш, длымский.
Митрась молча глядел на заснеженные кровли бань, на низкие тучи над головой, на собственные следы в рыхлом снегу. Все осталось как будто бы прежним, но при этом неуловимо изменилось; иным стал даже воздух. На всем теперь лежала печать той давней скорби и какой-то смутной тревоги, как будто глядели на него множеством невидимых глаз погибшие в том погроме люди.
Наконец он посмотрел в лицо Леське – она стояла молча, и глаза ее были полны тяжелой печали – верно, о том же думала.
– Слышь, Аленка? – слегка толкнул ее Митрась. – А ты ведь так и не рассказала, что же это за диво было. Отчего шляхетские дома погорели? И отчего тот барин вдруг волю вам дал?
– Ах, да, я и забыла совсем. Вот только о том, что я тебе скажу, поклянись молчать, как если бы ничего я тебе не говорила. Бо коли Янка наш прознает, что мы с тобой о том гутарили – уж и не знаю, что он с нами тогда сотворит! Ох, не любит он отчего-то, когда про то говорят…
– Отчего же не любит? – не понял Митрась.
– А вот у него и спроси. Ой, нет, лучше не спрашивай! – спохватилась девчонка.
– Ей-Богу, никому не скажу! – горячо перебил Митрась.
– Так слушай же: оттого ляхи спужались, что про идола первым делом подумали. Про того самого, лесного, что мы Дегтярным камнем зовем. Знаешь ты про него, слыхал. Лежит он где-то в глуби лесов, совсем недалеко от нашей деревни, вот только никто не знает, где именно. И вот говорят люди, что тот самый идол пробудился от долгого сна и покарал тех разбойников, не стерпев бесчинства. Его-то и боятся злые паны, оттого-то и не трогают больше Длымь. А больше я о нем ничего не знаю, – призналась она с явным сожалением. И тут же сменила тон:
– Так помни же: никому! Ни единой душе – ни слова? Разумеешь?
– Угу, – кивнул Митрась.
– Не «угу», а помалкивай!
Огромные бездонные очи глядели на него так неотрывно и жутко, что Митрась тут же поклялся сам себе: никому ничего не скажет.
Глава пятнадцатая
Митрась и в самом деле никому ничего не рассказал. И не только потому, что боялся неведомого идола или хотел оправдать Леськино доверие. Просто не до того ему теперь было, другое лежало на сердце.
Это произошло в тот же вечер, когда Леська рассказала ему свою историю. Уже позднее, в глубоких сумерках, в Горюнцову хату пришли братья Луцуки со своей скрипкой. Янке они с детства были хорошими друзьями, да и Митраньке они оба нравились, особенно старший – Рыгор, или Рысь; меньшой, Санька, уж больно был порывист. И собой они оба были хороши – глаз радовался, на них глядя.
А более всего занимала Митрася их скрипка. Была она старая, заслуженная, потемневшего дерева, стертого по краю – там, где ее окаймляет тонкий черный ус, и особенно в том месте, куда скрипач кладет подбородок. Звук у этой скрипки был очень красивый – глубокий, мягкий, полный; слыша его, умолкали даже самые болтливые и беспокойные, особенно, если на скрипке игрались печальные, распевные мелодии. Скрипка досталась им еще от прадеда, братья очень ее берегли, держали закутанной в толстый шерстяной платок и выходили из себя, если кто-то чужой осмеливался к ней прикоснуться. Особенно горячился порывистый Санька.
А Митрася уже давно неодолимо тянуло к этой удивительной и недоступной скрипке, его давно томила тоска по этой чудесной музыке, и своей тоске он еще не умел найти ни объяснения, ни выхода.
Оба брата играли хорошо, но все же в Саниной игре слышалось больше тепла душевного трепета или сердечной боли – смотря, что он играл. Даже задорные плясовые звучали у него стремительнее и зажигательнее, чем у старшего брата; от его игры плясуны совсем не чуяли под собой ног и словно бы летали над землей.
И в тот вечер Митрась несказанно обрадовался, увидев у Сани подмышкой объемистый сверток в толстом платке.
– Вы и скрипку принесли? – воскликнул он, бросаясь навстречу гостям, и глаза его жарко вспыхнули.
– Тихо! Не лапай, – отстранил его Саня.
Митрась, немного обиженный, послушно отступил.
А гости меж тем уже приветливо здоровались с дядькой.
– Давненько вы что-то ко мне не заглядывали, – укорил их Горюнец.
– Да все не выходило как-то, – смутился Рысь. – Дела, видишь ли…
Хозяин лишь усмехнулся в темные усы: знаем, мол, что у тебя за дела такие. Митрась – и тот знал про застенчивую Касю Рутевич, на которую старший из молодых Луцуков заглядывался еще с лета.
– Ну да зато теперь вот вырвались, – выручил брата Саня. – Страх повидаться с тобой захотелось! Нам уходить ведь скоро; до самой весны, поди, и не увидимся.
– Надо же, как время летит! – вздохнул Горюнец. – Вот уж и зима на дворе…
– Десять деньков до Катерины осталось, а с Катерины мы уходим в извоз. Все уходят, – напомнил Рысь.
– Из молодых ты один остаешься, – добавил Саня. – Ну что ж, опять первым хлопцем на селе будешь!
– Хорошо вам смеяться, а Митраньку я на кого покину, хозяйство? Да и не могу я в извоз идти – задыхаюсь. А до солдатчины разок ходил, вы и сами помните.
– Ну что ты, это я так сказал, – начал оправдываться Саня. – Не в вину тебе. Послушай, Ясю! – оживился он вдруг. – Давай-ка ты споешь, а я подыграю, а?
Не дожидаясь ответа, он стал осторожно разворачивать скрипку. Митрась восхищенно смотрел на ее точеный корпус, узкий легкий гриф, с нетерпением ожидая чудных мелодий. Но Саня еще с минуту старательно натирал смычок кусочком ароматной затвердевшей смолы, осведомляясь при этом у Янки:
– Что петь-то будем? Про вербу, что ли? Или вот эту, «Шла девка до броду по воду»? Или нет, давай лучше «Калину», ты «Калину» любишь.
– Алесь, да ты что, там дыхание долгое! – перебил старший брат.
– Ничего, вытяну, – заверил Янка. – Я тихонечко… Сколько я певал уж ту «Калину» – и ничего!
– Ну, коли так, заводите!
И вот уже высоко взлетел, пронзив воздух, чистый голос скрипки, и полилась неторопливо красивая печальная мелодия. Затем в нее вступил мягкий, сдержанный, чуть приглушенный Янкин голос. Митрась заворожено слушал слияние двух голосов: скрипки и человека. Он не вслушивался в слова песни, да и трудно было их разобрать в распевах и переливах. Но он знал, о чем в ней поется:
Не полола лену,
Не пришла до дому,
Стань же ты калиною
Да в чистом поле…
Так сказала злодейка-свекровь, и вот уже не стало молодой невестки; только там, где она стояла, выросла калина, вся покрытая белым цветом. Воротился муж из дальней дороги и не узнал в тонком деревце своей ненаглядной. А злая баба уже дает ему «острую сякеру» и велит срубить калину. Жаль ему, однако не смеет он ослушаться матери.
Секанул один раз —
Закачалася,
Секанул другой раз —
Отозвалася:.
Не секи меня, Ясю,
Я ж твоя жена.
То твоя матуля
Разлучила нас…
– То твоя матуля разлучила нас, – совсем тихо закончил Горюнец. Следом за ним умолкла и скрипка. Митрась еще долго слышал ее серебристый голос и низкий, бархатный – дядькин, а перед глазами все стояла темная хата, окруженная низким тыном, и возле него – тонкоствольная, пышнокронная калина, вся в белых цветах.
И вдруг он заметил удивительную вещь: братья, увлекшись каким-то разговором, оставили скрипку на столе незавернутой; она просто лежала на расстеленном платке. Изумляясь собственной дерзости, Митрась робко взял ее дрожащими руками, осторожно положил на плечо, как клал Саня. Несмело тронул струны – они ответили ему тихим перебором.
От этого звука Санька резко дернулся, и лицо его от внезапного гнева сделалось почти уродливым. Бедный Митрась не успел даже ахнуть, когда Саня, тот самый Саня, который только что выводил на скрипке нежные переливы, налетел на него диким коршуном, с каким-то ужасным ругательством вырвал скрипку у него из рук и отвесил тяжелый подзатыльник.
Все это произошло так внезапно, что ни Рысь, ни Янка не успели ничего предпринять. Они застыли на месте и очнулись лишь тогда, когда Саня уже завертывал в платок злосчастный инструмент, а перепуганный насмерть мальчишка изо всех сил сжимал зубы, чтобы не расплакаться.
– Ты что это в чужой хате драться лезешь, бессовестный? – накинулся на Саньку старший брат.
– А пусть не хватает, чего не положено, – огрызнулся тот. – И держит еще не так, вот-вот уронит…
Надо, впрочем, отдать Саньке должное: едва остынув, он тут же попросил прощения у Янки и у Митрася. Они его, конечно, простили, и все закончилось миром. Во всяком случае, Янка не стал долго сердиться на молодого Луцука, помня, как помешаны братья на своей скрипке, а Митрась лишь молча проглотил обиду, считая, что никому до этого нет дела.
А ночью Митрась долго плакал от обиды и горечи. Не помнил он, чтобы когда-либо в своей несладкой жизни доводилось ему так безутешно рыдать: ни когда он жил у злой тетки, ни потом, когда скитался по дорогам. Один только раз так же душили его слезы: когда хоронили одного доброго старичка из ночлежки. Он и сам не мог понять, отчего тогда плакал: от жалости к старику или оттого, что остался совсем один, никому не нужный, без защиты, без утешения. Дяди Вани тогда еще не было в его жизни; он пришел позднее, уже весной…
А теперь… Теперь, конечно, было не т. Но что было делать, если руки так отчетливо помнили ощущение тонкого старого дерева, туго натянутых насмоленных струн…
Дядьке наконец невмочь стало слышать его сдавленные рыдания. Он со вздохом поднялся, подхватил на руки легонького мальчишечку, перенес его через всю горницу и уложил рядом с собой. Митрась всхлипнул, прижался мокрой щекой к теплому плечу.
– Тише, тише, Митрасю, – шептал Горюнец, поглаживая его по голове, по спине широкими затвердевшими ладонями.
– Пускай они… подавятся… скрипкой своей… – сквозь слезы выдавил Митрась.
– Ну конечно, хай подавятся, – согласился шепотом дядька. – Налетел, тоже мне, что дурной сокол на сизу утицу! Не надо плакать, Митрасику, не надо больше…
Но Митрась все плакал и плакал, вздрагивая и шмыгая носом, покуда, наконец, не заснул, а Горюнец, глядя на его всклокоченную голову, на припухшую от слез щеку, со щемящей нежностью подумал: «Эх, бедолага ты мой! Давеча под глаз тебе дали, теперь вот – по затылку… Не везет тебе…»
И с тех пор загрустил Митрась, притих, как бубенчик, от которого язычок потерялся. Даже петь перестал; замолк в хате его звонкий голос, и стало в ней тихо, скучно, пусто. Он и по деревне ходил, ни на кого не глядя, братьев Луцуков избегал, а коли случалось ему все же столкнуться с кем-то из них – молча отступал, освобождая дорогу.
– Дурной он у тебя какой-то! – бросил однажды Саня, пожимая плечами.
Он был вспыльчив, резок на слова, а порой тяжел на руку, но сердце имел, в общем, доброе, долго сердиться не умел, и если ему долго не хотели прощать обиду, сильно переживал. И теперь его изрядно коробило Митранькино отчуждение, однако идти на мировую первым он тоже не желал: раз уже попросил прощения, сколько можно?
И вот теперь он стоял перед Янкой – огорченный, растерянный и несколько обиженный.
– Дурной он у тебя какой-то! Ну что такого стряслось? Ну, дал я ему по затылку – так что ж теперь, на весь белый свет не глядеть? – под «белым светом» он, конечно же, понимал прежде всего себя.
Янка пристально и с укором посмотрел на него:
– Тебе сколько годков было, когда ты впервые скрипку в руки взял?
– Н-не помню, – замялся хлопец. – Годочка три, не то четыре.
– А ты помнишь, как татка твой тебя тогда – хворостиной? Ты вспомни, вспомни, сам же тогда ко мне прибежал плакаться!
От этих слов Саня покраснел, будто мак в поле. А Горюнец больше и не стал об этом говорить – отвернулся, отвлекся на присевшего на ближайшую рябину снегиря. Сизо-розовый, тот распушил свои мягкие перышки, раздулся, как яблоко и стал не спеша поклевывать промерзлые ягоды. А когда Горюнец снова обернулся к Сане, того уже не было рядом. Пристыженно склонив голову, чуть сгорбившись, он медленно уходил прочь.
Грустил он, однако, недолго, и Митрась, которого дядька все же наставил на ум, перестал на него открыто хмуриться. Но к своей скрипке братья его по-прежнему близко не подпускали – как, впрочем, и кого бы то ни было другого. Волшебное сокровище по-прежнему оставалось недостижимым.
Когда деревню окутывали синие сумерки, и длымская молодежь стекалась в какую-нибудь хату не вечерницы – так называли здесь обычнее посиделки – братья Луцуки всегда брали скрипку с собой. Детей, как правило, на вечерки не пускали, и Митрась, вынужденный вместе с дружками топтаться под окнами, пихаясь и споря из-за места, в такие минуты очень завидовал Леське, которую хоть и не приняли еще в девичий круг, однако уже не прогоняли с вечерниц. На лучшие места ее, конечно, пока еще не допускали, и она мостилась со своей самопрялкой где-нибудь в уголке, Митрась даже не всегда мог ее видеть. А вот братья на всех вечерках были видны хорошо. Когда хор девичьих голосов затягивал долгую зимнюю песню, Митрась видел сквозь переплет окна, как один из братьев мучительно знакомым жестом поднимает скрипку на плечо, как мутно-оранжевые отсветы мерцающих лучин разливаются по ее темной полированной деке; видел, как смычок касался струн, и тогда скрипка начинала петь своим неповторимым голосом, чисто-серебряным и при этом нежно-бархатным. Толстые стены приглушали голоса, и слова песен разобрать было почти невозможно, но Митрась и без того знал их наизусть. Песни были по большей части печальные, жалостные: о девчине, которую силой выдают за немилого, о хлопце, которого забирают в солдаты. Нередко певали и «Калину», любимую дяди-Ванину песню, для Митрася омраченную столь неприятным воспоминанием.
Домой он возвращался подавленный, молчаливый. Дядька, отпирая ему дверь, все ворчал да хмурился:
– И где тебя все носит, неуемного! Ночь у порога! Ишь ты, чего выдумали: на ночь глядя под чужими окнами снег вытаптывать…
А однажды, для виду поворчав немного, вдруг понимающе растрепал жесткие Митранькины вихры и сказал совсем другим голосом:
– Ничего, братку, не журися! Вот поедем летом на ярмарку – куплю тебе скрипку. А Рысь играть тебя выучит. Я вот, когда помоложе был, на жалейке неплохо играл, а теперь вот не могу: дыхания нет, – добавил он со вздохом.
Митрась благодарно ткнулся лбом ему в рукав.
– Ладно, Митрасю, давай-ка спать, не то завтра опять проспишь, – дядька ласково отстранил его и снова растрепал ему волосы.
Наутро Митрась все же не проспал, но причина для этого у него была совершенно особая. Дело в том, что на следующий день наступал праздник святой Екатерины, день первого катания на санях, и ему не терпелось накануне этого дня поскорее разделаться с домашними хлопотами, чтобы потом прокатиться на своих новых салазках, испытать их на ходу. Салазки эти, по старинному длымскому обычаю, делал он сам; дядька лишь помогал вытачивать полозья.
Но перед этим надо было затопить печь, наносить воды, накормить и убрать скотину.
Он шел по длымской улице с тяжелым коромыслом на плечах, любуясь морозным туманом, окутавшим обнаженные кроны деревьев, весело щурясь на бледное зимнее солнышко. Полные ведра поскрипывали, покачиваясь на коромысле, и солнце, ярко вспыхивая, плескалось в ледяной воде, ходило кругами, радужными искрами зажигалось на падающих каплях.
Сзади послышался легкий топот со скрипом морозного снега. Митрась оглянулся – его быстро догонял Василь Кочет.
– День добрый, – улыбнулся он, сбавляя шаг. – К вам вот бегу зараз. Не помочь донести-то? – кивнул он на коромысло.
Невзирая на робкие Митранькины протесты, Василь все же забрал у него ведра, плеснув воды через край.
– Ну вот, наплескали! – огорчился Вася. – Теперь замерзнет, лед будет – не дай перун кто навернется!
– Хорошо бы тетка Альжбета, – мечтательно протянул Митрась. – Или Панька… Вот придет он завтра до нас, а тут ему уж приготовлено…
– Ну что ты, у Паньки очи зоркие! – перебил Василь. – Скорее уж это как раз Леська будет: вот уж кто под ноги никогда не глядит!
– Ой нет, не надо такого Аленке! – запротестовал Митрась. – Ей уж и без того досталось…
Так, шутливо препираясь, дошли они до Горюнцовой хаты.
На дворе дядька укладывал в поленницу только что наколотые дрова.
– О, вот и Василь пришел! – радостно хлопнул он рукавицами.
– А ты, Ясю, хорош нынче, – заметил Василь. – Разрумянился-то как!
– Да ну, это с мороза, – немного смутился польщенный Ясь. – А вот как в хату войдем, весь румянец мой тут же и полиняет…
А между тем он и в самом деле более чем когда-либо был похож на того прежнего красавца, каким был перед самым рекрутским набором. Легкий морозец зажег алым цветом его обычно бледные щеки, голубым инеем затуманил темные усы. И не сразу можно было узнать в этом румяном молодце недавнего сумрачного, поблекшего Янку, точимого тяжким недугом, отягощенного тревожными думами. Василь глядел на него с улыбкой, не подозревая при этом, что и сам похож этой своей улыбкой на друга; разве что еще жарче пылают на остром холоде его щеки, да глаза живее мелькают, меча голубые веселые искры.
– Ну так что, Ясю, идем завтра на горы? – спросил Василь.
– Ну еще бы! Как же мы не пойдем? – удивился Ясь. – У Митраньки вон и салазки готовы!
Ах, горы, горы! Митрась еще в бытность свою Митькой в далекой убогонькой деревушке любил Екатерину-санницу. В этот день все катаются с гор и затевают санные гонки. Мчатся на тройках парни да мужики молодые, друг с другом вперегонки, удаль свою перед девками выставляют. Бубенцы звенят, морозная пыль следом клубится… А то еще что надумают: выпрягут лошадей, а на их место гуртом молодежь впрягается. Приналягут все вместе и тянут заместо коней, тоже вперегонки, кто быстрее придет. А гвалт всегда стоит – хоть уши затыкай да святых выноси! Визжат-орут бабы кругом, орет-визжит молодежь в оглоблях, собаки лают – аж в груди отдается весь этот шум…