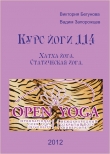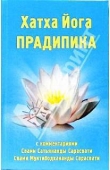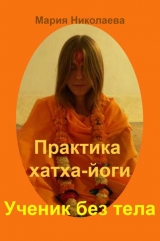
Текст книги "Практика хатха-йоги: Ученик без «тела»"
Автор книги: Мария Николаева
Жанры:
Спорт
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Кайя-садхана тамильских сиддхов
Кайя-садхана означает телесно-ориентированную практику. Хотя современные практикующие уже не путают йогу с гимнастикой и патологической фиксации на здоровье тела, почти никто из них не представляет себе хатха-йогу без асан, прочно отождествляя их. Доныне расширение спектра положений тела во всех доступных конфигурациях представляется основным методом проработки тела для трансформации. Однако вопрос о степени необходимости асан в хатха-йоге решается в зависимости от того, что преобладает в самом определении: методология или целеполагание. Дело не в «бесполезности» асан или неадекватности их выполнения и даже не в исключении асан из хатха-йоги, а в растождествлении одного из методов и цели всей системы. Хатха-йога по определению отличается от йоги тем, что в ней присутствует нацеленность на то, чтобы не ограничиться духовным освобождением (самадхи), а добиться телесного просветления вплоть до полного перевода материи в энергию. Лишь поверхностная рефлексия исходит из видимости, где асаны (как работа с физическим телом) суть хатха-йога. Возможно, но не обязательно, – что и демонстрирует второй исток хатха-йоги в традиции тамильских сиддхов.
Шри Кришнамачарье удалось проигнорировать оба истока хатха-йоги – не только натхов на севере, но и сиддхов на юге, – хотя он славится синтезом северного и южного индийских учений. Как выходец из Южной Индии, он был потомком великого альвара Натхамуни (имя не означает принадлежности к натхам). К тому же это течение вайшванизма развивалось в рамках вишиштадвайты Рамануджи и противостояло адвайте. Но в тамильской традиции шиваиты– сиддхи составляли оппозицию всем другим учениям, включая альваров, именно по качеству отношения к телу. Как известно, пранаяма и прочие техники хатха-йоги складывались на пути интериоризации ритуала, или введения духовных отношений внутрь тела. В отличие от альваров, сиддхи никогда не совершали храмовых богослужений, считая тело единственной обителью духа. Напротив, для Шри Кришнамачарьи ритуальная практика в наследии альваров до конца дней оставалась важной частью духовной реализации. Но он никогда не передавал вайшнавские посвящения своим ученикам в области асан, поэтому те сами становились просто учителями асан как таковых.
В самой Индии последним реализованным тамильским сиддхом считается святой Рамалингам, но он подвизался еще в XIX веке и просто «превратился в свет», не оставив преемников, кроме поваров на кухне, где до сих пор ежедневно готовят еду для раздачи всем голодным – что и составляло основную «телесно-ориентированную» практику самого просветленного. Можно найти сиддхов среди тамильских лекарей, но они изъясняются только на тамильском, если вообще выказывают склонность изъясняться. Большинство этих адептов сейчас известны в своей местности как врачи сиддха – медицины, марма – целители или же травники и т. п. Так, у одного аюрведиста на территории клиники построен целый храм 18 сиддхов, где он с местными брахманами проводит пуджи. Известным адептом шайва-сиддханта, признанным индийскими авторитетами, был американец Шивая Субрамуниясвами, автор книг «Танец с Шивой» и «Слияние с Шивой». Именно эта школа представляет на Западе тамильский шиваизм и своим важнейшим текстом считает «Тирумандирам». По-видимому, они имеют прямое отношение к линии тамильских сиддхов. Гуру самого Субрамуниясвами был тамильским святым, жил на Шри Ланке как аскет, демонстрировал сиддхи. Но на внешнем уровне у них преобладает обрядовый шиваизм, а в практику кундалини-йоги инициируют только принявших монашеские обеты.
«Тирумандирам» – один из основополагающих источников сиддхов в Тамилнаду – еще не скоро будет доступен на русском языке, и даже полный английский перевод (в девяти томах) подготовлен коллективом тамильских ученых к выходу только в 2007 году. Однако имеется хорошее научное исследование «Тирумандирама», выполненное путем сравнения нескольких тамильских списков и анализа множества комментариев пандитов, где традиция сиддхов представлена в общих чертах. В книге «Йога сиддхи Тирумулара» представлена вся система кайя-садханы (телесно-ориентированной духовной практики) в контексте Шива-йоги, которую авторы склонны отождествлять с Кундалини-йогой, хотя сам Тирумулар нигде не пользуется этим термином. Следовательно, он способен показать новый путь к исконной цели подлинной традиции хатха-йоги, нисколько не впадая в зависимость от известной ему методологии выполнения асан. Отмечая восемь необходимых асан, он упоминает, что всего их 108, но тем и ограничивается. Тирумулар определяет сиддху как дживан-мукту (освобожденного при жизни), который обладает телом из просветленного осознания, подобно телу самого Шивы, и все же это физическое тело!
Хотя «Тирумандирам» считается тирумараем (литература бхакти в тамильском шиваизме), он явно отличается по содержанию изложением нового типа йоги (нава-йоги), которая имеет дело с чакрами, пранаямой, париянга-йогой, символизмом и т. п. Важно, что в «Тирумандираме» в рамках Шива-йоги разработана также и аштанга-йога, и как источник он необыкновенно информативнее, чем «Йога-сутры» Патанджали. Это самый первый трактат на тамильском языке по Шива-йоге, ранее известной как Кундалини-йога, заложивший основы новой традиции. Тирумулар называет йогов, практикующих Шива-йогу, непосредственно сиддхами. Они суть дживан-мукты, пребывающие в телах после достижения освобождения, или йоги, стяжавшие бессмертие. Дживан-мукти – это состояние воплощенной премудрости, при котором йогические достижения вполне преображают все аспекты человеческого существования. Тирумулар обозначает дживан-мукту термином чомбар, который буквально на тамильском означает состояние прозрачности. Быть освобожденным при жизни – значит стать Шивой, или Высшей Абстракцией, неограниченной формой или временем, что в смысле духовно-телесной реализации полностью совпадает с последней целью практики натхов.
Примечательна гипотеза Д. Г. Уайта, согласно которой сами натхи почитают Тирумулара под именем Муланатха, которое встречается в тантрах наряду с Адинатхом и при проведении параллелей в различных списках оказывается едва ли не тождественным самому Матсьендранатху – ученику бога Шивы и учителю Горакхнатха, основателя натха-сампрадаи. Таким образом, оба истока хатха-йоги сплетатся в некую единую традицию, и не случайно данный исследователь склонен различать их как натха-сиддхов и раса-сиддхов, где «сиддхи» выступает общим обозначением для всех средневековых мистиков, занятых созиданием «алхимического тела». Тирумулар выступает представителем в линиях передачи как девяти натхов, так и восемнадцати тамильских сиддхов, также известных как ситтары. В «Тирумандираме» он определяет сиддха как того, «кто изведал божественные сияние и мощь внутри себя посредством йогического воссоединения до целостности (самадхи)». Чрезвычайно интересны предания о том, что Нанди (Шива), учитель Тирумулара на горе Кайлаш, был буддийским монахом, а другой из восемнадцати сиддхов Богар – странствовал в Китай. Это позволяет проводить параллели и связывать воедино идеалы телесного преображения в еще более широком спектре традиций – в даосизме, буддизме и шиваизме – но мы воздержимся, в отличие от Говиндана, от столь смелых выводов.
Согласно тамильским исследователям «Тирумандирама», дживан-мукта подобен плоду тамаринда, у которого кожура отстает от мякоти, словно свободная одежда. Дживан-мукта не умирает физически, а преобразуется в пара-мукту, наделенного дивья-дехой, то есть божественным телом из света и блаженства, которое ничем не отличается от состояния бытия и становления единым с вечным сознанием. Иными словами, дживан-мукта не умирает, чтобы достичь освобождения, а полностью преображается в сам способ телесного освобождения – дивья-деху. Когда же дживан-мукта окончательно переходит в дивья-деху, он воссоединяется с Вечностью, где обретает единство со Свидетелем Вселенной – Пара-Муктой, постоянно просветленным сознанием (калатита), запредельным ограничениям пространства и времени, и достигает «Шивости». Наглядные примеры дивья-дехи дают Шри Чайтанья, вступивший в храм Пури и обратившийся в «столп света», и Рамалинга Свамигал, обретший «Шивость» путем преображения всего себя в чистый свет. В штате Тамилнаду и поныне никто не сомневается, что все прославленные сиддхи живы до сих пор, поскольку для них вообще не существует смерти.
«Алмазное тело» в айенгар-стиле
Только в айенгар-стиле, разработанном одним из последователей Шри Кришнамачарьи с акцентом на усиленную практику асан, обнаруживается претензия на преображение тела, которую можно обозначить как «метафорическую профанацию». Однажды после очередной демонстрации асан Б. К. С. Айенгаром некий журналист назвал его «железным», но тот поправил, что по прочности его тело сравнимо не с железом, а с алмазом. Согласно его учению, тело обычного человека состоит из первоэлемента «земля», а хатха-йога позволяет трансформировать телесность на клеточном уровне, делая ее совершенно прозрачной для излучения духа. Метафорически, такое превращение тела подобно преобразованию графита в алмаз под мощным прессингом в глубине недр. Идея «лучезарного тела» действительно составляет суть подлинной традиции хатха-йоги, но никто из современных практикующих не верит в реальность полного преображения. Йога ассоциируется с безупречным здоровьем и волевым характером, иначе она вообще немногим была бы интересна, поэтому учителя редко решаются на столь смелые высказывания. Конечно, мы не находим у Айенгара претензии на превращение тела в «чистый свет» в смысле полного исчезновения вместо смерти, характерного для средневековой алхимии духа, которая и считалась подлинной хатха-йогой. Пусть стремление к прозрачности тела делает айенгар-йогу ближе к идее подлинной традиции, чем остальные стили, даже сам Айенгар не объявляет себя самореализованным в подобном качестве, сохраняя за собой право на нормальную человеческую смерть.
Айенгар-йога первой из множества современных школ хатха-йоги завоевала популярность на Западе во многом благодаря «пропсам», превращающим ее на начальном этапе в йога-терапию, и до сих пор принципы «отстройки» тела в асанах ревностно оберегаются последователями Айенгара, ратующими за «чистоту» своего стиля. Посещение айенгар-класса оставляет впечатление бесконечного страхования с помощью веревок, блоков, матов и т. п., требуещего для начала практики асан признать себя полным инвалидом, не способным вовсе ни на какие правильные телодвижения. Всякого непосвященного одолевает искреннее недоумение, каким образом йога превратила Айенгара, по его собственному определению, из «паразита» в «человека». Однако, в действительности, для самого Айенгара существует прямая связь между обвязыванием веревками и сиянием духа, ибо его метод состоит в продвижении от внешнего к внутреннему, «от поверхности кожи к сокровенной самости», и в конечном счете каждая пора кожи на теле должна стать «глазом» божественного Наблюдателя. Призыв переходить «от фактов – к сути» роднит Айенгара с древними провидцами, которые получали истинное знание путем длительного углубленного самосозерцания. Именно эта «любовь к фактам» заставляет учителей айенгар-йоги отслеживать малейший сдвиг кожи на теле.
Биография самого творца данного стиля хатха-йоги в значительной мере проливает свет на кажущуюся необъяснимость перехода от запредельного к примитивному и требует отдать должное его искренности. Хотя Айенгар и считается почти «самоучкой», особенности его стиля были заложены в период недолгого ученичества у прославленного йогачарьи Шри Кришнамачарьи, а его позиция по отношению к натхам и сиддхам уже обозначена. Когда речь заходит об истоках его учения, сам Айнгар настаивает, что он не «сам себя сделал», а его судьба была последовательно сформирована настойчивой практикой. Переломные моменты его жизненного пути, вынуждавшие совершенствоваться в йоге, являются решающими для понимания его методов преподавания. Ведь только человек, на личном «горьком» опыте испытавший неприемлемость освоения йоги приступом, мог ввести столько вспомогательных средств в обычной практике до среднего уровня. Айенгар неизменно делает упор на «искусство осторожности», начиная с предписания имитации выполнения асан для немощных, а далее настаивая на частом возврате к простейшим асанам, даже после освоения сложнейших из них. Основания для подобной дотошности становятся очевидны, если познакомиться, через какие испытания пришлось пройти самому мастеру в асанах.
Первый невероятный факт биографии Айенгара состоит в том, что сияние духа оказывается способно прорваться сквозь болезненное тело, поначалу травмируя его еще больше. Учитель показал ему сложнейшие асаны, которые обычно выполняют после долгих лет регулярной практики, и дал несколько дней, чтобы довести их до совершенства и демонстрировать. Уникальное сочетание внешней слабости и внутренней силы объясняет то обстоятельство, что «безнадежный» ученик оказался в состоянии выполнить то, от чего ранее сбежал наилучший. На демонстрации он старался изо всех сил, буквально вгоняя тело в невообразимые формы. Так Айенгар навсегда стал йогом, хотя боли во всем теле мучили его еще долго. Вслед за тем произошла новая непостижимая для традиционного обучения перемена: после демонстрации Шри Кришнамачарья решил изменить свою оценку и начал учить йоге «неизбранного». Так, Айенгар в самом начале получил поистине уникальный опыт: усилие, приложенное к изменению личного тела в отдельности, закономерно приводит к изменению совокупности обстоятельств, удерживающих тело в прежних границах. Далее это влияние стало расширяться почти стремительно для обычной размеренной индийской жизни: всего за два года болезненный юноша проделал путь от негодного ученика до признанного учителя, что следует признать за полную неосновательность или гениальность.
Всмотревшись пристальнее в тот период обучения, по окончании которого всякий ученик обыкновенно стремится передать то, чему он научился, здесь мы увидим прямо противоположный случай. Айенгар впоследствии сознательно шел «от противного», стремясь избавить уже своих учеников от повторения собственного опыта, – предпочитая перестраховаться, нежели переусердствовать. Он еще долго находился в неразрешенном противоречии между учителем и собственным телом, подверженном земным законам разрушения. Так, он неоднократно просил учителя научить его пранаяме, но неизменно получал отказ. Основываясь на том, что ему удалось запомнить, он приступил к самостоятельным занятиям пранаямой. Первые шаги давались с трудом: если он делал глубокий вдох, то сил на растянутый выдох не оставалось. Когда же он перестроил практику асан и сделал акцент на наклоны вперед, дыхание начало поддаваться контролю. После прогресса в пранаяме Айенгар начал терять сознание в асанах, но продолжал занятия. Его упорство было вознаграждено: следующие двадцать лет стали «золотым веком» телесности. Тогда Шри Кришнамачарья, в соответствии с традицией, велел снизить физическую нагрузку и медитировать. В итоге, постепенно тело Айенгара начало «сдавать позиции».
Основной вопрос, который всю жизнь решал Айенгар, оттачивая методы практики, звучит так: «Где пролегает путь от гибкости тела к божественности разума?» Выполнение асан и пранаям не самодостаточно, а учит концентрироваться на любом предмете по собственному выбору и развивает способность различения между реальным и нереальным. Практикующий отделяет в восприятии существенное от случайного и достигает не только физической устойчивости, но и душевного равновесия. Расслабление позволяет разуму быть наедине с собой в состоянии чистоты, недостижимого при недостаточной проработке телесности. Истинная релаксация повышает одновременно как восприимчивость к божественному, так и «вместимость» тела и сознания. Такое отношение проясняет связь «гибкости» с «божественностью» и оправдывает значение, которое уделяется долгой работе в асанах, где акцент делается на выстраивание правильного положения тела. Ответом на основной вопрос Айенгара становится основной тезис айенгар-йоги: «Пока не достигнута свобода тела, о свободе духа и говорить не приходится». Медитация – дело сугубо личное, такому состоянию нельзя научить технически, ибо в нем каждый остается наедине с абсолютным Духом. При слиянии с божественным человек уже не осуществляет никаких нарочитых телодвижений.
Итак, все восемь ступеней древней йоги, начиная с дисциплины и кончая просветлением, преподаются посредством методов хатха-йоги. Техническое введение Айенгара «коэффициент сложности» при выполнении асаны учитывает не просто трудность принятия физической формы, а доступность выполнения заданной работы с чувствованием и осознанием. Айенгар уделяет особое внимание трем уровням в практике асаны: конативному, когнитивному и рефлективному. Внешнее копирование положения тела в асане – это конативное действие, обусловленное способностью к волевому импульсу, или проявлению активности разума. При физическом выполнении позы органы чувств начинают ощущать, что именно происходит теперь с телом, – это когнитивное, или познавательное действие. Третья стадия наступает, когда разум наблюдает связь познавания кожей с управлением плотью, и практикующий не просто чувствует, а осознает асану. Разум действует как посредник между движениями мышц и чувствами, налаживая связь со всеми частями тела и анализируя ощущения – это рефлективное действие. Наконец, когда достигается полнота ощущений в деятельности, все три уровня практики сливаются воедино в полноте осознания – от внутренней сути до поверхности кожи, – в чем и заключается духовная практика в айенгар-йоге.
Резюме практики Айенгара, обозначающее границы айенгар-стиля, выражено в его словах: «Я хочу умереть с сознанием того, что сделал все возможное с телом, которое у меня есть».
IV. Фоновый шиваизм-тантризм
Вышеупомянутые истоки хатха-йоги коренятся в более обширных традиционных полях шиваизма и тантризма, несмотря на попытки современных учителей хатха-йоги возводить ее к классической йоге (одной из шести даршан) и ведантической традиции в целом. Только Свами Сатьянанда Сарасвати из Бихарской школы йоги упоминает о тантрических корнях хатха-йоги, добавляя тантру к синтезу йоги и веданты, одновременно отмечая стремление прочих учителей отмежеваться от всякой связи с тантрой из-за ее «дурной репутации» в форме вамачары. Практикующие асаны и пранаямы нередко воспринимают шиваизм и тантризм как совершенно иные формы реализации. Однако, продвигаясь вглубь веков в обратном направлении развития хатха-йоги и минуя на этом пути традиции натхов и сиддхов, мы погрузимся в ритуальные основы практики. Большинство внутренних техник, начиная с жертвоприношения дыханием (пранаямы), были созданы интериоризацией внешних ритуалов. Шива считается первым йогом и представляет собой прототип хатха-йога, а шиваизм – наиболее «йогическое» из всех течений индуизма. Шиваитские мантры лучше всего подходят для практики йоги, а места паломничества шиваитов выступают для хатха-йогов «местами силы», откуда они черпают энергию для практики. Здась приводятся краткий отчет о паломничествах по шиваистским святым местам и обзоры двух систем – кашмирского шиваизма и тантрической ваг-йоги, учителя которых проживают в Варанаси – самом шиваистском городе Индии. Всматриваясь во взаимную дополнительность шиваизма и тантризма, я постараюсь обращать внимание на точки соприкосновения с хатха-йогой.
По шиваитским святым местам
Кедарнатх – древнее место индуистского паломничества, наиболее притягательное для шиваитов и хатха-йогов, ибо там находится древнейший храм Шивы. Также, по преданию, в окрестных горах навсегда исчез Шри Шанкарачарья, что делает их священными и для ведантистов. Однако это не постоянное место для жизни, ибо дорога «наверх» закрывается на зиму, когда Гималаи завалены глубоким снегом. Обычно путь для паломников открывают в конце апреля и закрывают в начале ноября, но сезон муссонов делает Кедарнатх малодоступным летом, когда дороги бывают совсем размыты и перекрыты оползнями. В поселке Гауриконд кончается дорога и начинается крутой подъем по мощеной плитами тропе протяженностью около полутора десятка километров до самого Кедарнатха, почти вплотную к которому застыл сползающий вниз ледник. Индуистская культура паломничества сосредоточена на даршане – видении святая святых храма, которое занимает всего пару секунд. Никого не интересует внешнее: вереница индийцев на тропе плавно переходит в очередь к храму в Кедарнатхе, откуда многие без задержки спускаются вниз и снова садятся в автобус, направляясь в следующий пункт. Я заходила в храм ради даршана всякий раз поздно вечером, чтобы не отстаивать длинную очередь босиком на обледеневших каменных плитах.
Кедарнатх – это первый из пяти «кедаров» (шиваистских храмов), которые вместе носят название Панч-Кедар, но об остальных ныне помнят немногие даже среди правоверных индуистов. Два года спустя после посещения Кедарнатха я побывала в двух следующих – Мадхьямахешваре и Тунгнатхе, к которым ведет уже совершенно безлюдная тропа от деревни к деревни, где встречаются лишь редкие путники и почти никогда западные туристы. Мы ходили вместе со Свами Пранавом из Ришикеша, что сильно облегчало общение с местным населением на хинди и устройство на ночлег в деревнях. Однако в самих местах паломничества было слишком холодно оставаться долее чем на одну ночь, поскольку все кедары находятся на значительной высоте – от 3500 до 4500 м. К тому же неожиданно Гималаи завалило снегом, и вместо посещения двух последних кедаров (Рудранатха и Кальпешвара), расположенных в наиболее труднодоступных отдаленных местах, мы со свамиджи решили спуститься в Гопешвар, где тоже находился древний храм Шивы и его знаменитый Трезубец. Вообще, по дороге почти в каждой деревне расположен небольшой шиваистский храм или хотя бы открытое святилище с Лингамом.
Шиваиты веруют, что вместо тяжелого паломничества в Кедарнатх достаточно посетить Кедар-мандир в Варанаси. Как известно, в Вишванатх-мандир – главный шиваистский храм в «городе света» – не пускают иностранцев, тогда как в Кедар-мандире можно даже посетить святилище и провести пуджу. Он связан с Кедарнатхм, поскольку там тоже почитается так называемый «нерукотворный» Лингам – выступающая из земли остроконечная вертикальная вершина скалы. Варанаси в целом – город Шивы, где умершие и кремированные сразу достигают освобождения, и дух шиваизма как разрушения и разделения пронизывает самый воздух, так что в городе сложно жить длительное время. Но не случайно учителя шиваизма и тантризма, о который пойдет речь ниже, проживают именно в Варанаси. К тому же город наводнен нищими, особенно престарелыми, которые обитают прямо на гхатах (набережных) священной реки Ганги в ожидании своей кончины и скорейшего освобождения. Ныне там на каждом углу преподают хатха-йогу, хотя уровень практики асан преимущественно крайне низкий. Но учителей, способных демонстрировать сиддхи, мне доводилось встречать тоже только в Варанаси. В целом, это странное место содержит самый сильный «концентрат» шиваизма, который можно встретить где бы то ни было вообще по всей Индии.
Тем не менее, по всей стране существует множество шиваистских святынь, а храмы в Южной Индии отличаются совершенно иной архитектурой. Особенно почитается древний храм в Рамешвараме – изначально вишнуитский, а впоследствии ставший шиваистским. Значимость его столь велика для настоящих паломников, что даже Свами Вивекананда отложил свое путешествие в Америку, пока не посетил Рамешварам как последний пункт монашеских скитаний. Это огромный храмовый комплекс, где расположено множество «колодцев», каждый из которых символически содержит воды священных рек и праягов (почитаемых мест слияния двух рек). Прежде чем паломник будет допущен в святилище, он должен пройти по всем источникам и принять омовение во всех «святых водах». Обычно священнослужитель с ведром на длинной веревке сопровождает группу паломников, останавливаясь возле каждого колодца и окатывая по очереди каждого с головы до ног. Как во многих храмах, «святая святых» запретна для иностранцев, однако в самый последний день моего пребывания в Рамешвараме мне неожиданно предложили пройти полный обряд омовения и все же допустили к лицезрению Лингама. Времени уже не оставалось, и в поезд я села в мокрых одеждах с красным пятном во весь лоб. Впрочем, индийцев этим не удивишь.
Древнейший шиваистский храмовый комплекс (восьмого века) находится также в городке Тируванамалаи под горой Аруначалой, прекрасно известной благодаря пребыванию на ней Шри Раманы Махарши на протяжении всей жизни. По индуистским преданиям, сама гора Аруначала представляет собой воплощение бога Шивы, и множество аскетов и мудрецов веками населяли это священное место. Во время праздника Шиваратри на вершине горы разводят огромный огонь, полыхание которого видно во всей округе, а вершина на весь год остается обугленной до черноты. Махарши всегда поощрял преданных на совершение прадакшины – древнего ритуала обхода вокруг Аруначалы, и даже старикам он советовал проделать этот путь, хотя бы совсем замедленно. В индийской традиции данный ритуал входит в любое богослужение: когда вы входите в храм, нужно хотя бы раз обойти по ходу солнца вокруг святыни, а в данном случае целая гора почитается как святыня. Махарши называл Аруначалу духовным центром мира – сердцем земли, причем именно сердце он считал вместилищем истинной Самости, отвечающей всякому человеку на искренний вопрос: «Кто я?» Как-то вечером, когда преданные собрались совершать прадакшину, один из них почувствовал, что не в силах проделать столь долгий путь, поэтому поспешил трижды обойти вокруг Махарши. Тот улыбнулся понимающе: «Обойди вокруг самого себя, и это будет настоящая Атма-прадакшина».
Множество храмов посвящено супруге Шивы – Богине Парвати, а некоторые храмы – им обоим вместе. Примечательно, что многие храмы оспаривают право считаться местом их бракосочетания, и один из них в поселке Триюги-Нараяна я посетила еще на пути в Кедарнатх. Относительность священной географии проявляется и в данном случае. Никто не помнит, когда был построен храм, но считается, что в нем тысячелетиями поддерживается тот самый священный огонь в том же самом священном очаге, перед которым состоялось венчание богов, осуществленное самим Нараяной – богом богов. Каждый паломник подкладывает полено в неугасимое пламя, делая свой вклад в увековечивание божественного союза. На противоположном конце Индии – на самой южной точке под названием мыс Каньякумари – находится трагическое место, где согласно древним Пуранам, божественная Мать в совем прежнем воплощении как Ума Кумари совершала суровое подвижничество, чтобы удостоиться бракосочетания с богом Шивой, но безнадежно. По сию пору на скале, где она сидела, каждый день возлагается свежая гирлянда цветов. Множество других менее важных храмов связаны с конкретными мифологическими сюжетами.
Смысл даршана в шиваистском храме сводится к переживанию присутствия чистого сознания в материальном мире. Шива есть само чистое сознание, а Лингам – просто абстрактная «отметка», что в данном месте присутствует чистое сознание. Однако это не означает, что шиваиты самосознательны только в храмах, скорее наоборот, посещение храма выступает частной внешней формой выражения осознанности вездесущности сознания. Шиваиты очень любят следующую притчу о Лингаме. Ученик отправился в лес в поисках учителя и нашел его спящим, положив ноги на священный Лингам. Когда он разбудил учителя и указал ему на неподобающее действие, тот охотно передвинул ноги в сторону и положил их на пустое место, но и там сражу же оказался Лингам. И куда бы он не отодвигал свои грязные ноги, всюду под ними появлялся Лингам. Наконец, ученик совсем отчаялся и положил ноги себе на колени, и в тот же момент он сам превратился в Шива-Лингам! Тогда он осознал истину, и учитель отправил его домой с богом. Целую философскую школу, построенную на осознании избыточности любых внешних практик и на передаче чистого осознания путем непостредственного шактипата от учителя к ученику, составляет кашмирский шиваизм, к рассмотрению которого мы переходим, возвращаясь тем самым в шиваистский город Варанаси.

Фото 16. Храм Шивы в Кедарнатхе (Фото Михаэля Джекеля)

Фото 17. Свами Пранав возле храма в Мадхьямахешваре

Фото 18. Тунг-натх – третий из пяти кедаров