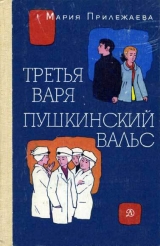
Текст книги "Пушкинский вальс"
Автор книги: Мария Прилежаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
13
Василий Архипович стоял в дверях бригады, встречая рабочих на вечернюю смену, вернее, дневную: было без четверти два. Строго заложив правую руку за борт халата, он буркал:
– Здравствуйте. Проходите.
– Василий Архипович, вот так сюрприз! Василий Архипович, на десятиминутке обсудим?
– Проходите, проходите!
Он не глядел прямо в лицо, и девушки, как бы чего-то конфузясь, уторапливали шаг и, собравшись группами возле конвейера, лихорадочно шептались, поминутно обращая взоры на дверь. Пришла Настя, шепот умолк. Конвейер еще не работал, регуляторы не отбивали свое однообразное «тук-тук», наступила настороженная тишина.
Всем было слышно, как мастер сказал:
– Товарищ Андронова, ступайте к моему месту и ждите.
– Чего ждать, Василий Архипович?
– Прошу без расспросов подчиняться приказаниям мастера.
Издали в кружке девушек Настя увидала Галину. Галина отвернулась. Настю провожало молчание, пока она шла вдоль конвейера в тот дальний угол, где были стол, кабинет, канцелярия и «капитанский мостик» Василия Архиповича. Похожая на доброго доктора, технолог в шумном халате при встрече виновато потупилась, не назвав ее дорогушей.
Пазухина, напротив, осторожно, но с любопытством кивнула. Все это было непонятно и странно. Настя боялась споткнуться.
Она пощупала карман халата. Димкино письмо было с ней. Но Настя боялась споткнуться.
Звонок. Началась ежедневная жизнь бригады. Все занялись своим делом. Мастер не подходил.
«Что еще за напасть надо мной!» – в недоумении думала Настя, сидя у стола, где ей приказали, и не веря напасти, хотя признаки были слишком тревожны, особенно то, что отвернулась Галина.
Мастер не спешил к своему руководящему месту, неподалеку от рупора. Насте начинало казаться: он медлит нарочно, подолгу задерживаясь то у одной, то у другой операции. Она старалась думать о Димке и его сумасшедшем письме (милый Димка!), но тревожилась и недоумевала все больше. Чтобы убить время, она стала разглядывать папки на столике Василия Архиповича и увидела развернутый лист многотиражки.
«Конвейер или читальня?» – бросился в глаза заголовок, подчеркнутый красным карандашом.
Кровь отлила у нее от лица. Сердце застучало редко и тупо, словно хотело пробить грудную клетку.
«Все кончено. Окончательно кончено все! Нельзя больше жить. Все кончилось», – бессмысленно вертелось в мозгу, пока, не смея взять в руки газетный лист, Настя силилась вникнуть в фельетон Абакашина, где он негодовал и острил по поводу знаменитой (в кавычках) сборщицы Галины Корзинкиной, которая вчера отличилась (в кавычках). Что за пример для нас, кто недавно пришел на завод, для ученицы, от которой нам стало известно…
И дальше и дальше в этом же духе.
«Нельзя больше жить! Надо уйти! Надо бежать!»
Но Настя не двигалась с места. На нее нашло отупение. Кончилось, кончилось, кончилось… «От которой нам стало известно…»
Весь завод читает фельетон Абакашина. Вот он, гром! А хороша штучка, эта ученица Корзинкиной? «Галина, не могу больше жить. Я действительно не могу. Вообще не могу, не только у нас на заводе».
Она сидела на табурете возле столика Василия Архиповича бог знает сколько времени, окаменев. Наконец он подошел, обдумав, должно быть, свою речь.
– Товарищ Андронова, – не суровым, а каким-то непривычным для него сконфуженным тоном начал он, садясь против Насти и избегая смотреть ей в глаза, а уставив замороженный взгляд выше переносицы, в одну точку. – Товарищ Андронова, в вашем праве использовать прессу для разоблачения и борьбы… Я сам комсомолец и понимаю значение прессы и принципиальной борьбы… и сделаю выводы… Я рассчитывал, Корзинкина идет на подъем… но этот вопиющий и неслыханный факт, освещенный на страницах газеты… Хотя Корзинкина исправила брак… тем не менее… но…
Оказалось, он не подготовился к речи. У него в голове неразбериха, и нет позиции и своего авторитетного мнения, ему противно, противно, противно, и все! Напрасно он тогда послушался начальника кадров, подсунули ему змею подколодную. «Вместо того чтобы поставить вопрос напрямик перед бригадой и той же Корзинкиной, потихоньку в многотиражку и шепотком? А кто тебе велел Корзинкиной подчиняться, если видишь, что девчонке дурь в голову кинулась? Кто тебе велел ее подменять, когда руки – крюки? Корзинкина одна за вину отдувайся, а ты в сторонке, ты ни при чем, ты чистенькая, ты ангелочек?» Он передвинул лупу на лбу и, ненавидяще глядя в переносицу Насти:
– А все-таки подлость!
– Подлость! – крикнула Настя. – Василий Архипович, милый, дорогой, научите, как быть?
Он вытаращил на нее глаза.
В это время заиграло радио. Передавали музыку для производственной гимнастики. «Руки на бедра! Раз-и-два. Приседание. Раз-два-и…» – приятно и звучно дирижировал дикторский тенор.
На десять минут бригада превратилась в гимнастический зал. Василий Архипович усердно приседал вместе со всеми, вращал корпусом и в изумлении косился па Настю, которая одна оставалась сидеть. По ее щекам медленно стекали крупные слезы. Василий Архипович почувствовал вдруг освобождение, непонятную легкость. «Змея подколодная» плачет!..
Но весь этот день был полон неожиданных событий. Гимнастика продолжалась. «Руки вверх, наклон в стороны. Вправо, влево, раз, два, три!» – дирижировал жизнерадостный тенор, когда посреди музыки раздался громкий голос Галины:
– Товарищи! А где наш Давид Семенович?
Старого декатажника не было.
– Не срывайте оздоровительных упражнений, Корзинкина! – строго остановил мастер.
– Подумаешь, упражнения! Где он? Почему его нет? – Галина бросила гимнастику и, лавируя между лесом плавно колыхавшихся рук, шла к столику Василия Архиповича.
«Прошу не вносить беспорядок, товарищ Корзинкина!» – хотел прикрикнуть Василий Архипович, но беспорядок разразился внезапно.
– Рисуешься, Галина, заботами о Давиде Семеновиче, – как всегда хладнокровно и веско промолвила Пазухина. – Лучше позаботься, чтобы нас на весь завод не срамить.
Галина круто обернулась. Веснушки ее побледнели.
– Тебя, Пазухина, не осрамишь, ты у нас монумент.
– Дело не во мне, а в бригаде. После сегодняшней газеты вправе мы объявить, что боремся за коммунистическую? Из-за тебя на всей бригаде пятно.
С этого началось. Кто-то раньше срока выключил радио, гимнастика полетела насмарку; подвернись в ту минуту начальник цеха или другое начальство, доверие к Василию Архиповичу подорвано, подорвано безвозвратно! Доконает его эта бригадочка миленькая со своим десятилетним образованием и вольностями!
Со всех сторон неслись крики и неорганизованные реплики, так не любимые Василием Архиповичем.
– Не то пятно увидела, Пазухина!
– Она рада, что Галину подрезали. А что ей еще.
– Ей с многотиражкой спорить нельзя: там ее портреты печатают.
– Пазухиной и коммунистическая для того нужна, чтобы самой вперед выскочить. С Андроновой под руку. А мы не доросли.
– Пусть нам скажут: одно перевыполнение на коммунистическую тянет или еще что? А пока погодим.
Словом, в бригаде Василия Архиповича разбушевалась стихия. Он, красный как рак, не знал, чем утишить страсти, пока не сообразил пустить в ход конвейер.
– Вопрос о коммунистической бригаде обсудим на комсомольском собрании. По рабочим местам! Пускаю конвейер.
Конвейер заработал, и в бригаде восстановился порядок. Только Галина замешкалась возле столика мастера. Стояла, некрасивая, оттопырив нижнюю губу, и чертила пальцем на столике зигзаги.
– Галина! – позвала Настя.
– Корзинкина, – не глядя поправила Галина. – Ловко ты меня на чистую воду вывела!
– Галина! Даю комсомольское слово: нечаянно.
– Нечаянно?! И сидишь молча, как мастер велел, и не закричала на весь цех, а я думай, что хочешь, про нашу бывшую дружбу… Гадай, кто ты такая. Кто ты такая? Можно тебе верить? – спросила Галина, удивленно подняв короткие бровки.
– Верь! Завтра я все скажу на комсомольском собрании.
– Я сама все скажу. Удивительно, почему Давида Семеныча нет? – добавила Галина с напряженным лицом. И ушла на конвейер.
Василий Архипович потерял голову за сегодняшнее утро. Как действовать с ученицей Галины Корзинкиной? Посадить на прежнюю операцию – монтировать вилки? Пойдут объяснения, наделают брака. Перевести на другую операцию? Встретят непозволительной в рабочей обстановке враждой, и опять же брак: живые ведь люди, с психологией. Не автоматы.
«А не бегала она в многотиражку разоблачать по секрету Корзинкину, – хмуро подумал Василий Архипович. – Корреспондент этот шастает тут… По-настоящему надо бы закатить выговор Корзинкиной, пропесочить на комсомольском собрании. И пропесочу. До чего дело дошло – на конвейере читальни устраивают! Правильно, что в многотиражке протащили за такое кощунство. Что же мне предпринять?»
Василий Архипович, насупившись, перебирал свою канцелярию и без надобности листал книгу взысканий, с гневом задерживаясь над страницей под буквой «К», расписанной грехами Галины Корзинкиной, как вдруг в голове его блеснула мысль. Послать ученицу к Давиду Семеновичу! Решено. От имени бригады проведаем. Не совсем по законам в рабочее время, но Василий Архипович в этот раз махнул на законы рукой. Сухо и сдержанно он объяснил товарищу Андроновой, что и как, и вздохнул с облегчением, когда поникшая, робкая фигурка исчезла за дверями. И в то же время грустно вздохнул. «Хорошо вам в механических да автоматных цехах, где рабочие – кадровики, со стажем и пролетарской сознательностью, – думал он о других мастерах. – Повозились бы, как я, с молодым поколением! А, однако, ни при чем она в этой петрушке. Обвели вокруг пальца!»
И, сердясь на свою мягкотелость и отсутствие логики, Василий Архипович всю смену был раздражен, придирчиво искал недостатки и ходил туча тучей.
На дворе было холодно. Погода перевернулась в одну ночь. С утра было ясно, под ногами трещали намерзшие на тротуарах лужицы, а сейчас небо затянуло серыми тучами, и полетели реденькие, сухие, как крупа, снежинки.
Выйдя из завода, Настя подумала, что надо было зайти в многотиражку и при всех сказать Абакашину, что он гадко поступил, хуже, чем вор. Что он любит стихи и искусство, а хуже, чем вор. Надо поговорить с ним презрительно, как мама говорила с Небыловой, и не разреветься при этом. И во время гимнастики надо было быстро объяснить, как все получилось, а у нее перехватило голос, полились слезы, и сразу не захотелось жить. Как чуть что, ей не хочется жить. Другие смело кидаются в бой. А она вот какая, любуйтесь! Не волевая и слабая. И все ей нужно, чтобы кто-нибудь защищал. А чтобы самой защищать других и себя от несправедливостей – этого нет.
«И надо сказать на комсомольском собрании: Галина виновата, а я еще больше Галины виновата. Галина увлеклась „Гранатовым браслетом“, а мне бы ее сдержать. И не было бы брака. И еще я скажу, что хочу добиваться коммунистической бригады, что Галина – новатор, будет осваивать все операции, а не повторять все время один монтаж анкерной вилки. И что я привыкла к заводу. Вдруг бы очутилась одна, без нашей бригады? Одна? Без бригады? Нет, нет! Проснусь утром и рада, что есть завод. И даже Васенька наш, такой придира, мне нравится».
От этих мыслей, постепенно вносивших порядок в ее расстроенную душу, и от морозца, который становился сильней, румянил ей щеки и по-зимнему пощипывал нос, Настя ободрилась. Ей уже хотелось не плакать, а действовать. Скорее распутать эту мутную историю, освободиться! И написать Димке.
«Что я напишу? Что будет дальше? Как мы будем? Не знаю, не знаю. Я знаю, что люблю Димку. И все хорошо. Вспомню Димку – и все хорошо и не страшно. Значит, я его люблю. Сейчас посоветуюсь с Давидом Семенычем. Давид Семеныч рассердится за „Гранатовый браслет“. Пусть рассердится, пусть бранит! Пусть выступит на комсомольском собрании. „Вы не можете понять эту новую жизнь“, – скажет он на собрании».
Незаметно Настя добежала до улочки, упиравшейся одним концом в обрыв над рекой. Улочка оголилась за эту ночь. Заморозком сбило последние листья с тополевых саженцев, и луг за рекой открылся виднее, будто приблизился. Стога поседели от снежка. Что-то печальное было сегодня в одиноком стоянии стогов под пасмурным небом.
Настя перебежала тесный, захламленный дворик. Длинный, как в гостинице, коридор с множеством дверей был безлюден. Она постучалась к часовщику, там не откликнулись. Постучала сильнее и, не дождавшись ответа, потянула дверь. Дверь отворилась.
Часовщик, в подтяжках, как прошлый раз, в клетчатой рубахе с расстегнутым воротом, сидел у стола, подперев кулаками голову и дугой согнув спину, на которой острыми клиньями выступали лопатки. Казалось, он спал.
– Давид Семеныч! – окликнула Настя.
Он очнулся и, не узнавая, с тупым равнодушием на нее посмотрел.
– A-а, – протянул он.
На столе перед ним лежали листочки бумаги. Он вялыми движениями принялся их собирать, ронял, ему не удавалось засунуть листочки в конверт.
– Вы заболели? Давид Семеныч, отчего вы молчите? – спросила Настя.
Он не ответил. Настя увидела: той фотографии, которая так ужаснула ее, сегодня нет возле портрета Леночки. Вместо фотографии на стене темнело невыцветшее пятно обоев.
Часовщик перехватил Настин взгляд, но ничего не сказал, только беззвучно пожевал губами. На подбородке и впалых щеках его вылезла редкая щетина бороды, от седой щетины лицо было серо.
– Давид Семеныч, вы больны, ложитесь в постель, я вам помогу, ложитесь, пожалуйста! – пугаясь его безжизненности, сказала Настя.
– Давай помоги, – послушался он.
Настя подгибалась под тяжестью его костлявого тела, бессильно навалившегося ей на плечо. Насилу довела его до постели, сняла с ног шлепанцы и укутала одеялом. Он вздохнул и закрыл глаза.
«Надо вскипятить чаю, согреть его, он совсем ледяной. Позвонить на завод или постучать соседям, ведь он очень болен», – соображала Настя.
– Не уходи. Сядь, – велел часовщик.
Настя в нерешительности села возле кровати. Разумнее было бы позвонить в бригаду, чтобы прислали врача, или хотя бы вскипятить чайник.
– Не уходи. Так хорошо, – повторил он.
И лежал с закрытыми глазами. Маятник стенных часов в деревянном футляре бездушно раскачивался, считая секунды. Бездушно и важно. Часовщик лежал не шевелясь. Настя решила, что он заснул, и хотела потихоньку выйти в коридор и сказать соседям. Внезапно он открыл глаза.
– Пани Марина из Кракова нашлась.
– Давид Семенович! Я так и предчувствовала, что вы узнали что-то особенное! – воскликнула Настя.
Действительно, увидев темное пятно на обоях, она поняла: случилось что-то важное. Но что? Что?
Она притрагивалась к сморщенной, с синими жилами руке часовщика, протянутой поверх одеяла, и нетерпеливо спрашивала:
– Что вы узнали?
– Пани Марина прислала письмо. Мне надо жить, а я ослаб. Нигде не болит, а ослаб. И все качаюсь, падаю, все вертится в глазах, – заговорил он, беспокойно шевеля поверх одеяла пальцами. – Мне надо в Польшу. Освенцим, блок номер девять. Я копил деньги, много накопил. Я поклялся Варваре Степановне: скоплю денег, поеду в Польшу, отвезу Леночке цветов и родной землицы в платке. А какой нынче час? Старому человеку нельзя занеживаться. Старый человек должен крепиться и побеждать слабость, или слабость его одолеет. Пора на завод, что я лежу? Стыдно старому часовщику забыть про завод! Подай мне пиджак, пора к смене.
Он порывался подняться и казался в бреду. Он ничего не узнал нового. Он в бреду и снова без сил повалился на подушку.
Но фотография снята со стены. Но на столе надорванный конверт…
– Сиди, – велел часовщик. – Когда ты здесь, я вижу мою Леночку здесь. А где Галина? Отчего нет Галины? В такой час ее нет. Пани Марина написала всю правду. Ты слышишь, что она написала? Леночку не сожгли в крематории. Ты слышишь?
Он говорил хриплым поспешным шепотом, словно боясь не успеть, в груди у него свистело и хлюпало, он судорожно хватался за одеяло. На лбу его выступил мелкий пот, как роса.
– Пани Марина уезжала из Кракова, оттого и не было писем. А теперь вернулась и шлет мне ответ. Леночка плюнула в лицо фашисту. Ты слышишь? Это пишет старая польская женщина, благородная женщина, добрая пани Марина, которая была нашей Леночке вместо матери и видела все своими глазами. Леночка вышла на проверке из строя и плюнула фашисту в лицо. Он выхватил револьвер и застрелил. Скажи всем. Пусть знают все. Она ничего не могла больше со своими слабыми детскими силами и плюнула фашисту в лицо. Ах какое мне отпущение! Если бы Варвара Степановна получила это письмо! Она заплакала бы, но слезы не выедают глаз, когда смертью дочери гордишься. Скажи всем.
Он устал, веки у него сомкнулись. Пальцы устали перебирать одеяло. Он лежал неподвижно. Под одеялом рисовалось длинное, тощее тело. Голова, запрокинувшись, утонула в подушке; подбородок, в серой щетине, торчал кверху. Кажется, он засыпал.
– Давид Семеныч, вы поедете в Польшу, встретитесь там с пани Мариной, – тихо приговаривала Настя, поглаживая край одеяла. – А сейчас отдохните. Ваша Леночка смелая. Как жаль, что я не знала ее! Мне кажется, я ее знала. Я расскажу всем. Завтра же расскажу на комсомольском собрании. А вы отдохнете и скоро поправитесь. Я вскипячу вам чаю…
Он разомкнул веки, и, как со дна колодца, из глазных впадин поглядел на Настю тускнеющий взор.
– Галина, я умираю, – отчетливо вымолвил он, удивленно к чему-то прислушиваясь.
Она вскочила и закричала так страшно, что не узнала себя, и выбежала из комнаты.
– Помогите, помогите!
Она поняла: он умирает. Помогите, спасите его! Спасите, спасите! Она кричала и бежала вдоль коридора, стучась в чужие двери.
Двери захлопали. Появились люди. Из кухни выскочила растрепанная черноволосая женщина с цыганским лицом и бессмысленно металась, прижимая к груди кастрюлю:
– Батюшки, а я думаю, он на заводе. Слышу, тихо, и ни к чему, что утром на кухне его не видать!
– У кого есть валидол? Дайте ему валидол! Валидол ему от сердца дайте! – громко требовал кто-то.
Плотный лысый мужчина в роговых очках твердой походкой прошагал к комнате Давида Семеновича, но не вошел. Заглянул с порога и, обернувшись к Насте, спросил осуждающим тоном:
– Что вы стоите? Что вы не бежите за доктором? Через улицу автомат, в магазине. Живо!
Настя, как была, побежала через улицу в магазин. Она забыла деньги в кармане пальто. У нее был такой дрожащий странный вид в одном платье, что вокруг собрались люди, и, соболезнуя, совали ей мелочь, и сбивали с толку советами.
– В «скорую» звони, девушка! Человек при смерти, требуй «скорую», мигом прискачет.
– Поскачет вам «скорая»! Она с улиц подбирает, а кто в постели кончается, не ее забота.
– Районную надо звать. Звони в районную.
– Чего там в районную! Пришлют девчонку с банками. Специалиста надо, солидного.
Никто не помнил телефона районной поликлиники, никто не знал, где добывать специалиста.
– У меня папа в институтской клинике работает, – сказала Настя.
На нее накинулись:
– Глядите, свой специалист есть, а она волынит, бессовестная! Память с перепугу отшибло? Вызывай, не тяни! Глядите, свой дома доктор, а она… вовсе глупая, что ли?
Настя преступно забыла об отце, а старик там умирает. Она позвонила в институтскую клинику.
– Старшая медсестра слушает, – узнала она голос Серафимы Игнатьевны, певучий спасительный голос.
– Серафима Игнатьевна! Папу, пожалуйста! Несчастье, папу! – молила Настя.
Голос там прервался, наступила мертвая пауза.
– Не с мамой. Серафима Игнатьевна, папу! – Настя измученно припала головой к телефонному столику. – Серафима Игнатьевна, не с мамой.
– О-ох, – шумно долетело в трубку. – Грохнет, как дубьем по голове, так и уморить недолго.
– Папу, папу! – требовала Настя.
Отца нет в клинике. Утром был, сейчас нет. В институте? И там нет, лекции кончились. Может быть, дома. Боже мой, боже, где его дом?
Серафима Игнатьевна что-то говорила, твердила ей телефонный номер.
– Запомни. Повтори. Настюша, запомнила?
Она не запомнила. Цифры перепутались у нее в голове, как только повесила трубку. Вообразила, что и там его не застанет, – уже вечер, он мог куда-нибудь уйти, – испугалась и забыла телефон. Лучше бы уж вызвать районную. Время бежит, будет поздно.
Но дверь в телефонную будку оставалась распахнутой, у входа стояли люди и слушали ее разговор с Серафимой Игнатьевной и хором подсказывали вылетевший из ее памяти номер.
– Здравствуй, Настя! – изумленно отозвался отец.
Она так наволновалась, так была придавлена неотвратимым, поглядевшим на нее из потухающих глаз часовщика, что, услышав отца, не сразу могла заговорить.
– Настя! Где ты? – звал отец.
– Папочка, папочка! Скорее приезжай! Спаси его!
– Успокойся, Настя. Сейчас приеду, – коротко ответил отец.
Какие-то люди провожали ее обратно через улицу и двор до старинного крыльца с полукружием стертых ступеней. Кто-то набросил ей на плечи платок. Кто-то жалел часовщика:
– Натерпелся, сердешный, за жизнь! А помрет, и помянуть некому. Бобыль.
В коридоре ходили на цыпочках. Растрепанная женщина с цыганской смуглотой лица озабоченно пронесла к Давиду Семеновичу грелку.
– Где доктор? Отчего нет доктора? Никогда их вовремя нет! – возмущался лысый человек в роговых очках. Он шагал вперед и назад, закинув руки за спину, и его глаза, круглые и желтые, как у филина, глядели испуганно сквозь стекла очков.
Скоро приехал отец. Он вошел быстрой походкой, на ходу скинул пальто и бросил на стул в коридоре.
– Где вымыть руки?
Его повели в кухню мыть руки, и человек в роговых очках торопливо шагал сзади, неся его докторский чемоданчик, и вытягивал шею, слушая, что говорит отец.
– Когда случилось? Какая помощь оказана? Раньше сердечные припадки бывали? – быстро и отрывисто спрашивал отец.
Из кухни он появился так же стремительно, вытирая полотенцем руки. Настя стояла у двери. Он сунул ей полотенце и ничего не сказал. Может быть, он ее не заметил. Он взял у лысого человека свой чемоданчик. Перед ним расступились, давая дорогу в комнату, где под ватным одеялом на двуспальной кровати, запрокинув голову и уставив в потолок мутный взор, лежал часовщик с серым лицом.
– Закройте дверь, – распорядился лысый мужчина в роговых очках. – Живешь, живешь – и на тебе вдруг… – Он снова зашагал взад и вперед по коридору, и видно было, что ему тоскливо и страшно.
Настя взяла со стула пальто отца и села на стул. Она держала пальто в охапке, прижимая к груди. Пальто было знакомое, старое, из драпа-велюра мышиного цвета, и было приятно трогать его шелковистый, теплый ворс. Милое пальто! Родное пальто!
Отец в комнате часовщика, все казалось не так безнадежно. Появилась надежда. Как им уверенно жилось с мамой при папе! Когда нависала беда, они с мамой тушевались, а он действовал, он не терялся.
Долго он там! А лысый в очках все шагает и потихоньку шарит под душегрейкой.
– Вы знаете адрес этого доктора? – спросил он, останавливаясь возле Настиного стула. – Кажется, солидный специалист? Откуда вы его знаете?
Дверь из комнаты часовщика отворилась, и появились отец и черноволосая растрепанная женщина, которая взволнованно напяливала на себя шерстяную кофтенку и слушала отца, глядя на него снизу вверх. Отец втолковывал ей, куда позвонить, чтобы вызвать сестру, и какие нужны лекарства. Она слушала и с готовностью, охотно кивала. Отец вырвал из блокнота листок, что-то написал и передал ей, и она побежала бегом.
– Чтобы сейчас же, немедля! Сошлитесь на меня! – крикнул вдогонку отец.
– Ладно. И заводским сообщу.
Лысый мужчина в очках, оттесняя соседей, протолкался к отцу.
– Что? Что? Что? – спрашивал он и просительно трогал его за рукав.
– Что в эти годы бывает? Обыкновенное дело. Инфаркт, – ответил кто-то.
– Стало быть, крышка, – упавшим голосом проговорил мужчина в очках и сунул ладонь под душегрейку.
– Вы знаете, что… приняли бы вы валерьяновки, – сказал отец, повязывая шею шарфом.
