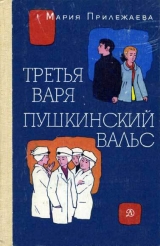
Текст книги "Пушкинский вальс"
Автор книги: Мария Прилежаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
9
Рано утром, когда она наспех дожевывала в кухне завтрак, а мама перед уходом в библиотеку готовила на керосинке обед, зазвонил телефон.
– Иди, тебя, – сказала мама.
Не спросив: «Почему меня?», Настя вприпрыжку побежала в переднюю. Она проснулась веселая. Ей интересно становилось ходить на завод, и оттого она проснулась веселая.
– Настюшка, здравствуй, Японец! – послышалось в телефонную трубку.
Как всегда, сердце ухнуло, словно в ожидании беды. Стало скучно.
– Здравствуй, папа.
Она не знала, как с ним говорить. Все тяжело: холод, отрывистость фраз, непримиримость пауз.
– Я позвонил спозаранок, чтобы застать. Помнишь, какой сегодня день?
– Нет.
– Как же так?.. Впрочем, что ж… День моего рождения. Сорок девять стукнуло. Каково? Без году полвека.
– Поздравляю, папа.
– Есть с чем поздравить! Настюха, в честь такого высокоторжественного случая изволь слушать мои приказания, не отвертишься, обязана. Вечером сегодня придешь к нам… Ко мне, слышишь, царевна Несмеяна? Ты придешь к отцу, которому нынче стукнуло сорок девять лет и которому – слышишь? (он понизил голос) – не хватает тебя, ледышка противная, сегодня особенно! Мама здорова?
– Да.
– Передай маме привет. Придешь?
– Не могу, папа. Я занята вечером.
– Ты пошлешь все свои дела и занятия к чертям и без рассуждений придешь. Или у тебя нет отца. Или… Настя! Очень прошу!
– Спасибо, папа.
– Да?
– Нет.
Он бросил трубку. Настя постояла, слушая короткие гудки.
– Настя! – крикнула из кухни мать. Вполуоборот от керосинки она выжидающе на нее смотрела.
– Папа звонил. Ты знала?
– Я так и подумала, – ответила мать.
– Сегодня день его рождения.
– Ну да, как же, конечно…
– Он шлет привет.
Мама старательно продолжала мешать ложкой в кастрюле. Настя видела сбоку ее раскрасневшееся маленькое ухо, тонкий профиль и линию шеи, совсем еще молодой.
– Что-нибудь папа говорил?
– Передал привет.
– Ничего дурного не могу сказать о твоем отце, ничего, – покачивая головой, ответила мама. – Кроме того, что случилось…
У нее опустились уголки губ в беспомощной, оскорбленной улыбке.
Настя помнит: бывало, мама стоит, вся пылая от керосинки, над желтым тазом, который целую зиму пылится среди другого хлама на верхней полке в чулане, потряхивает таз, держась за длинную деревянную ручку, и напевает на разные мотивы: «Варю варенье я на медленном огне».
Она все время собиралась поступить в библиотеку, где работала в войну.
– Тираны, отпустите меня в библиотеку, а?
Тираны не отпускали. Им было некогда, тиранам, у них уроки, институты, заседания, и им нравится, что в доме уютно и весело, в любой час прибежишь: скатерть-самобранка раскрыта.
Настя подошла к матери, молча потерлась щекой о плечо.
– Ты мало рассказываешь, Настя. Смотри, не отбивайся от рук, слышишь, пожалуйста! Где ты вчера задержалась?
– Не беспокойся, мамочка, не отобьюсь. Ах, уже поздно, пора на завод. А вчера я случайно затесалась в Дом культуры.
Если бы не завод, можно погибнуть от этих неурядиц, маминого молчания и улыбки, переворачивающей сердце, и просительного голоса отца. Отчаяться и пасть духом – и тогда пропадешь. Самое неверное в жизни – личные связи людей. Самое случайное и нелепое.
Мама умная, добрая. В ней изящество, гордость, даже при ее унизительном горе. Если уж на кого быть похожей, только на маму! Но счастья и несчастья бессмысленны. Ничего нельзя изменить.
Так говорит Насте ее короткий и опасный жизненный опыт. Она бежит из дому на завод как в пристанище. Там она стряхнет с себя оцепенение, в которое привел ее звонок отца. Выкинет из головы разговор с отцом, как и не было! Славу богу, на заводе у нее по горло своих забот. В бригаде она уже не новенькая, а ученица Корзинкиной, и как-то незаметно, без слов, у них появилась задача: доказать мастеру Василию Архиповичу, что они больше стоят, чем он их оценил, бросить вызов несравненной, захваленной Пазухиной!
Впрочем, о вызове Пазухиной пока рано говорить. Пока Настя в приготовительном классе, и Корзинкина втайне трусит при всей своей смелости.
– Не было печали, так черти накачали! – ворчит и бранится она. – Задала теорему! Обучай новый кадр, а каким методом, спрашивается? Если у тебя, небесное созданье, со смекалкой несильно, как я заметила, сядем в лужу. Хватим стыдобушки. Ну? Надели лупу. Берем пинцетом деталь.
Педагогический метод Корзинкиной состоит в том, что она радостно изумляется самому ничтожному успеху своей ученицы.
– Лупу надела! Сразу так и надела? Да ты ловкач, а я думала…
Куда там ловкач! Руки не слушаются, никак не приноровятся к пинцету. Настя таращит глаз в лупу и обливается потом, не видя детали. Она видит только свои увеличенные пальцы, толстые, как обрубки, и удивляется их неуклюжести. На рассматривание пальцев уходит минута. Корзинкина окончила одну операцию, прикрепила ярлычок, опустила механизм в накопитель. Настя шевелит шеей, стараясь набрести лупой на нужную деталь. Куда она девалась, окаянная деталь? Лупа нащупывает что-то не то, блуждает без толку. Настя внутренне стонет от сраму.
Но вот деталька подъезжает сама к ее пинцету, придвинутая инструментом Корзинкиной. Радостный возглас:
– Подцепила! Давай упражняйся ее подцеплять!
Настя гоняется с пинцетом за анкерной вилкой. Десять… пятнадцать… тридцать раз. Надо, чтобы движение стало безошибочно легким, почти бессознательным. Упражняйся, упражняйся! Вот так! У нее начинают ныть плечи. Что-то скоро, от такой чепухи! Неженка, а если бы тебя на стройку, ворочать в яме негашеную известь, что бы ты запела? Плечи ноют и ноют. Она боится спросить, когда перерыв. Понемножку дело начинает продвигаться вперед, но теперь заломило поясницу, как у шестидесятилетней старухи.
Вдруг звонок. Конвейер стал. Десятиминутка.
Настя вскакивает в непреодолимой потребности двигаться, размахивать руками, толкаться. Она с наслаждением потягивается и глядит вокруг во все глаза. Из окон видна заводская ограда, за оградой горбом поднимается улица, видны крыши домов, поредевшие сады за заборами, красные кисти рябины. После лупы все кажется большим.
– Пробежаться бы! – завистливо говорит Настя, видя в окно двух мальчишек, не спеша плетущихся вдоль улицы в школу.
– А что? – мгновенно согласилась Корзинкина. – Сгоняем для разминки в столовую ухватить по баранке, всего два пролета по лестнице!
Но мастер объявил:
– Прошу оставаться на местах для заслушания одного сообщения.
Он вышел вперед, к началу конвейера, откашлялся и сообщил, что инициативная группа сборщиц-передовиков внесла предложение убирать самим после смены помещение, а уборщицу передать в ходовой цех, где есть нужда в заготовщицах и где она приобретет специальность. Закончив свое короткое сообщение, он предоставил слово Пазухиной.
Пазухина, привыкшая к успехам и оттого спокойно уверенная, стала красноречиво развивать мысль о том, что да, мы предлагаем, что отказ от уборщицы показывает новые отношения в бригаде…
– Мы еще в школе сами класс убирали, подумаешь! – насмешливо перебила Корзинкина.
– Терпения больше нет! Будет конец вашим репликам? – крикнул мастер, раздраженно передвигая на лбу лупу.
– Галина, Галина! – с укором произнес чей-то голос.
– Давид Семеныч пришел! – закричали с конвейера.
– Здравствуйте, Давид Семеныч!
– Давид Семенович, выходите вперед, скажите авторитетное слово! – пригласил мастер.
– Отсюда скажу, – ответил Давид Семенович, стоя у конвейера позади столика Корзинкиной.
Настя впервые увидела его. Это был длинный, тощий, очень сутулый старик с крупным носом, похожим на клюв большой птицы, и влажно-черными, как вымытые черносливины, глазами. Какое-то беспокойство сидело в этих запавших, невеселых глазах, окаймленных красноватыми, воспаленными веками.
– Что за жизнь! – заговорил он неожиданным для своего высокого роста фальцетом, с хрипотцой и хлюпаньем в груди. – Разве вы можете понять эту жизнь! Была уборщицей, а станет рабочей с такой завидной профессией! Покажите мне другую профессию, которая приносила бы людям столько удобства и пользы? Раньше чиновники ходили при часах. Да купец цепочку по животу выпустит. А теперь человека нет без часов. Какой ты человек без часов! И уборщица может заделаться мастером такой красивой и полезной профессии!.. Если бы раньше мне сказали, я ответил бы: нет, это мне снится во сне. Давай бог тебе, Галина, понять эту новую жизнь, тогда ты прикусишь язык, а не станешь направо-налево кидать свое глупое «подумаешь», которое слушать сердцу больно. Раньше кому надо было уборщицу тянуть? Кому интерес?
– Правильно! – одобрительно подхватил мастер.
Он был доволен высказыванием Давида Семеновича, но, зная, что его речь может затянуться на час, перебил, поскольку десятиминутка кончилась.
– Все ясно? Одобряете инициативу передовиков?
– Одобряем.
На этом собрание закрылось, и конвейер пошел.
– Могли бы и мы с тобой какое-нибудь деловое предложение придумать. Ноль инициативы, – сказала Корзинкина.
На старика за его нравоучение она не обиделась.
– Кто он такой? – спросила Настя.
– Декатажник. Я с ним знакома по разным делам. Я и домой к нему, бывает, захаживаю. Историй про прошлое знает! Заведет часа на два, сидишь все равно что в Университете культуры, – сказала Корзинкина и без видимой связи добавила: – Можешь меня звать Галиной.
– Галя…
– Не Галя, а Галина.
– Галина?
– Вот именно.
Они замолчали, потому что увидели Василия Архиповича. Он вышел после десятиминутки из бригады. Но почему-то сразу вернулся и направлялся прямо к пим с возбужденно-озабоченным видом.
– Позабуду язык прикусить – ущипни меня за ногу, – шепнула Корзинкина. – Надоело мне его воспитание!
– Товарищ Андронова, – официально обратился к Насте Василий Архипович, – выйдите в коридор для беседы с корреспондентом газеты, который интересуется стилем ученичества на часовом производстве.
– Стилем? Хи-хи! – фыркнула Корзинкина. – Что это за тобой корреспонденты гоняются? Как бы и мне за компанию в газету не угодить! То-то было бы смеху!
– Ступайте, товарищ Андронова, – не реагируя на насмешки Галины, велел мастер, – ступайте, и, если зададут непосильный для вашей подготовки вопрос, позовите меня, я дам объяснения. Лупу снимите.
Настя сняла лупу и пошла в коридор.
– В зеркало глянься, – может, там и фотограф тебя дожидается, такую знаменитость! – крикнула вдогонку Галина.
Настя подумала, что, наверное, корреспондент газеты – Анна Небылова (должно быть, вчера Абакашин насочинял про нее журналистке всяческих сказок), и действительно увидела ее в коридоре. Небылова сидела на скамье у стены, но какая-то вся невчерашняя. На лице ее не играло, как вчера, оживление, а лежала сумрачная тень, что-то было в ней настороженное, отчего она казалась дурнее и старше, в ней не было того очарования.
– Здравствуйте, – сказала Настя, колеблясь, подавать руку или нет, и не подала. Села на кончик скамьи.
Оттого что журналистка молчала, неулыбающимся взглядом изучая ее, как, вероятно, корреспонденты изучают объекты для очерка, Настя стала несвязно оправдываться, объяснять, что это – недоразумение, право, не стоило приходить, зачем?
– Я ничего рассказать не сумею, честное слово! Да и рассказывать нечего. Я еще и техминимум не сдала, и практически… А почему вы выбрали меня? Вам лучше бы с Корзинкиной поговорить, Галиной. Она только кажется резкой, а на самом деле хорошая, очень хорошая, и работает – ну, может, чуть похуже Пазухиной, а может, и не хуже, не понимаю, чем хуже? За конвейером успевает, чем же хуже? Вам, наверное, Абакашин про меня что-нибудь насказал? Так он выдумал, он ведь тоже у нас корреспондент, вот и придумывает, чего на самом деле и нет.
Она спохватилась, что сказала лишнее, возможно, обидное для журналистки, и замолчала. Пусть расспрашивает сама о чем ей угодно. Почему так неуютно с Анной Небыловой? Словно сидишь па суде под непонятным и отчего-то недоверяющим взглядом. У нее зеленовато-серые глаза с черными точечками зрачков. Светлые, с черными точечками. Зачем она пришла? Что ей надо?
Настя молчала, ей становилось не по себе.
– Неужели вы не знаете, кто я? – вдруг спросила Анна Небылова, глядя на Настю в упор, и непонятно было, что в ее взгляде: просительность, осторожность?.. Или и то и другое.
Настя отшатнулась. От неожиданности она так смешалась, что не сразу поняла, только перепугалась чего-то ужасно, а потом поняла, что эта женщина пришла и признается ей, и стало еще ужасней. Что-то унизительное было для Насти в том, что «она» оказалась той самой Анной Небыловой, которая вчера была так хороша и возвышенна и все были очарованы ею! И Настя была очарована и не узнала ее. Она была хороша даже сейчас, со своими остриженными, отливающими медью волосами, тонкой кожей и сильной, складной фигурой спортсменки.
Тук-тук, – тихо доносилось из раскрытой двери. По коридору изредка проходили люди. Длинноногий, с оттопыренными ушами молодой инженер пробежал мимо с рулоном чертежей под мышкой. Обернулся, меряя Небылову по-мужски оценивающим взглядом.
– Разве вы не знали? – сказала Небылова, когда инженер скрылся. – Вижу, не знали. Милая! Теперь я вижу, вы милая, чистая, наивная девочка! Я хочу вас любить, я любила вас, еще не видя, за то… – волнуясь, растроганно говорила она.
– Не надо! – перебила Настя, отодвигаясь в угол скамейки.
– Хорошо, не будем об этом, – сказала Анна Небылова, медленно отводя со щеки прядь волос. – Я пришла вас просить. Я так готовилась к сегодняшнему празднику! Купила цветы, мечтала, ждала! Ну, думаю, уж в день-то рождения отца Настя придет, мы узнаем друг друга, подружимся… Я хочу одного – поверьте, поверьте! – хочу одного: чтобы Аркадий Павлович был счастлив. Он особенный человек. Нежный, привязчивый и все что-то должен, должен и должен! Он никогда не спокоен, оттого что все его существование – долг. Я хочу, чтобы он был спокоен и счастлив. Только в этом его спокойствии и счастье состоит все мое счастье, потому что я его люблю. Видите, я откровенна. Он сказал: с вами надо быть откровенной, нельзя прятаться. Я приехала к вам в город работать и думала: эпизод, три обязательных после вуза года, как-нибудь протяну. Разве могла я представить, что моя судьба стережет меня здесь? Где? В институтской клинике! Я пришла в клинику писать очерк, и вот… Вы наивная девочка, вам неизвестно это, вам непонятно, я его люблю, и никто не смеет меня осудить…
Она оборвала свою горячечную, безрассудную речь и, приходя в себя, тихо отвела со щек волосы, с беспокойством вглядываясь в Настю. Кажется, она наговорила не то, с чем шла сюда, к этой девочке, его дочери. Ведь она шла просить, что-то наладить, спасти.
– Отец тоскует о вас, – сказала Небылова.
– Я тоже тоскую. И мама тоскует.
– Боже мой, боже! – сказала Небылова, сжимая пальцами виски. Она ожидала холода и ненависти, а может быть, милости, но не этого. Это ее обезоруживало.
– Вы не можете понять, вы девочка… вы…
– Нет, напрасно вы думаете, что мне непонятно, я все понимаю, – бледнея, ответила Настя.
Она так долго воображала сегодняшнюю встречу, так безжалостно мстила этой женщине, а сейчас вдруг позабыла все жестокие слова, которые тайно лелеяла, мечтая оскорбить ее на всю жизнь! У нее стеснилось дыхание, она не могла вспомнить тех слов.
– Если бы вы были настоящей, благородной… если бы вы были… Вы убежали бы! Убежали на край света! Вам безразлично, что будет от вашей любви, что будет несчастье другим. Вы отнимали… Вы, вы…
– Девочка! – поспешно перебила Небылова, боясь, что сейчас Настя скажет что-то, после чего им уже нельзя сидеть на одной скамейке и никогда не возможно будет встречаться. – Девочка, вот и видно, что вы отвлеченно представляете жизнь. Вот то и мило в вас, ваше идеальное детство!
Она потянулась к Насте, но несмело опустила руку. У нее было печальное лицо, очень печальное и кроткое.
– Я не для себя к вам пришла. Мне ничего не нужно от вас. Я пришла для него. Обрадуйте отца! Он ждет! – просила она. – В вас нет реализма. Что случилось – случилось, и ничего не поделаешь. Жизнь сложнее, чем мы хотим. Сердцу не велишь…
«Она хороша, хороша! – с отчаянием думала Настя. – Хороша и ужасна! Чем она ужасна? Только тем, что отняла у нас папу? Или чем?»
Сощурив глаза, Настя глядела на Анну, ее полную, очень белую шею и цепочку с брелоком в глубоком вырезе джемпера цвета блеклой травы, так удачно подобранному к волосам с медным отливом.
«Ненавижу тебя! Всю, всю! Ты гадкая, низкая со своей белой шеей! Ты мне противна. Из-за тебя папа стал мне чужой. Из-за тебя я его не люблю», – думала Настя. Небылова перехватила взгляд Насти и машинально взялась за цепочку с брелоком. Вдруг она бурно покраснела, как пожар ее охватил, шея покрылась горячими пятнами.
– Память из дома, о Москве. Перед отъездом, когда уезжала из Москвы сюда на работу, дома подарили на память. Подарок из дома! – повторяла она, с трудом скрывая взрыв бессильной злобы к этой девчонке, которую она действительно была готова любить и жалеть. Небыловой казалось: эта девчонка, не сдающаяся на ее сердечную ласку, она, одна она, только она мешает ей, ее полному счастью.
Настя отвела от брелока глаза. Она радовалась унижению Небыловой, но отчего-то тосковала все больше.
Василий Архипович, не дождавшийся зова, явился сам давать объяснения корреспонденту газеты по поводу работы и успехов бригады. Он не мог положиться на ученицу Корзинкиной и явился сам, строгий, от смущения строже обычного.
– Если у вас есть вопросы…
Настя встала и, к изумлению и негодованию мастера, прямо глядя в лицо журналистки:
– Василий Архипович, эта корреспондентка из газеты «Волна» не интересуется стилем ученичества и работой завода. Не знаю, что ей здесь надо. Недоразумение какое-то…
У Небыловой строптиво расширились ноздри, как осенняя вода, посветлели глаза. Но она с полным самообладанием ответила:
– До свидания, Настя. А то, что мне надо, я услышу от Василия Архиповича.
Настя пришла в бригаду, села возле Галины.
– Ловко у иных получается: раз-два – и прославились. Скоро будем про наш энтузиазм в газетах читать? – спросила Галина.
И вдруг вздернула лупу на лоб.
– Что ты как призрак?
Настя хотела как-нибудь отшутиться, но лицо у нее задрожало, она закусила губу.
– Что ты? Да что ты? Чем она тебя довела? – растерянно зашептала Галина. – На, пососи леденец, помогает. Соси, я всегда леденцами спасаюсь. А не сбегать мне за тебя посчитаться?
С этого дня они подружились.
10
«За ужином ребята кричали „ура“ и исполняли туш ложками на алюминиевых мисках. Нина Сергеевна сказала, что мы проявляем себя как дикари, а затем предложила, чтобы кто-нибудь сделал сообщение о происшедшем.
Какой смысл, если только и разговору об этом и туш из-за этого?
После ужина мы пошли в поле. Возле вагончиков на много га пшеницу уже убрали. Взошла луна, такая белая, что стерня под ее светом стала похожа на снег.
Мы смотрим теперь на луну другими глазами. Вчера, 14 сентября 1959 года, вторая советская космическая ракета достигла Луны! Я поражен! Луна сегодня особенная и фантастическая, там вулканы, кратеры, лунные моря – где-то там наш вымпел.
У меня приподнятое настроение. Я хочу в будущем добиться чего-нибудь серьезного в области механизации. Непременно добьюсь! Надеюсь, что добьюсь.
Сейчас мы убираем хлеб. Нас соединили в одну бригаду и послали на уборку. Сначала все взбунтовались, что нас кидают с прорыва на прорыв. А теперь поняли, что напрасно предъявляли ультиматум Нине Сергеевне. Хлеб-то не ждет! И от Нины Сергеевны ничего не зависит. Нами распоряжается райком комсомола.
Мы посоветовались и решили, что, если мы не закоренелые свиньи, надо извиниться перед Ниной Сергеевной. Нина Сергеевна неожиданно размягчилась и сняла очки. Оказывается, без очков у нее неуверенные глаза. Но я испортил дело. Потянуло меня за язык сказать, что зря она нам все объясняет и каждую минуту руководит.
Мы живем в шестидесяти километрах от нашего города, очень удобно, в вагончиках. Одно плохо – жрут комары! Днем спят, а вечером начинается их хищная комариная жизнь.
Мы живем в поле. Кругом поле, поле и множество сельскохозяйственной техники, челябинских тракторов и новеньких, очень завидных комбайнов. Километрах в десяти – центральная усадьба. Там культура: баня, электричество, почта и магазинчик, скрывающийся под вывеской: „Силос – это молоко“. В магазинчике продают хлеб, продукты, плащи и шампанское.
Я работаю сменным копнильщиком.
Копнитель – это большой ящик на колесах, прицепленный к комбайну. В него непрерывно сыплется солома. Надо поправлять солому вилами и время от времени нажимать на педаль: солома вываливается из копнителя, на сжатом поле остается копна. Мостик, на котором стоит копнильщик, то есть я, трясет и шатает: комбайн идет медленно, но от оглушительного шума и оттого, что перед глазами непрерывно летит солома, создается впечатление быстрого движения.
Вначале мне даже сны снились про наш сцеп. Без конца ворочаю вилами, а солома льется, и я не могу ее осилить и просыпаюсь…
Однажды в нашей сельскохозяйственной жизни произошел такой эпизод. К нам приехали кинооператоры снимать документальный фильм „Комсомольцы на целине“. Моментально все девочки стали глядеться в зеркальце и вытащили из чемоданов цветные косынки, клипсы и бусы. Борька Левитов прилип к режиссеру и стал клянчить, чтобы его сняли крупным планом и дали посолиднее роль. Борьку режиссер забраковал, а клипсы у девчонок оставил, хотя, по-моему, это нарушает реализм.
На нашу долю выпало изображать не героический труд, а отдых и лирику. Для одной лирической сцены операторы выбрали меня. Сцена состояла в том, что я сидел в тени трактора и заводил патефон, который операторы привезли специально для съемки, а рядом, по замыслу режиссера, должна сидеть девушка, перебирать пластинки и нежно на меня поглядывать. По роковой случайности девушкой оказалась Лилька Синяева, мы еще с девятого класса принципиально расходимся с ней по всем вопросам. Лилька томно на меня глядела и шептала: „Теперь весь Советский Союз подумает, что я в тебя влюблена“.
Когда съемка нашего веселья и отдыха кончилась и операторы поскакали дальше, ребята развеселились и стали представлять юмористические балетные номера. Все хохотали, даже Нина Сергеевна покатывалась.
Здесь каждый день узнаешь что-то новое, никогда не испытанное.
Видишь то, чего в городе за весь век не увидишь: тьма тушканчиков, полевых мышей, зайцев, ласок, лисиц! Ночью тишина только кажется. Что-то шуршит, посвистывает, вздыхает и дышит.
Один раз шофер Петя позвал меня после ночной смены: „Айда! Махнем в поле развеять душу“.
Мы поехали по накатанной полевой дороге, колеса будто плывут, без толчка, а впереди и со всех сторон будто море без берегов и громадная, одинокая луна в громадном небе.
Мы мчались, как на гонках в американском кино, и вдруг в свете фар увидели на дороге лисицу. Она бежала впереди, рыжая, с длинным рыжим хвостом, почти летела над землей. Мы с Петей потеряли рассудок от спортивного азарта, догоняя ее. Но она нас перехитрила и юркнула с дороги в сторону, а мы промчались вперед. Потом я заснул, как камень, а утром зверски хотел есть, и почему-то весь день было весело. Здесь все веселит, хотя работать тяжело. Тяжело, но чувствуешь себя бодрым, упорным.
Я пишу, как в „Комсомольскую правду“, остается закончить призывом: „Приезжайте к нам на целину!“
Только редко удается читать. Только один раз я прочитал одну книжку, и то благодаря дождю. Все было жаркое солнце, и вдруг на целые сутки зарядил дождь. Мы обрадовались, что можно отоспаться, а после я увидел на койке у одного из ребят книжку и – цап! Оказалось – стихи. Я читал про себя и вслух, без конца. Ребята притихли, и у нас в вагончике стало задумчиво, а дождик все сеял.
Стихи не выходят у меня из головы.
Но память прошлое хранит,
Душа моя к тебе стремится…
Так, вздрогнув,
Все еще летит
Убитая в полете птица…
С целинным приветомДмитрий Лавров».
