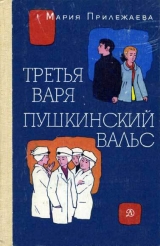
Текст книги "Пушкинский вальс"
Автор книги: Мария Прилежаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)




Мария Прилежаева
ПУШКИНСКИЙ ВАЛЬС

1
 На лестнице был полумрак. Они долго поднимались на второй этаж, останавливаясь почти на каждой ступеньке, и говорили. Возле двери он ее поцеловал. Несколько секунд они стояли без слов.
На лестнице был полумрак. Они долго поднимались на второй этаж, останавливаясь почти на каждой ступеньке, и говорили. Возле двери он ее поцеловал. Несколько секунд они стояли без слов.
– Я тебя люблю… веришь?
Он говорил это вчера, позавчера. Много раз.
И всегда: «Настя, ты веришь?»
– Угадай, что я думаю, Настя!
– Что?
– Не могу без тебя жить, вот что!
– И я. Только тише. Мама услышит.
Она приложила палец к губам.
– Пусть слышит. И хорошо, что услышит. Надо им сказать, Настя! Звони, скажем сейчас.
– Что скажем?
– Все. Ведь решено? Ты же знаешь, что со мной. Сам не разберусь. Начну о чем-нибудь думать, а в голове… Даже читать не могу. Настя, если они будут отговаривать, ты устоишь?
– Наверное, будут отговаривать.
– Почему?
– Скажут: рано. Сначала на ноги встаньте. Проверьте чувство.
– Я тебя люблю, – строго сказал он.
– Ужасно серьезный! – засмеялась она. – Знаешь, как тебя девчонки зовут? Антистиляга, Анти! Просто страх.
Она тронула его лицо веткой клена.
Он снова обнял ее, неловко, боясь слишком близко привлечь.
– Иди, Дима, – сказала Настя, отстраняя его, но не очень. – Я тоже… Мне тоже хорошо, хорошо! Димка, мне удивительно хорошо! Завтра в семь на Откосе.
– Не завтра, а сегодня. Завтра уже началось. Настя, приходи в пять, согласна? Можно мне тебя поцеловать на прощание?
– Димка, за что ты в меня влюбился?
– Не знаю. За все! Ты умная. С тобой интересно обо всем поговорить, не то что с другими девчонками: «Ах, спросят, не спросят по физике! Ах, танцы! Ах, Ив Монтан!» Ни с кем не бывает так интересно говорить, как с тобой! Ты веселая. Когда ты смеешься, хочется хохотать, так смешно ты смеешься! Какая-то радость! Хочется слушать музыку, сидел бы и слушал, просто чудо какое-то! Ты красивая!
– Это уж враки.
– Красивая! Знаешь, какие у тебя волосы? Как бы сказать… Светлые… Мне вся твоя семья нравится. Настя, неужели ты меня любишь? Верно, любишь?
– Димка, смешной…
Они простояли еще добрых полчаса.
– Димка, иди, до свидания. Завтра в пять на Откосе.
Она подождала, перегнувшись через перила, пока на лестнице стихли шаги, отперла английский замок и на цыпочках вошла в дом. Тишина. Слышно, как в висках бьется кровь.
А в комнате утро, в распахнутое окно смотрит розовое небо. Уже утро. Она легла на подоконник, свесив голову. Так и есть, стоит под окном!
Высоченный, худой. Прислонился к тополю и стоит. Удивительная жизнь, Димка, верно? Птица запела. Что за птица па нашем дворе? Как странно, простой двор, один Димка да птица в тополях.
Он махнул рукой и пошел.
«Оглянись!» – мысленно приказала Настя. Оглянулся.
«Димка. Люблю».
Она спрыгнула с подоконника. Со стены из длинного, без оправы зеркала изумленно глядит тонкоплечая девочка в ситцевом платье. Чуть вздернутый нос, скулы чуть выдаются, ямочки у кончиков губ. Глаза узкие. Как у японца.
Прощайся, девочка, со своей веселой комнаткой, где вместо постели диван, книжная полка (бедная полка, и с тобой расставаться!), на столике бюст Маяковского, фотографии Галины Улановой.
А вот и солнце.
Здравствуйте! Поднялось, и прямо в окно, и пошло вырисовывать по стенам кружочки.
«Маяковского можно захватить с собой, а Галина Уланова еще и сама к нам прикатит. Нет, я слишком уж счастлива! Не могу от счастья заснуть. Ди-мит-рий Лавров! Красивое имя! Но лучше – Димка. Димка, я поехала бы с тобой в Антарктиду, не то что на стройку! Неужели всего два денечка осталось? А сегодня в пять на Откосе. Димка, ты раньше придешь, знаю. Придешь, а я тут. Спрячусь за березу. Ау! Я тебя поцелую сама. Мне хочется поцеловать тебя, Димка. Как долго ждать до пяти, целых полсуток! Скорее бы, скорее прошли эти полсуток! Не буду ложиться, все равно не уснуть. Какой уж там сон! Разве только прилечь…»
Она легла и уснула. Платье брошено на стул. Кленовая ветка валяется на полу. Листья увяли. Солнце вовсю гуляет по комнате.
Настя крепко спит, сбросив с голых плеч простыню, и не слышит: мать вошла и стоит над диваном. Давно уже стоит.
Внезапно Настя проснулась.
– Мамочка, здравствуй. Уже день?
– Я слышала, ты вчера поздно вернулась, Настя.
– У тебя бессонница, мама?
– Пожалуй…
– Но нельзя же, нельзя так, нельзя! Все едут, к чему-то стремятся. Ищут романтику, хотят испробовать силы. Все наши ребята мечтают о больших делах. А я? Мамочка, и еще есть одно, очень важное. Мама, я… догадайся.
Она села, подтянув простыню к подбородку, и смотрела на мать узкими, как у японца, глазами. Мать нагнулась, подняла с пола брошенную Настей кленовую ветку. Молчит.
«Ужасна проблема отцов и детей! Вернее, матерей и детей. Особенно плохо, если ты дочь. Нет, сейчас не стоит открывать ей про Димку, так я и предполагала. Вот беда, из всего делают драму», – думала Настя.
– Вечером поговорим. Много есть о чем, – сказала мать.
– Мамуля, папку я накормлю. Он живо у меня поднимется. На работе ломит, как трактор, а дома лежебока. Избаловали мы его, мать, на свою шею.
– Папы нет. В клинике… Ночное дежурство.
– Я и говорю: ломит, как трактор. Вечно дежурство, дежурство! Институт, институт…
– До вечера, Настя, – перебила мать.
Она задержалась у зеркала, пристально вглядываясь в пожелтевшее от бессонной ночи лицо, еще молодое, тонкое, с печально опущенным ртом. Повторила:
– До вечера.
«Эх я, эгоистка! – думала Настя, оставшись одна, сидя в постели, обхватив коленки руками. – Последние деньки, а я совсем отца с матерью забросила. Буду сегодня с ними дома весь вечер. И завтра. Поздно опомнилась. Всего два вечерочка осталось».
Она упрекала себя в эгоизме, но через минуту снова думала о том, что ее ждет.
«Что нас там ждет? Резко континентальный климат, как пишут в учебнике географии. Конечно, если бы ехать одной – страшновато, а всем классом ничего страшного нет. Целая орава из двадцати четырех человек плюс Нина Сергеевна. Кто молодчина, так Нина Сергеевна. Впрочем, что ей терять! Двадцать восьмой год, старая дева, сегодня уроки, завтра уроки, кому не захочется нового? Уезжаем на комсомольскую стройку, ура! Может быть, будем мерзнуть в палатках, вот и отлично. Все сначала мерзнут, а как же без этого? Какие еще ожидают нас трудности? Давайте, давайте, не страшно… А теперь и до пяти на Откосе недолго осталось!»
Настя вскочила и в одной рубашке, босая побежала на кухню вскипятить молоко.
Веселый у них дом. Всюду солнце. В кухне пол горячий от солнца. Со двора несутся ребячьи крики, воробьиный щебет. В разгаре лето, июль. Июля, правда, остался самый кончик. Туда они приедут под август. Глядишь, и листья зажелтели…
В передней зазвонил телефон. Настя оставила на плитке кастрюлю с молоком и побежала к телефону.
– Алло! Настя? Позови Аркадия Павловича.
– Здравствуйте, Серафима Игнатьевна. Папы нет. Прямо от вас, из клиники, пошел в институт.
– Откуда из клиники? Не был он в клинике.
– Как не был, Серафима Игнатьевна? Как не был, когда был? У него ночное дежурство.
– Брось дурака валять, Настя! Мне ли не знать, когда чье дежурство? Настя, что ты молчишь?.. Настя, ах, батюшки! Настенька, ай!
Серафима Игнатьевна что-то забормотала, сбилась, запуталась.
В трубке загудело. Из кухни валило едким запахом гари: убежало молоко. Надо выключить плитку. Что-то еще? Да, одеться.
Вчерашнее платье брошено на стуле. Увядшая ветка…
Она вошла в комнату родителей. Что-то здесь не по-старому. Она старается уловить перемену. Вот что! Непривычный порядок на письменном столе отца. Не порядок, а почти пустота. Один чернильный прибор.
«Что над ними стряслось? Не может быть!»
Настя дрожащими пальцами торопливо застегивала пуговицы. Он давно уже куда-то все уезжает, уходит. О боже! Вечно дежурства. Папочка милый, она напутала, твоя Серафима Игнатьевна, ты был сегодня в клинике, ты не станешь обманывать.
Настя постояла, еще не понимая, и побежала из дому. Двором она пронеслась, но за калиткой пошла медленно, вдруг оробев встречи с матерью. Ведь замечала, что с мамой творится неладное! Замечала. Некогда было задуматься. Эгоистка, типичная эгоистка! Тебе некогда, ты занята собой, своими делами. А мать? Мама вся какая-то стала погасшая. Бродит как тень. Или сидит на тахте, подобрав ноги, и курит. Папа в отъездах. Папочка, даже когда ты ненадолго уедешь, без тебя сиротливо. Ты у нас умный, великодушный, ты замечательный, папа! Папа, мы с мамой гордимся тобой! Обожаем. Ты наш самый любимый, родной. Не верю, ничего не случилось! Серафима Игнатьевна напутала. Недавно (да это было позавчера!) как он орал на нее по телефону за то, что какому-то больному в клинике выписали не тот рацион. «Вы старшая медсестра, вы не смеете ошибаться!» Как орал! Когда выяснилось, что Серафима Игнатьевна не виновата и ни в чем не ошиблась, началась самокритика. Просто умора! Такой уж у нашего отца сумасшедший, неравнодушный характер. Постойте, если только позавчера он отчитывал по телефону Серафиму Игнатьевну, а потом стукал себя по лбу кулаком: «Самодур окаянный!..» Не случилось ничего. С папой не может случиться «такого». А мама? А как же мама? А я?
Настя вошла в библиотеку имени В. Г. Короленко, кивнула знакомым девушкам, сидевшим на приеме и выдаче книг, и юркнула в тесные коридорчики из книжных полок, где чуть припахивает пылью, пестрит в глазах от корешков переплетов. Библиотека имени В. Г. Короленко – передовая, с открытым доступом к полкам. Читатели разгуливают среди книг и выбирают что кому по душе или советуются с консультантами.
Мама стояла к Насте спиной, слегка откинув назад стриженную под мальчика курчавую голову.
Молодой человек в клетчатой рубашке навыпуск, совершенный юнец, такой длинный, что маме приходилось смотреть на него снизу вверх, говорил небрежно, со скучающей миной:
– Дайте что-нибудь интересненькое. Не воспитательное только, пожалуйста. «Женщина в белом» есть?
– На руках.
– Ну конечно! Что же есть?
– Алексей Толстой, Тендряков. Возьмите повести Тендрякова, хорошие повести.
– Что-то не слышал. Приключенческие?
– Нет, понимаете, это такая книга… Сама жизнь.
– Ну, значит, воспитательное. Производство, трудовые процессы, нет уж, спасибо! Дайте что-нибудь про диверсантов.
– Молодой человек!.. – Не договорив, мама случайно оглянулась и увидела Настю. Лицо ее облилось беспомощной краской. – Зачем? – хмуря брови, спросила она.
– Надо. По делу.
– Подожди в сквере, я выйду, – не сразу ответила мать, выпытывающе глядя на Настю. – Возьмите вот эту книгу, я вам советую…
«Смутилась… – думала Настя, прохаживаясь по ясеневой аллейке в сквере близ библиотеки. – Робко она его агитирует. Выложила бы напрямик: неуч, нахал. Не умеет расправляться с нахалами. Ты слишком застенчивая, мамочка. Совершенно не умеешь за себя постоять. Ах, беспокойно, беспокойно мне и тоскливо!»
Сквозь реденькую аллейку видно: мама вышла на крыльцо библиотеки, постояла, прислонив к глазам ладонь от солнца и торопясь зашагала через улицу. Ветер относит назад пестрое платье. Что с тобой, мама? Как похудела! Глаза запали. Лицо замкнуто. Подошла. «Не скажу», – внезапно решила Настя, Испуганный вид выдавал ее с головой.
– Зачем ты? – спросила мать.
– Серафима Игнатьевна звонила. Папы не было в клинике, – шепотом выговорила Настя.
Мать взялась руками за горло и молча опустилась на скамейку. Настя села на кончик скамьи, ужасаясь молчанию матери и все-таки не веря тому, что нечаянно выдала Серафима Игнатьевна.
Толстая старуха в белом платке возила по дорожке коляску с ребенком:
Баю-баю-баиньки,
Спи, наш птенчик маленький.
С волейбольной площадки доносились удары мяча. Слышалось радио. Негромко передавали музыку.
– Где же он был? – снова шепотом выговорила Настя.
Мать кинула на нее испуганный взгляд и отвела глаза.
– Неправда? Мама, неправда?
– Правда. Он ушел.
– Почему? – вырвалось у Насти. Она внутренне простонала. Тупая!
– Когда-нибудь должно было кончиться, – сказала мать. Она держалась за горло, у нее был сдавленный голос и сухие, без блеска, глаза.
Настя сидела на кончике скамьи, вся дрожа от озноба.
– Дежурства в клинике – враки?
Мать молчала.
– Но как же? Что же это? Отчего так вдруг, ни с того ни с сего, точно землетрясение? Отчего я не знала? Вы от меня скрывали? Зачем?
– Я старалась тебя уберечь. И папа. Думали, обойдется. Вчера объяснились и решили: надо кончать. Ничего не поделаешь, надо кончать.
– Значит, дежурства – враки? Давно?
– Нет как будто. Нет, давно. Во всяком случае, в мае…
«Май, июнь, июль… – мысленно сосчитала Настя. – Как раз в мае мама пошла работать в библиотеку».
– Как он мог уйти, когда через два дня я уезжаю? – спросила она.
Эта мысль поразила ее. Не укладывалось в голове, что он мог уйти, что он ушел в это время, когда для нее начинается новая жизнь, совсем новая, серьезная, счастливая жизнь! Она не верила.
– Не верю! Не верю!
На глаза матери нахлынули слезы и стояли, не выливаясь.
– Я виновата, – быстро заговорила она. – Надо было мириться, не замечать. Мирилась, молчала. Вдруг прорвалось. Все ему высказала. Позабыла о тебе. Оба начисто о тебе позабыли. Измучили вы меня! Уходите, уезжайте! Оставьте меня все!
Она вынула из сумочки папиросу и закурила. Папироса гасла, мама нервно чиркала спичками. Она недавно стала курить и морщилась от горечи дыма.
– Уж пусть бы случилось все после, когда ты уедешь. Он придет проводить тебя, Настя. Отец остается отцом.
– Мне не нужен такой отец!
– Какой?
– Ведь он не только от тебя ушел. От меня он тоже ушел.
– В таких случаях дети редко удерживают.
– Я про то и говорю.
– Ты уже взрослая, Настя.
– Ушел и ничего не сказал? Ушел – и ничего. Забыл, будто меня нет. Будто я ничего для него не значу. Изменил. Ушел и не сказал ни слова!
– Он не тебе изменил. Полюбил другую женщину. Трудно объяснить это дочери.
– Легче сбежать потихоньку?
– Ты ничего не понимаешь. Ты еще ребенок.
– Нет, ты сказала, я взрослая. Мама, тебе плохо? Ты его презираешь?
Мать закашлялась от дыма, неестественно долго, пряча от Насти лицо.
– Пора в библиотеку, – вставая, сказала она.
Поискала, куда кинуть папиросу, сунула в сумочку и бессильно прислонилась к сумочке лбом.
– Не плачь! – Настя старалась загородить мать от старухи, катавшей но дорожке коляску. – Проживем и без него. Ушел – пусть. Нет, не верю, что он нас разлюбил! Тебя разлюбил? Не может быть, нет! Да не плачь же, мама, ведь смотрят…
2
Что делать?
Первая мысль была: к Димке! Настя побежала, выбирая кратчайший путь переулками и проходными дворами. Потом пошла тише. Не дойдя до подъезда, повернула обратно и помчалась домой. Стыдно. Чего ей стыдно? Что с ней творится? В душе ее был полный хаос.
«Ушел отец. Бросил маму. И меня. Бросил, Димка, ты можешь понять?»
Она не заметила, как очутилась дома. Опомнилась только в передней, стоя возле телефона.
«Может быть, все-таки не то? Конечно, конечно! Просто поссорились с мамой, а теперь он раскаивается и ломает голову, как помириться, не уронив самолюбия. У тебя чертовское самолюбие, папа».
Она сняла трубку. Кажется, в это время отец на лекциях. «Если на лекциях, позвоню после. Буду звонить, пока не застану. Вот чудаки, словно маленькие. Поссорились – мири их, сами помириться не могут», – думала Настя, набирая институтский помер.
– Алло! – узнала она голос отца.
– Папа, я!
Там молчали. Это было так странно и дико, что Настю сразила слабость, точно из жил ушла кровь. Подгибались ноги. Она села на стул и закрыла глаза. Наверное, так умирают.
– Я занят, у меня совещание, – незнакомо и виновато донеслось с того конца провода. – Через два часа освобожусь, тогда поговорим. Увидимся здесь, в институте. Я сам собирался…
Настя повесила трубку. Не ошибка, ушел. Теперь она знала.
Телефон тотчас зазвонил. Звонил долго, упорно и смолк.
Что-то надо решать. Настя не могла вспомнить, что надо решить. Эта история пришибла ее.
Случайно она набрела взглядом на вещевой мешок в углу прихожей, новенький, с желтыми лямками, наполовину набитый. Кружка, тоже новенькая, подвешена на лямку.
Ее охватило отчаяние. Она вбежала в комнату родителей и принялась наспех выдвигать один за другим ящики отцовского стола. В одних бумаги, исписанные блокноты, тетрадки. Блокноты поредели, бумаг стало меньше. Другие ящики пусты.
Настя рылась в бумагах, ища рукопись «Профилактика и методы лечения ревматических заболеваний сердца». Папина докторская диссертация. Скоро он будет ее защищать. Рукописи нет. Взял с собой. Костюма из шкафа не взял, а диссертацию взял. Что дорого, того не бросил.
Настя упала головой на выдвинутый ящик стола и громко заплакала. В детстве она была порядочной ревой. У нее рекой лились слезы, когда кто-нибудь из соседских ребят обижал во дворе. Зареванная, она прибегала домой искать утешений. Отец брал ее на колени:
«Маленький мой, жалкий кисляй! Давай учиться быть силачами».
«Силачами что? Значит, драться?»
«Значит, не трусить».
«Я не трушу».
«Значит, уметь за себя постоять. И за других, слабых. Это поважнее».
«Всегда за них стоять?»
«Если видишь, что обидели».
«Ты заступаешься?»
«Стараюсь по силе возможности».
Мама утешала по-другому. Мамины утешения разнеживали, становилось еще больше жалко себя.
Отец сердился:
«Вырастим из девчонки комнатное растение!»
Настя оперлась локтями на выдвинутый ящик стола и неподвижно сидела, сжав ладонями виски.
«Представим себе человека с сильным характером: что стал бы он делать в моих обстоятельствах? Представим Димку».
Всю весну, когда определилось, что десятый класс едет на стройку, они мечтали и рисовали картины суровой жизни где-то на северо-востоке, в незнакомых краях. Они будут закладывать первые камни первого дома в новом городе, не похожем ни на один город в мире! Рыть котлованы, ставить фундаменты, строить цеха. Они воображали будущие улицы в своем городе и придумывали им названия. Смеху было с этими названиями! Там будет улица Айболита и улица Лайки. Помните лохматую собачонку со смышленой мордашкой, которая первой поднялась на ракете в космос?
Там будет улица Космоса, или нет – площадь Космоса, на которой мы выстроим лучшие здания. Будет Березовая улица, в память о доме, о рощице на Откосе, сквозной, кудрявой, как облако, где все паши ребята любят гулять и назначают свидания.
Насадим берез. Прохладная тень на нашей Березовой улице! Слышите, шумят листья?
Там будет аллея Мира, аллея Фантазии, улица Дружных и Смелых и улица Добряков. Получил квартиру, хочешь не хочешь – будь добряком в честь своей улицы. Будет улица Тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. Знайте, потомки: в 1959 году мы окончили школу и уехали строить!
А вдалеке от города наш завод, видный отовсюду, со стеклянными стенами, бездымный (на трубах дымоуловители), наш молодчина завод тонет в саду. Мы насадим там сады.
Построим театр и пригласим на открытие Галину Уланову или Елену Рябинкину, новую знаменитость балета, такую молоденькую, что ей-то как раз и танцевать в нашем театре.
Ухлопаешь целую жизнь на эти дела! Не знаю как кому, а мне интересно. Ничего другого я не хочу, как только строить наш город-завод, такой, как мы с Димкой вообразили. Из-за него мы и влюбились друг в друга…
Да, все с этого началось. Ходили с Димкой от школы до дома, туда и сюда, и мечтали о своем городе. Как хочется, чтобы он был особенный, прекрасный, таких городов нет больше на свете!
Я согласна строить пять лет. Бетонщиком? Маляром? Пожалуйста. Все наши ребята там будут. И Димка…
Но тут Настя вспомнила о том, что случилось. Снова ее взяло отчаяние. Неудачница! Будничная, насквозь бездарная личность. Не личность, какая там личность! Продукт обстоятельств.
Тебе не везет, не везет, не везет! И ты ничего не можешь с этим поделать.
Но все-таки неужели он верно ушел? Сколько ни слыхивала, что уходят из дому, но папа, мой папа… Ушел как чужой. Все были родные, родные – и вдруг… Папа, а как же теперь мне ехать на стройку? Вот так штука! Как я поеду, когда он нас бросил? Что мне делать? Не могу разобраться. Нет, я уеду! Уеду! Я комсомолка. У меня общественный долг. Как мы с Димкой мечтали!..
Слезы душили ее. Оказывается, она ничуть не меньше рева, чем в детстве. И никакой не силач. И не знает, как бороться с этой бедой, которая свалилась на нее так внезапно.
– Уеду. Не надейтесь на жертвы. Нет, нет! – твердила она.
Но чем дальше, тем слабее. Она старалась себя обмануть, но уже знала: все решено.
Оставить мать, одну, в пустом доме?
«Отдельная квартира из двух комнат, с кухней и ванной, черт бы ее побрал! Тихо, мертво. Мамочка, бедная, ты изведешься от горя! Ты стыдишься, что он ушел? Ты гордая, ты зачахнешь одна».
Настя встала, задвинула ящики стола, пошла в ванную вымыть распухшее от плача лицо.
«Я должна забыть о своей цели и планах, об улице Лайки, о нашем городе, который, наверное, через пять лет прославится на весь Советский Союз. Расстаться с Димкой, с ребятами… Почему-то должна».
Солнце ушло из дому, стало прохладнее, со двора сильней доносило запах тополевых листьев.
Настя с удивлением увидела, что уже третий час. Она вспомнила, что не успела утром позавтракать. Зажарила яичницу и машинально съела.
– Что мне делать? – спросила она и пошла в школу.
Еще несколько дней назад, еще только вчера, когда они с Димкой бродили этим переулком, все им было здесь мило. Вот водоразборная колонка. Значит, в косом двухэтажном домишке напротив водопровода нет. Скоро тебя, бедняга, на слом. И тебя, и твой ветхий забор, и деревянную скамейку у калитки, где по вечерам играют в шашки пенсионеры. А рядом другой дом, солидный, с толстыми стенами, на балконах горят огнем ноготки, ветер полощет, как флаги, белье. Этому стоять да стоять, до самого коммунизма дотянет. А вот музыкальное училище, из распахнутых окон летит «до-ре-ми». А вот булочная с пирамидами баранок и булок в витрине. А вот…
Они ходили здесь с Димкой, когда он провожал ее из школы или с Откоса, и прощались: «Прощайте, прощайте! Жалко вас, тополевые дворики, скамейки у калиток, балконы с резными решетками, зелененькая травка просвирник между булыжником. Уезжаем, жалко тебя, наш старенький город, с твоими кривыми переулками, тупичками, базарной площадью, по которой в ветреные дни тучами носится пыль, церквушками без крестов, твоим Откосом над рекой и новыми кварталами, где кирпичные корпуса и чахлые клумбы, немножко грустно тебя покидать… Молодой город ждет нас, прекрасный город!»
В комитете Настя застала секретаря Таню Башилову и Нину Сергеевну. Таня Башилова, аккуратненькая, как будто только что умытая девочка, сидя возле окна, ожесточенно разглаживала на коленях короткую юбочку колоколом и с выражением вины и смущения во взгляде следила за расхаживающей по комнате высокой, прямой, энергичной учительницей.
– Можешь представить, Вячеслав Абакашин не едет, – объявила Нина Сергеевна, с холодным укором взглянув на Настю сквозь очки, как будто именно Настя виновна в отказе Абакашина ехать.
– Так подвести в последний момент! В горкоме, гороно – всюду известно…
– Но ведь только он… – несмело перебила Таня Башилова.
В качестве секретаря комитета она чувствовала себя ответственной за некомсомольское поведение Вячеслава. Но Нина Сергеевна слишком уж тяжело реагирует. Как будто разразилась невесть какая катастрофа. Ну, отказался Абакашин, ну и что? Другие-то едут! На одного человека меньше, и только.
– В горкоме, гороно – всюду известно, что десятый класс едет всем коллективом, – не слушая Таню, продолжала Нина Сергеевна. – В том-то и смысл, что всем коллективом! Один отказался, и уже не то впечатление. Уже не то.
Она гневно шагала по комнате. На ее цветущем, с правильными чертами лице льдисто поблескивали стекла очков.
– Таня, ты заняла неправильную позицию как секретарь комитета, – говорила она, отчеканивая каждое слово. – Ты выражаешь настроение комсомольцев, у вас примиренческие настроения. Нельзя, вы не имеете права! Надо на Абакашина повлиять, возмутиться по-комсомольски! Надо срочно принимать меры, а не сидеть сложа ручки, а не мириться с дезертирством и срывом общего дела.
– Какие же меры? Вячеслав говорит, у него есть причины, – робко вставила Таня.
– Дезертир всегда найдет себе оправдание.
– Но, Нина Сергеевна, ребята добровольно едут. В конце концов, и без него обойдемся! Не хочет, как хочет, – ответила Таня, все больше робея от холодного тона учительницы.
Она не знала, как повлиять на Абакашина, ведь сама-то она на стройку не ехала! Она только перешла в десятый класс.
– Вот Настя, хотя и не член комитета, могла бы поагитировать Славку. Или Димка Лавров, он бригадир. А вот и Димка, легок на помине!
Димка прибежал с мокрыми волосами и обмотанным вокруг пояса сырым полотенцем. Должно быть, он только с купания, от; самой реки мчался бегом. Вбежал, стоп! Димка, ты совершенно не умеешь таиться. Все твои чувства прямо так и написаны на темном от загара, худом, ребячески открытом лице!
– Настя! Вот не думал тебя здесь застать!
– Следовало бы поздороваться сначала с учительницей, – сухо заметила Нина Сергеевна.
– Извините, Нина Сергеевна, здравствуйте! Таня, здорово! А я случайно забежал по дороге. Что тут у вас?
Таня сконфуженно покачала головой: «Ах и не спрашивай!» – и отвернулась к окну.
– Вячеслав Абакашин отказался ехать, вот какие у нас происшествия, – сообщила Нина Сергеевна, блеснув на Димку очками.
– Вот так чепе, – озадаченно протянул он, занося пятерню к макушке. И не донес. Остановило выражение Настиных глаз. Она глядела так жалко, почти плача, словно ужасно в чем-то была виновата. Он испугался. – Настя! – позвал он.
Теперь и Таня с Ниной Сергеевной заметили: Настя не похожа на себя.
Настя шла в школу, думая, что расскажет в комитете об уходе отца. Всю дорогу твердила себе: «Только не плакать. Только бы выдержать и не заплакать». Но, узнав о Вячеславе Абакашине и увидев учительницу и ее ледяные очки, она поняла, что не может сказать. Хоть убивайте, не может.
Она стояла посреди комнаты, точно в ожидании суда, свесив руки вдоль тела, и Нина Сергеевна, поправив очки, проговорила с нервным смешком:
– Как я догадываюсь, новое чепе!
– Что с тобой? – шагнув к Насте, спросил Димка.
Загар схлынул у него с лица, скулы туго обтянулись бледной кожей, и стала очень заметна худая, вытянутая, как у гусенка, шея.
– Настя?!
Димка на нее наступал, она невольно попятилась к двери.
– Говори! Что? – грубо, как брань, отрывисто выговорил он.
– Я тоже не еду, – сказала она.
У нее вырвалось «тоже»! Она похолодела, у нее слиплись губы.
– Но ведь это развал! – ахнула Нина Сергеевна, растерявшись до жалости. – Накануне отъезда? А завтра обещали в газете статью. Это развал! Это распространится мгновенно, как эпидемия гриппа. Мы никого не соберем завтра к поезду. Что у нас происходит? Дружбы, амуры. А дело? А комсомольская честь?
– Настя! Идем! – тихо позвал Димка. Он взял ее за руку, осторожно, словно больную. – Ничего не известно, не бейте в набат, погодите. – Это относилось к Нине Сергеевне. – Идем, Настя.
Он вывел ее из комнаты комитета и, не отпуская руки, сбежал, увлекая ее за собой, вниз по лестнице, в вестибюль, из школы на улицу.
