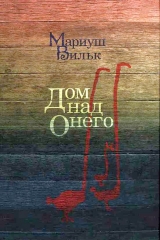
Текст книги "Дом над Онего"
Автор книги: Мариуш Вильк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
После молебна – шумное застолье: блюда заонежской кухни, в том числе рыба по-польски (следы польских разбойников Самозванца в Заонежье) и карельские яства: прежде всего знаменитая «каларуокка» (уха по-старокарельски) и «секали» (пюре из перловой каши, гороха и костного мозга), далее дичь от компании «Баян & Виталий» (гусь, запеченный в глине и рябчики по-вепсски), деликатесы от прихожан отца Николая (палия в сметане, сиг по-петровски и фирменный судак а-ля Озолин в вине), а еще Наташина долма (голубцы – баранина с рисом в листьях молодой свеклы, – запеченные в русской печи). Из закусок – грибы на любой вкус (вы когда-нибудь пробовали квашеные грузди?), разные диковинки, например медвежье сало; наконец, овощи с нашего огорода в виде всяких фантазий – цветная капуста, маринованная с аронией, бобы с лисичками и так далее. Напитки на выбор – кому кагор, кому вода, кому брага.
– Святой Самсон имел прозвище Странноприимец, – произнес тост отец Николай, – ибо он принимал странников. Выпьем за этот дом в Конде Бережной и за его хозяев. Чтобы здесь тоже с радостью встречали каждого путника.
После пары стопок атмосфера за столом потеплела. Бабушки запели:
Па-а-ла росинка, роса-а
На темные леса…
Очередной тост: за гостей! Лена бабушкам вторит – все громче, все смелее. Бабушки запевают на полную катушку. Подключается Леша. Заводят на два голоса:
Ваше поле каменисто,
наше каменистее!
ваши девушки форсисты,
наши пофорсистее!
Тосты, тосты, тосты… Ваян снимает со стены дошпулуур – инструмент тувинских шаманов (подарок Саши Леонова). Трогает струны. Тишина. Может, батюшка их смутил, а может, влажность виновата.
– Давайте за любовь! – кричит младший лейтенант Лева.
– Как ты думаешь, Мар, почему кроме Федоровича никто не пришел? – спрашивает отец Николай, макая долму в соус из аронии.
– Постеснялись, наверное.
– И всё-то они стесняются, – вмешался Ваян, – как мы приехали, они только этим и заняты.
– У нас как-то на Сдвижение мужики медведя убили, – отозвался молчавший до сих пор Федорович. – Пили на берегу – вон там, где у Мара баня. Смотрят – глазам не верят, косматый плывет вдоль берега. Они – в лодку. Раз-другой пальнули из ружья, а потом давай лупить чем попето – вилами, топором, пока не сдох.
– Ну, давайте за мишку!
– За медвежью шкуру премировали нас пожарной помпой.
Опять запели:
Кижи близко, Кижи тут, в
Кижи замуж не берут.
Баба Шура пускается в пляс с бабой Клавой, Виталий продолжает снимать, Саша строчит что-то в блокноте, младший лейтенант Лева сам себе наливает стопку, бормоча под нос, что, мол, пора – погода портится, Надежда Кузьминична с Леной частушки поют, Ваян спорит с Лешей, отец Николай макает очередную долму в соус из аронии. А я разглядываю на просвет рюмку, полную браги из морошки… Хотелось бы сохранить этот праздник в ее янтарном свете и донести до тебя, читатель.
26 октября
…Смотреть в лицо реальности проще, чем кажется.
Отец Антоний (Блум)
Время линьки белок и отлета лебедей. Мои тополя вычесывают из веток последние золотые листья на холодное небо в зеркале Онего.
Отец Антоний[21]21
Митрополит Антоний (Антоний Сурожский, в миру Андрей Борисович Блум; 1914–2003) – епископ Русской православной церкви, митрополит Сурожский; философ, проповедник.
[Закрыть] сравнивает наше сознание с озером, в котором отражается как совершающееся в нашей душе, так и происходящее в нашем теле. С одной стороны, глядя на отражение неба в воде, мы видим далеко не весь небосклон, более того – не видим и само небо, поскольку не поднимаем голову. Мы созерцаем лишь тот фрагмент, который умещается в водном зеркальце. К тому же картина меняется при малейшем ветерке или брошенном в воду камешке.
Скоро зима. Лед скует воду, и зеркало Онего скроется под снегом.
9 ноября
Иконописцы прошлого, утверждал Клюев, работали с такой утонченностью (прозрачные цвета, воздушный рисунок…), что икона медленно проявлялась в процессе молитвы и созерцания. Сегодня ощущение иконы утрачено, полагал автор «Песен из Заонежья», в моде афиша, смердящая деньгами и адским пламенем.
Чем дольше я живу в доме на берегу Онего, тем больше убеждаюсь, что здешний пейзаж сродни старинным иконам. Чтобы ощутить это, нужны время, безмолвие и сосредоточенность.
26 ноября
Утро. Половина девятого. А за окном темнота – хоть глаз выколи – словно разлитые чернила. За моей спиной русская печь. Бушующий в ней огонь отражается в окне. Пламя освещает почерневшие бревна повала, выхватывает из мрака тени, играет на окладах икон. Agnihotra. Жертвоприношение огню! Вокруг тишина. Только ольховые дрова шипят в печи да шумит на столе ноутбук. Все остальное спит.
Затем мир за окном начинает медленно проявляться – словно фотография. Сперва светлеет по краям снег (как на негативе), а вода в Онего остается черной. Потом небо отделяется от воды, бледнеет пламя в оконном стекле. На фоне неба вырисовываются тополя – ветка за веткой – все четче, все реальней. Черная вода приобретает цвет сепии, вот уже можно пересчитать волны. Оттененная снегом, видна каждая заклепка на лежащей вверх дном лодке Жени Печугина, каждый венец его бани – тесанный «в обло». Огонь в окне блекнет, никнет… Сникает.
Наконец солнце вваливается в избу и, здороваясь, словно бы невольно трогает лучом дошпулуур, аж струна стонет (другой луч освещает «Зимний лес» Стройка[22]22
Георгий Адамович Стронк (1910–2005) – художник, мастер карельского пейзажа, портретист, самобытный иллюстратор «Калевалы». Народный художник Карелии.
[Закрыть]), разливается по столу медово-золотым светом, покрывает густым слоем стены и потолки, скамьи и лавки, сундук, буфет и кадку, стекает на пол и проникает в каждую щель. В конце концов добирается до печи, обливая ее позолотой.
В печи, мерцая жаром, догорают последние угли.
27 ноября
«Печь[23]23
Небольшое пояснение для русского читателя. В польском варианте дневника я иногда использую русские слова (так называемые русицизмы). В частности – русское «печка» вместо польского «piec». На этом примере лучше всего виден мой замысел. Дело в том, что в Польше нет печей, которые можно было бы сравнить с русской печкой. Иначе говоря: в польской действительности отсутствует десигнат понятия «русская печка», и человек, встретивший в тексте словосочетание «ruski piec», не поймет, о чем идет речь, или подменит чем-то привычным. Не говоря уже о том, что польское слово «piec» – мужского рода, а «печка» – женского. Примеч. автора.
[Закрыть] нам мать родная», – гласит русская пословица. Русская печь – поистине символ бабы. Это наглядно показывают повивальные обряды. Если женщина рожала в избе, открывали печное устье, отворяя этим магическим жестом родовые пути. Из выпавших углей делали отвар, которым поили роженицу – чтобы плод вышел из нее так же легко.
Иногда – если нигде поблизости не было бани – женщина рожала в печи. Тогда младенец появлялся на свет словно бы из двойного чрева: женского лона и печного брюха.
Кстати, когда я гляжу в мрачное устье русской печи, где стихия огня соединяется со стихией земли – пламя лижет глину, – мне кажется, будто я заглядываю в бездну древнейшей истории, а заодно и вглубь самого себя. Ведь еще Гераклит утверждал, что начало миру положил огонь, а из глины, согласно Библии, был сотворен первый человек. Временами там… на задней стене… мерещится мне сквозь пламя тень… Тень человека, сидящего в пещере у огня.
В старину русские печи «били» из глины, сырые кирпичи стеши использовать позднее. Обычно хозяин сам изготовлял опечье (деревянный сруб на три-четыре венца) и под (тесаные доски с толстым слоем глины). На «печебитье» приглашали местных парней с девками. Молодежь привозила с собой глину – не меньше десяти возов. Месили ее здесь же, в избе, распевая ритмичные песни, уминали босыми ногами глиняное тесто в дощатую форму. Сопение, чавканье глины, визги, шутки, смех… Иногда в глину добавляли выкопанные на пашне камни – они лучше разогревались и дольше хранили тепло. После работы хозяин ставил молодежи «печную» водку и начиналось гулянье. «Печебитье» занимало несколько часов. Гуляли до утра. А хорошо сбитая печь служила нескольким поколениям.
Теперь времена не те. Правда, во многих заонежских избах я видел старые русские печи, но – боже мой! – в каком плачевном виде: покосившиеся, потрескавшиеся, кое-где подпертые палкой, точно согбенные старухи, тяп-ляп подмазанные глиной. Сегодня никто не занимается «печебитьем», мало кто вообще знает, как за это приняться. В моде железные буржуйки (последний писк – канадские «булерьяны») – чтобы прогреть избу в холодное и дождливое лето. Зимой народ отсюда разбегается – кто в город, кто в поселок – в бетонные клетки с центральным отоплением. А подростки (те, что не успели удрать поближе к цивилизации) предпочитают дрыгаться в ритме техно на дискотеке в сельском клубе, а не пачкать ноги глиной.
Увидев в доме разбитые печи, я поначалу растерялся. Ходили слухи, будто разгромила их местная шпана в поисках золотых червонцев Федора Анисимовича, якобы спрятанных в доме от большевиков. Согласно другой версии, шпана искала не киприяновское золото, а вовсе даже дедовский самогон, однако в любом случае, – соображал я лихорадочно, – тепла нам эти байки зимой не прибавят. А печника тут не сыщешь ни за какие деньги. Даже за самогон.
Пришлось самому закатать рукава. Прежде всего я прочитал несколько книг о печном деле. Во всех обнаружил предупреждение об одном серьезном недостатке русской печки – она не обогревает низ помещения. Жаль, что я тогда не обратил на это внимания – увлекся деталями конструкции и безопасности. Обратился я и к народной мудрости: принялся расспрашивать местных стариков, из чего лучше делать под – из глины или огнеупорного кирпича.
– Кирпич прочнее, – говорили мне, – зато на глине лучше выпекается хлеб.
Каждый считал своим долгом дать совет – что добавить в глиняное тесто. Одни рекомендовали сажу, другие нахваливали сырые яйца, третьи выступали за жидкое стекло.
– Но самое главное, чтобы тесто получилось упругим на ощупь, – наставлял Федорович. – Как ядреная попка, – добавил он.
Наконец мы с Наташей взялись за дело. Помогал нам сосед Андрей. Едва начали месить глину, мои страхи прошли – как рукой сняло. Ведь одно дело – размышлять о работе, и другое – действовать. Не хочу утомлять читателя, описывая, как били под, чтобы Наташа могла печь хлеб и калитки прямо на глине, как выкладывали полукругом своды, оббивая каждый кирпич с одного бока, как прикрывали дымоходы кирпичным кожухом для предотвращения пожара, – это надо испытать самому. Скажу только, что с двумя печами мы управились в три дня. Ремонт оказался лучшим способом узнать их тайны – и самой конструкции, и секретов ремесла.
Но по-настоящему мы оценили русскую печь зимой. В этом доме не зимовали на протяжении почти полувека (сам он выстроен в начале прошлого столетия), а мы вселились летом, не имея ни малейшего понятия о его слабых местах – тут стена прогнила, там крыша протекает. А зима оказалась – ого-го! Старожилы такой не помнили: столбик ртути в термометре замер (словно замерз) на отметке минус сорок. Прорубь в Онего – откуда брали воду! – каждый день разбивали пешней, пока она не превратилась в глубокий колодец. Да еще неистовый сиверик продувал дом насквозь. Из-под половиц тянуло, как из преисподней, – какой-то кретин разобрал «черный» пол (небось на дрова), оконные стекла покрывались толстым слоем инея, а туалет на втором этаже через дырявую крышу заметало так, что сиденье приходилось откапывать лопатой… Тут одно спасение – печная лежанка!
Лежанка – спальное место на русской печи, что-то вроде уютной берлоги под повалом, со всех сторон спрятанной от мира. Наша лежанка – метр восемьдесят пять на метр семьдесят. Настоящее волчье логово.
Представьте себе: ночью в избе стоит такой холод, что замерзает вода в ведре на полу (тот самый изъян русской печи, о котором я уже упоминал) – утром, не помахав ломом, чаю не выпьешь – а на лежанке настоящий рай! Хоть голым лежи! Без одеяла! Неудивительно, что Клюев заявил:
– Не хочу Коммуны без лежанки!
Да если бы только Коммуны… Зимой без лежанки жить не захочешь.
Сколько раз бывало: промерзнешь до мозга костей (с Павлом Коноваловым сети похожал или помогал Наташе полоскать белье в проруби – да впрочем, когда холодный ветер задувает во все щели, достаточно просто несколько часов посидеть за компьютером, чтобы руки окоченели), залезешь на печь – и через мгновение чувствуешь, как проникает в тебя жар глинобитной лежанки… глубоко-глубоко… Кажется, что тело и печная глина – единое целое, и словно слышишь голос старухи Михалны:
– Человек и печь из одной глины слеплены, наше тело и глина состоят из одних и тех же элементов.
Михална – ведьма (от слова «ведать»). Глиной врачует все недомогания. В прошлом году я вывихнул ногу, и Михална лечила ее компрессами из голубой глины, завернутой в льняные тряпицы, а еще прописала глиняный раствор. Через несколько дней отек сошел, нога приобрела нормальный цвет и стала как новенькая.
В русской печи тоже можно лечиться – это старинное заонежское лекарство от всякой хвори. Достаточно хорошенько ее протопить (лучше всего березовыми дровами и можжевельником), завернуться в несколько слоев мокрых простыней, залезть внутрь, чтобы из устья одна голова торчала, – и терпеть до седьмого пота.
Я знаю, о чем говорю, – испробовал на своей шкуре. В отличие от Владислава Ходасевича, который о русской печи знал кое-что понаслышке (и где он слыхал – в питерских салонах?) – якобы и хлеб в ней пекут, и от болезней спасаются, – и все у него в голове перемешалось, потому что он написал, будто Гаврилу Державина в детстве лечили запеканием в русской печи в хлебном тесте… ха-ха! Еще удивлялся, как это маленький Гаврила выжил после такой процедуры.
Так что русская печь – и в самом деле мать родная: и греет, и кормит, и лечит. Вне всяких сомнений, именно она сформировала характер русского человека. Достаточно вспомнить сказку о Емеле, который ни за какие богатства не желал покидать свою лежанку и даже к царю поехал на печи. Да зимой я сам без лишней надобности с нее не слезу!
Вот сейчас, когда пишу о печке, она стоит передо мной – красавица, свежевыбеленная, как новая… слепит глаза, пышет теплом и пахнет хлебом.
9 декабря
Нередко спрашиваю себя – откуда взялись эти мои атавизмы? Почитание огня, ощущение родства с землей, видения теней в пещере. Чем дольше я об этом размышляю, тем отчетливее понимаю, что ответ не так уж прост.
Прежде всего – к этому располагает пейзаж. Куда ни взглянешь – кругом мандера[24]24
Мандера – берег, суша, континент, лес на материке.
[Закрыть], заснеженные дороги, звериные тропы… Человеческих следов мало: изредка наткнешься на след «Бурана», лунку во льду, пару обгоревших головней, пятна мочи на снегу – вот и все. Даже там, где еще недавно было людно, – ни души. Вымершие деревни пугают культями домов, словно взывают о помощи, от совхоза «Прогресс» осталась груда кирпичей. А если и встретишь человека – так это чаще всего пьяный «пейзан» (по определению Донцовой), часть ландшафта, давно утратившая черты homo sapiens и скорее напоминающая валун у дороги или раскачивающийся на ветру куст.
Тут не найдешь следов древних культур – никаких тебе колонн или акведуков, да хоть бы остатков старого тракта или руин агоры, ни призрака собора или развалин замка, ни обломка стены… не говоря уж о столетних газонах. Правда, сохранилось несколько памятников деревянного зодчества, но их возраст не превышает ста пятидесяти – двухсот лет. Единственная церковь Воскрешения Лазаря, XVI века, из Муромского монастыря больше напоминает печугинскую баню, чем настоящий храм. На лесных полянах – ровные гряды камней, извлеченных из земли во время пахоты, но не выдавать же их за остатки древней культуры Заонежья.
Краеведы объясняют:
– Кочевники следов не оставляют. А дерево – главный строительный материал заонежских крестьян – недолговечно.
Все равно такое ощущение, что человек тут появился в одночасье прямо из неолита, поселился в русской избе, потом на скорую руку выстроил совхоз из силикатного кирпича, а после падения коммунизма и вовсе исчез.
Во-вторых – здешний быт. Постоянное соприкосновение с суровой природой. Вода, которую каждое утро нужно принести с озера – даже если на дворе бушует метель и майну[25]25
Майна – широкая трещина во льду, полынья.
[Закрыть] занесло снегом по пояс или она промерзла на целую пядь (вот как сегодня). Без огня не выжить, а чтобы его поддерживать, надо притащить из леса дерево, распилить и поколоть на дрова. Со временем начинаешь понимать, почему языки северных народов различают несколько десятков оттенков снега и льда, по звуку чурбака под топором научаешься определять, какой сегодня мороз, а по солнцу моментально предсказываешь погоду на завтра.
Быт на первый взгляд примитивный. Меню состоит в основном из того, что сам выловил из озера, вырастил на земле или нашел в лесу и только затем приготовил. Наташа сама мелет зерно, выращивает хмель на дрожжи. Одежда все больше из шкур и шерсти местного зверья (я ношу свитера, носки и рукавицы из шерсти усть-яндомских овец), а также льна и конопли. В доме царят дерево и глина, в хозяйстве – колун и сеть. Так что быт наш самый что ни на есть естественный и здоровый. Многие гости из так называемого цивилизованного мира, где земля закрыта асфальтом, небо – небоскребами, а пищу не едят, а потребляют, лакомясь нашим черным хлебом и запивая его брагой из чаги (потом едоков слегка проносит), говорят с завистью:
– Ой, правда, какая же у вас тут жизнь…
– Что касается правды, – смеюсь я в ответ, – не знаю и знать не хочу, а что к настоящей жизни мы тут ближе – это уж точно. Например, к солнцу! Вроде бы все от него на одном расстоянии, но нам оно диктует жизненный ритм – нерест рыб, сенокос, огород, – а вам только просвечивает сквозь смог да определяет время отпуска.
Ну и в-третьих, тишина и уединение. Зимой в радиусе пяти верст тут никого, иногда только по ночам волки прокрадываются через опустевшую деревню – утром я обнаруживаю возле дома их следы. Ни один живой звук не нарушает покоя, никто не скрипит за стеной, не шумит под окном, на улице – ни звона трамваев, ни грохота машин. Да что там – человеческие голоса не доносятся сюда даже средствами массовой информации, потому что нет тут ни радио, ни телевизора. В результате мировые сплетни либо обходят нас стороной, либо поступают с большим опозданием. О войне в Ираке я узнал спустя две недели после ее начала – от рыбака, заглянувшего к нам на чай. При помощи телефона и Интернета меня тоже не достать. Словом, никто и ничто мне здесь не мешает.
В такой тиши можно многое расслышать. Греческий поэт Кавафис[26]26
Константинос Кавафис (1863–1933) – поэт из Александрии, признанный величайшим из всех писавших на новогреческом языке.
[Закрыть] писал, что, находясь в пустой комнате один, ты отчетливо слышишь тиканье часов, которое пропадает, как только порог переступают другие люди и начинают шуметь, а ведь часы продолжают тикать. Вот вчера ночью разбудило меня что-то… будто бы вой…
– Может, снова волки подошли к деревне, – прислушивался я сквозь дрему, – или ветер поднимается, смена погоды?
Завывало это нечто, словно звало (из какой-то глубины…), но я провалился в сон, не успев понять, в чем дело. Утром засомневался: наяву это было или во сне? А может, – подумал я, – это вдруг подал голос мой тотемный предок? Не случайно в этом безлюдье человек испокон века роднился со зверем.
Тотемизм, анимизм, вызывание духов – до чего же все это становится близким, когда поживешь наедине с белой пустотой. Иногда хочется крикнуть:
– Есть там кто?
24 декабря
К югу от Конды Бережной врезается в Онего живописный Ельник – длинный полуостров с вековыми елями. Местная легенда гласит, будто под ними похоронены польские паны, что разбойничали в Заонежье после разгрома отрядов Дмитрия Самозванца. Прогуливаясь там сегодня, вспомнил чудное хайку Юмико Катаяма[27]27
Юмико Катаяма – японская поэтесса и критик, автор хайку и критических статей о хайку.
[Закрыть]: ели веселятся, хоть и не приглашены на Рождество.
29 декабря
…Переставал существовать как личность, все больше сливаясь с окружающим пространством.
Генрик Сенкевич
В половине четвертого темнеет. Зажигаю настольную лампу, и мир за окном снова блекнет. Лишь время от времени мерцают в темноте – точно блуждающие огни – «Бураны» рыбаков, возвращающихся с Большого Онего. Раньше они держали путь на фонари Великой Губы, нередко сбиваясь с накатанного по льду зимника. Когда в Конде Бережной появилось электричество, ориентиром стали служить наши окна.
– Ваш дом светится, как морской маяк, – говорят рыбаки.
Итак, я зажигаю лампу, словно (с позволения сказать) Скавинский[28]28
Скавинский – главный герой рассказа Г. Сенкевича «На маяке» (1882).
[Закрыть], и ставлю диск с голосами польских поэтов, изданный к двадцатилетию журнала «Зешиты Литерацке», чтобы послушать, как звучит в этой заонежской глуши родная речь:
Замирает на обочине «додж» и туши его прицепов
На мгновение горячая моча дырявит снег и тишину.
Это голос Бараньчака[29]29
Станислав Бараньчак (р. 1946) – выдающийся польский поэт и переводчик с английского языка, заведующий кафедрой славистики Гарвардского университета.
[Закрыть]. Словно с того света. Я закрываю глаза… Новый 1990 год, дом Бараньчаков в Массачусетсе. За столом хозяева, Антоний Либера[30]30
Антоний Либера (р. 1949) – польский прозаик и режиссер, известнейший в мире знаток творчества С. Беккета.
[Закрыть], Мария Эдер[31]31
Мария Эдер – американский драматург.
[Закрыть] и я. Пьем виски. Аня подает индейку с авокадо, Либера показывает на видео свою новую постановку Беккета – только что из Лондона. Болтаем о войне в Персидском заливе (версия CNN) и последнем концерте Филиппа Гласса[32]32
Филипп Гласс (р. 1937) – американский композитор.
[Закрыть] в Бостонском симфоническом зале, о Джеймсе Меррилле[33]33
Джеймс Меррилл (1926–1995) – американский поэт, прозаик, драматург.
[Закрыть] и Эдварде Хоппере[34]34
Эдвард Хоппер (1882–1967) – популярный американский художник, видный представитель американской жанровой живописи.
[Закрыть] (в связи с моей поездкой на Кейп-Код), и еще о многом другом. Бьют часы, стреляет шампанское. Сташек дарит мне на память свою «Открытку с того света…». Под утро я отвожу Марию в Кембридж и возвращаюсь в одиночестве вдоль реки Святого Чарльза в Вотертаун, потягивая из фляжки золотую текилу. На дороге встречаю чернокожего бродягу с бутылей рома. Чокаемся: за Новый год! На другом берегу – петарды, фейерверки. Идет снег… В этой ли жизни все это было или в другой?
Из почерневшего снега чей-то, неизвестно чей
Возносящийся к небу – посох, клюка, кий.
Заканчивается «Зимнее путешествие» Сташека, а я продолжаю – вызывая духов с CD – блуждать с закрытыми глазами. Голос Херберта[35]35
Збигнев Херберт (1924–1998) – польский поэт, эссеист.
[Закрыть] переносит меня в столовую дома в Мезон-Лаффите, за столом Редактор[36]36
Ежи Гедройц (1906–2000) – бессменный редактор журнала польской эмиграции «Культура» (1947–2000) в Мезон-Лаффите под Парижем.
[Закрыть] и пани Зофья…[37]37
Зофья Херц (1910–2003) – ближайшая соратница и сотрудница Ежи Гедройца.
[Закрыть] и хотя их уже нет в живых, они ближе мне, чем многие из живущих. Голос Крыницкого[38]38
Рышард Крыницкий (р. 1946) – польский поэт, издатель.
[Закрыть] воскрешает в памяти мою вроцлавскую квартиру – конец семидесятых, подпольный авторский вечер, среди молодой лохматой публики с трудом узнаю себя. Голос Милоша[39]39
Чеслав Милош (1911–2004) – польский поэт, лауреат Нобелевской премии (1980).
[Закрыть] зовет в Краков, Старый Поэт собственноручно открывает дверь, приветствует галантно… и по-русски, смеясь при этом так громко, что на эхо его хохота является из кухни Кароль – она готовила кофе для гостей. Голос Загаевского[40]40
Адам Загаевский (р. 1945) – польский поэт, эссеист.
[Закрыть] неожиданно перебрасывает меня во Львов, где я никогда не был. И наконец я слышу, как звучит голос Венцловы[41]41
Томас Венцлова (р. 1937) – литовский поэт, профессор Йельского университета.
[Закрыть] – до сих пор я имел представление лишь о его храпе за стеной гостевой комнаты краковского издательства «Знак».
Отсюда кажется, что все это происходило на том свете.
1 января 2004
Иней на тополе искрится бенгальскими огнями. Сквозь обледеневшие веточки – точно кружево морской пены – просвечивает бледно-голубая эмаль неба. На заборе изморозь ершится. С крыши сосульки свисают, в мое окошко заглядывают. А за окном – тень дома: солнце восходит как раз у меня за спиной. Из тени дома тень дыма протянулась… Единственная тень жизни на этом экране.
23 января
Сижу на Севере, словно на макушке мира (взгляните на глобус!). Маркиз де Кюстин заметил, что по мере приближения к полярному кругу все больше кажется, будто взбираешься на какие-то гигантские Альпы, откуда виден весь мир, расстилающийся внизу.
Север – мое кочевье, область познания.
Север – моя быль!
Мой Север начинается с великих европейских озер – Ладожского и Онежского, охватывает Карелию и берег Белого моря, Кольский полуостров и Архангельскую область, бассейн Северной Двины и Мезени, аж до Печоры и Камня (старое название Урала), Новой Земли, Вайгача и Карских Ворот. Во временном же отношении он берет начало в шестом тысячелетии до нашей эры. Примерно так ученые датируют обнаруженные здесь древнейшие следы человека мезолита.
Мой Север – колыбель шаманизма, то есть истоков религии. Око Ольмаркс[42]42
Око Ольмаркс – датский ученый.
[Закрыть] (которого цитирует Элиаде) утверждает, что шаманизм по своему происхождению – типично арктический феномен, вызванный влиянием на человеческую психику космоса, а также одиночества, избытка белого цвета, недостатка витаминов и так далее. Ольмаркс полагает, что шаманизм зародился из арктической истерии – психического заболевания, очень распространенного среди народов Севера.
Кстати, о влиянии космоса на психику и мне есть что рассказать – я провел близ полярного круга около десятка зим. Зимой не хватает солнца, энергии, мучает сонливость, снится масса снов. Зато летом страдаешь от избытка света, ходишь перевозбужденный, плохо спишь. Это только то, что касается солнца! А полярное сияние? А магнитные бури?
Здесь, на Севере, можно увидеть, как зарождалось искусство – достаточно отправиться на Бесов Нос (мыс на восточном берегу Онежского озера) и полюбоваться петроглифами времен неолита – высвечиваемыми солнцем рисунками на гранитных плитах. Эти петроглифы наглядно показывают, как при помощи искусства и магии первобытный человек пытался приручить смерть.
Каждый раз, бывая на Бесовом Носе и просматривая эту фантастическую киноленту каменного века, я все больше убеждаюсь, что искусство зародилось как мучительный труд и молчаливое созерцание, а не трюки на потеху публике и визжащим от восторга барышням.
Горизонты на моем Севере беспредельны. Поэт писал, что земля у полюсов несколько… сплющивается. Кроме того, в тундре ничто не заслоняет вид, поскольку кустарник едва доходит до колен. Отсюда и Москву видать, и Петербург, и Нью-Йорк, Тель-Авив и Багдад, Токио, Дели и Пекин, Тбилиси и Гаагу, Париж, Лондон, Киры и Варшаву – в их истинном масштабе!
Да что там, отсюда и каждого человека можно просветить, словно рентгеном, узнать, чего он стоит на самом деле. Хотя люди здесь, в общем, и не нужны. Вполне достаточно духов!
25 января
На белом экране Онего в моем окне – две маленькие черные фигурки: прямо напротив меня – Слава, в защитной маске от ветра (новогодний подарок), ждет оказии («Бурана»), чтобы на сноуборде прокатиться, чуть правее удаляется Наталья… Побежала на лыжах в поселок – в магазин и на почту. Может, «Жепа»[43]43
«Жепа» («Rzepa») – разговорное сокращение названия польской газеты «Жечпосполита» («Rzeczpospolita»).
[Закрыть] пришла. Я же пою на ноутбуке то, что вижу за окном, – этот абзац. Словно старый самоед на берегу Хатиды.
* * *
Впервые с Севером я встретился на берегу Обской Губы. Я был там осенью 1991 года (сразу после московского путча) – с вроцлавской киногруппой. Мы вроде собирались снимать какое-то «кино», меня попросили помочь написать сценарий, однако в результате все кончилось грандиозной пьянкой. А после возвращения домой каждый занялся своим делом. Звукооператор, например, возглавил вроцлавское телевидение.
(Кстати, о Вроцлаве. Помню, еще «в подполье» Эугениуш Шумейко шутил, что все мы когда-нибудь встретимся где-нибудь в Сибири, скажем, между Обью и Енисеем. Эх, Генек, хотел бы я знать, где ты сейчас?)
База у нас была в Надыме, одном из главных населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, коренными жителями которого являются ненцы, некогда называвшиеся самоедами. Замечу, что слово «самоед» происходит не от «сам себя ест», а от «сам един», то есть «живущий обособленно». Так, во всяком случае, утверждал Александр Борисов[44]44
Александр Алексеевич Борисов (1866–1934) – русский художник, первый живописец Арктики, писатель, общественный деятель, исследователь полярных земель.
[Закрыть], путешественник и художник Заполярья – мира, простирающегося за полярным кругом.
Надым выстроен на вечной мерзлоте. Повсюду трубы, проложенные по поверхности земли, для теплоизоляции кое-как обмотанные толем и паклей, из многочисленных щелей вырываются клубы пара. На центральной площади – памятник Ленину, вокруг магазины, учреждения и офисы средней руки, бар фастфуда, обменный пункт, пара жилых домов для местной элиты и приличная гостиница – для иностранных гостей да московских «шишек». Остальное – каменные трущобы, искривленные мерзлотой и потрескавшиеся от холода. Надым сродни ночному кошмару, но не аллюзия с Альфредом Кубином[45]45
Альфред Кубин (1877–1959) – австрийский график, писатель и книжный иллюстратор, для творчества которого характерно изображение фантастических сновидений.
[Закрыть] и не кадр из фантастического фильма, а пьяное видение советских «товарищей», соблазнившихся природным газом. Отсюда до месторождений Ямала – рукой подать.
«Товарищей», впрочем, и я повидал – это было их время (кто знает, может, оно и сегодня не кончилось?). Мы познакомились в бане, куда нас пригласили, как приглашают на вечеринку. Банька была классная, от жара – уши в трубочку, в предбаннике ледяная водка, голые девки, черная икра, арбузы, помидоры и мясо гриль. Кажется, лосина.
– Давайте за Сталина, – поднял тост Егорыч, когда мы все уже были «тепленькие». Егорыч возглавлял организацию с длиннющим названием, из которого следовало, что они оказывают помощь коренным жителям Севера. Вроцлавское телевидение подписало с ними договор о сотрудничестве: они обязались бесплатно предоставить вертушку (вертолет) для съемок документального фильма о сталинских лагерях, а вроцлавская группа обещала из обрезков материала слепить рекламный клип для интуристов. Ничего удивительного, что все поспешно опрокинули стаканы.
26 января
О северных летчиках следует сказать особо, это отдельная каста. Я уже много лет дружу с Владимиром Деартом, пилотом и поэтом в одном лице. Деарт проработал на Севере двадцать шесть лет. Облетел всю Карелию и Кольский полуостров, Республику Коми, Новую Землю, Вологодскую и Архангельскую области, а также Западную Сибирь от Тюмени до Ямала и Гыды.
Володя подарил мне множество великолепных историй о людях Севера и томик своих стихов, недавно изданный в Архангельске. Несколько стихотворений я попытался воссоздать на польском. Вот строфа, открывающая сборник:
Уходит день, и новый день придет,
И думаешь, что в вечности родился.
Неспешная душа чего-то ждет,
А ум, все понимая, затаился.
Деарт уже давно на пенсии, но приятели помоложе еще летают. Один из них, Женя Стабниченко, тогда – осенью 1991 года – облетел с нами тундру между Обью и Енисеем, Гыданский полуостров и Ямал. Женя – настоящий виртуоз. Однажды, к примеру, мы везли из Надыма одну бабулю – собирать клюкву, так Женька высматривал ягодники с воздуха, едва не задевая кусты брюхом своего «М-4». В другой раз они помогали самоедам загонять стаю рыб в сети – летали над самой рекой с крутыми высокими берегами, за которые в любую секунду мог зацепиться пропеллер. Стабниченко смеялся, что это все детские игрушки: вот бурильные установки опускать с вертушки – это да, это серьезно.
Выйдя на пенсию, Володя Деарт мечтать не перестал – сам построил дом. Пока летал, высматривал с неба подходящее место и остановил свой выбор на окрестностях Каргополя – больше всего ему полюбился уголок на берегу реки Свидзь, близ озера Лача. Еще он построил яхту, чтобы на старости лет ходить по Лаче с внучкой Натулей. Володя пишет стихи, которые посвящает Онего, тундре, а порой жене и друзья – живым и мертвым.
Я пью вино, друзей уж слева нет,
Как, впрочем, справа тоже их немного.
27 января
Из Надыма мы летали на «Стройку-501», последнюю крупную сталинскую стройку. Дело в том, что у Сталина была маразматическая идея пустить по полярному кругу железную дорогу – от Урала до Берингова пролива (два шага до Америки!). Строили зэки. Начали одновременно от Салехарда на Оби и с Игарки на Енисее. Смычка должна была состояться где-то посередине, но вождь умер, и работы остановили… И по сей день в тундре сохранились руины зон: полуразвалившиеся печи с устремленными в небо трубами, полусгнившие бараки, покосившиеся вышки охранников. Зоны стояли через каждые несколько верст, вдоль путей железной дороги, которая теперь все больше напоминает сталкеровскую колею, только еще и изуродованную вечной мерзлотой.
«Стройку-501» мы снимали не только с высоты птичьего полета – еще проплыли мимо по реке Ярудей на катамаране. Это была незабываемая экспедиция, с массой приключений и впечатлений: охота, грибы, рыбалка. Да что тут говорить – сентябрь в тундре!.. Прекрасная пора – по красоте, краскам. Мы шли по реке от зоны к зоне. Кое-где останавливались.








