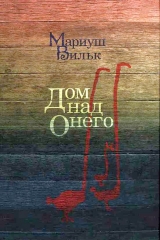
Текст книги "Дом над Онего"
Автор книги: Мариуш Вильк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Стружка была для него тайным письмом,
Топором он создал поэму свою.
Столярное дело, как и поэзия, – своего рода эзотерическое знание. Плотник исследует тайну дерева, поэт – загадки слова. Все прочее – ремесло, требующее кропотливого ученичества под контролем мастера-Природы. Кедры учат гармонии венцов, капля воды, которая камень точит, – правильному удару топором, а тополя, сплетающие кружева из осенних паутинок, – искусству резных крылечек.
В поэтическом тигле Клюева понятия мутируют, словно в лаборатории алхимика: из дерева рождается деревня, печной столб – шаманское древо жизни, матица (потолочная балка) на нем – Млечный Путь на темном небосклоне потолка, к матице привязана зыбка (колыбелька) – и младенец в ней… колышется. Зыбь – это и волна на Онего, и волнение нивы; мимо стола идет дорога с Соловецких островов в Тибет, в красном углу – «белая Индия» и «мужицкие Веды», за печкой дремлет сизое Поморье, на полатях, как на горе Фавор, «тела белеют озерной пеной», в деревянном нутре комода-кита библейский Иона крестится двумя пальцами по старому обряду, в горшке на печке шумит река Нил, и так далее, и тому подобное. И все это происходит в сердце Клюева. Потому что сердце поэта – «изба, бревна сцеплены в лапу…».
Кто-то спросит: что же общего у Вед с мужиком? Откуда в русской избе взялись белая Индия с Нилом?
О! Это как раз и есть тайна эзотерического знания олонецкого ведуна. Для Клюева русская изба была Вселенной, потому что заключала в себе все исторические эпохи и все пласты культуры целого мира (что-то вроде Алефа у Борхеса), и одновременно Дорогой, потому что начиналась от печки, а венчалась коньком на крыше. Русскую деревню он сравнивал с временным лагерем кочевников.
(Кстати, другой поэт того времени, Велемир Хлебников, связывал слово «оседлость» с… «седлом».)
К сожалению, для большинства сегодняшних читателей Клюева тайна русской избы останется закрытой. Речь не о клюевской эзотерике – и в его эпоху мало кто находил к ней ключ. Но сегодня, когда уже нет русских изб и мало кому известны основные плотницкие термины, даже фраза о бревнах, «сцепленных в лапу», многим покажется абракадаброй.
Взять хотя бы «Рождение избы», одно из прекраснейших стихотворений Клюева, посвященных плотницкому искусству. Сколько раз я читал его своим гостям – будь то русские из Петербурга или мои соотечественники из Варшавы, кое-как владеющие русским языком, – столько раз чувствовал: они мало что разумеют. Половина слов непонятна. Да и кто из жителей бетонных многоэтажек знает, что такое «кокора», «шеломок», «лапки» или «конек»? А?
* * *
Клюев называл избу «кормительницей слов» и черпал из нее поэтическую энергию, словно мифический Антей из Матери-Земли. Неудивительно, что, живя в городе, он стилизовал интерьер своей квартиры под русскую избу – чтобы не утратить поэтического вдохновения.
Вот как выглядела его «клетушка-комнатушка» в Ленинграде на Большой Морской, 45 (в середине 1920-х годов), – по воспоминаниям гостей. Не комната, а словно бы изба старообрядца. Под окном – кровать с горой красных подушек под ситцевым покрывалом. У стен – дубовые лавки и кованые сундуки. На полках – деревянные ложки и черпаки, глиняные горшочки с изображениями райских птиц и трав. Стол, накрытый домотканой скатертью. На столе – пузатый самовар. Ни одной городской вещи, никаких стульев. На полу – лоскутные коврики, на окнах занавески в цветочек и кружевные павлины. Киот в полстены. На нем иконы новгородского и строгановского письма и медные складни выговского литья. В красном углу – темный Христос и медная лампадка (Клюев утверждал, что это икона из кельи Андрея Денисова[172]172
Андрей Денисов (Вторушин; 1674–1730) – основатель и первый настоятель Выговского монастыря.
[Закрыть], одного из духовных отцов Выгореции), рядом Богоматерь в серебряном окладе, над дверью Голгофа с Распятием – вырезанная из можжевельника и раскрашенная. Многие из этих бесценных произведений древнерусского сакрального искусства Николай Алексеевич спас из уничтожавшихся большевиками церквей Обонежья (за что в 1923 году в Вытегре некоторое время провел в тюрьме), некоторые унаследовал от предков-старообрядцев. В его квартире на Большой Морской можно было полюбоваться и прекрасной коллекций рукописных книг, в том числе уникальным «Цветником» 1632 года (семьсот пятьдесят страниц со множеством иллюстраций!), и другими древностями – столетним персидским ковром, скатертью, расшитой золотой нитью и жемчугом, и тому подобным.
Нетрудно вообразить, какое впечатление производила на гостей Клюева его «клетушка-комнатушка». Тем более что навещали его звезды столичных салонов: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Даниил Хармс… Питерской богеме, вероятно, становилось не по себе в этом диковинном заповеднике раскольничьей Руси в самом центре города на Неве. Впечатление усиливали вид и поведение хозяина: крепкий мужик, заросший, словно олонецкий лес, в вытертой сермяге, дерюжной рубахе, высоких сапогах, на груди – большой поповский крест, хитрые, плотоядные глаза, северный выговор, оканье. То ли усмехается, то ли спрашивает о чем-то?
Один раз Даниил Хармс и Александр Введенский привели к Клюеву поэта Заболоцкого. Николай Алексеевич всех перецеловал и стал хлопотать вокруг гостей, при этом окал как нанятый и руки без конца складывал, точно для молитвы. В конце концов Заболоцкий не выдержал и выпалил:
– Прости, Николай Алексеевич, за прямоту. Зачем вам весь этот маскарад? Я думал – иду к коллеге по цеху, а вы тут какой-то ярмарочный балаган устроили.
Клюев напрягся, посуровел и бросил Заболоцкому – уже без всякого оканья:
– Кого вы мне сюда привели, Даниил Иванович и Александр Иванович? Разве я не у себя дома? Разве не могу делать то, что мне нравится? Захочу – псалмы стану петь, захочу – канкан станцую.
И правда – станцевал.
* * *
Кем же на самом деле был Николай Клюев? Пройдохой, разыгрывающим мужика, или истинным народным певцом? Салонным хлыщом или религиозным визионером? Ведуном или мошенником?
Из воспоминаний современников образ складывается противоречивый. С одной стороны – старообрядчество и юфтевые сапоги, с другой – знание философии Канта («Критику чистого разума» он цитировал в оригинале), любовь к Верлену и нетрадиционная ориентация. Одни называли его «носителем истинной русской души», «единственным действительно народным поэтом», «помостом между старой Русью и сегодняшней Россией», другие обвиняли в позерстве и поэтическом мошенничестве (якобы его «Песни из Заонежья» – плагиат фольклора), конъюнктуре и имитации крестьянского сознания, хотя землю он в жизни не обрабатывал. Особенно ехидный (и при этом неправдоподобный) портрет олонецкого поэта нарисовал Георгий Иванов. В его эссе клюевская «клетушка-комнатушка» оказывается роскошным номером в петербургском «Отель де Франс», где Николай Алексеевич принимал гостей на турецкой тахте в шикарном сюртуке и при галстуке. Не менее шаржированный, но в другую сторону, портрет мы находим в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль». Там демонический Микула специально зачесывает на бок жирные, как у Гоголя, волосы, «чтобы скрыть слишком мудрый лоб», хитро поглядывает изподлобья и разыгрывает дурачка, сует деньги в голенище, якобы не подозревая о существовании портмоне. Однако, что касается Форш, карикатурный образ Клюева отчасти объясняется гротескным стилем романа в целом.
Другое дело – Владислав Ходасевич – автор термина «клюевщина», описывающего мужицкую программу ожидания нового Разина, который первым в России пустит красного петуха и устроит великий пожар (кстати, энтузиазм, с которым Клюев принял участие в большевистском перевороте, подтвердил интуицию петербургского критика, хотя автор «Пожарища» от революционного жара быстро остыл и сделался страстным защитником остатков патриархальной Руси). Политический имидж не позволил Владиславу Фелициановичу разглядеть в Клюеве великого поэта, хотя критиком он был искушенным.
Ясное дело, Николай Клюев раздражал. Было в нем нечто от юродивого, не от мира сего. Это же есть и в раскольнице Люсе из Загубья, которая может шепнуть, что на прошлой неделе беседовала с отцом Корнилием Палеостровским (знаменитый монах, живший несколько веков назад[173]173
Корнилий Палеостровский (Олонецкий; ум. ок. 1420) – основатель и первый игумен обители на острове Палий на Онежском озере.
[Закрыть]), и с улыбочкой посмотреть – как я отреагирую. То же я почувствовал у самоедского тадибея на Ямале, который на вопрос о шамане вручил мне испорченный радиоприемник.
И раскольница Люся, и самоедский тадибей, и поэт Клюев – из тех людей, которые видят больше, чем простой обыватель, и знают об этом. Поэтому они иногда смеются, иногда иронизируют, иногда валяют дурака. Своего рода защитная реакция.
Если собрать все портреты Николая Клюева, оставленные теми, кто его знал, мы увидим человека непростого, самим своим существованием ломающего условности и стереотипы. Неудивительно, что для многих эта фигура оставалась загадкой и большинство современников ее профанировали. Не понимали, упрощали.
Тем ценнее одно из немногочисленных иностранных свидетельств – воспоминания итальянского русиста Этторе Ло Гатто[174]174
Этторе Ло Гатто (1890–1983) – итальянский литературовед, профессор русской литературы и языка в университетах Рима и Неаполя, переводчик и пропагандист славянских литератур, в особенности русской.
[Закрыть], познакомившегося с олонецким поэтом в Ленинграде в 1929 году и помогшего Клюеву спасти его opus magnum, прекрасную поэму «Погорельщина» (тайком вывез на Запад). Ло Гатто еще раньше слышал от Ходасевича и других столичных мэтров о Николае Алексеевиче – якобы тот переодевается мужиком и изображает старообрядца – и решительно утверждает: «…Едва познакомившись с ним лично, я отчетливо понял, что Клюев не позер. О прошлом я сказать ничего не могу, но во время наших встреч он был далек от какого бы то ни было притворства. Наоборот, его отличала простота человека, который дорого заплатил за свои убеждения и веру и готов платить дальше». Важное наблюдение Ло Гатто: автор «Погорельщины» в гораздо большей степени сохранил свои крестьянские корни, чем маньерист Сергей Есенин. Прежде всего – подлинную мужицкую веру.
Мнение человека, с дистанции взирающего на комплексы и стереотипы народа, с которым его свела судьба, для меня в данном случае важнее, чем свидетельства соотечественников поэта… Может, потому, что сам я уже почти пятнадцать лет живу на правах иностранца.
Конец белых ночей
Вот и конец лета… Вроде бы жарко, и мухи все еще злые, и туристический сезон не закончился, но в воздухе уже веет печалью, иван-чай у обочины отцветает, и брусника в лесу покраснела. В людях тоже брожение, словно они чувствуют, что это агония лета – скоро осень, слякоть и грязь, а после долгая, мрачная зима.
Начало белых ночей поймать относительно легко, потому что, заждавшись солнца после долгой и мрачной зимы, мы созерцаем постепенное нарастание света, а вот конец их обычно ускользает от нашего внимания. Не успеешь оглянуться, как белые ночи опять почернели.
Изменился и цвет Онего. Оно снова сделалось небесно-голубым. Василий Кандинский утверждал, что чем глубже синева, тем сильнее она призывает человека в бесконечность. А Клюев писал:
Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын Великих Озер.
Сегодня мне снилось, что олонецкого ведуна в Томске не убили. В моем сне перед самым выстрелом Николай Клюев превратился в нырка. Вспорхнул перед носом у чекистов – и был таков.
Об авторе

Марнуш Вильк – польский журналист и писатель, соратник Леха Валенсы, один из лидеров «Солидарности», писатель, мыслитель, человек-дорога. Родился в 1955 году, в 1989 году уехал из Польши, работал в России в качестве журналиста (был очевидцем московского путча и абхазской войны), остался на Соловках, где прожил несколько лет. Перебрался в Карелию, немало кочевал по Кольскому полуострову. Живет попеременно в Петрозаводске и в доме на берегу Онежского озера.








