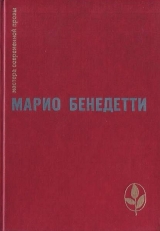
Текст книги "Избранное (Передышка. Спасибо за огонек. Весна с отколотым углом. Рассказы)"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Воскресенье, 16 июня
Однако же сказал. Мы прошли три квартала, от улицы Восьмого октября до ее дома, фонари на этот раз горели. Кажется, я заикался; я напомнил о нашем плане – оба мы совершенно свободны, узнаем друг друга получше и посмотрим, пусть пройдет время, а там видно будет. Да, конечно, я заикался. Месяц прошел с тех пор, как она пришла в кафе на углу Двадцать пятой и улицы Мисьонес выпить свой кофе. «Я хочу кое-что предложить тебе», – сказал я. Я говорю ей «ты» с пятницы, с седьмого числа, а она мне – нет. Я думал, она ответит «я знаю», было бы много легче. Но нет. Она не пожелала снять эту ношу с моих плеч. Не догадалась или, может быть, не захотела догадаться. Никогда у меня не получались вступления, и тут тоже я сразу сказал то, что нельзя было не сказать: «Я снял квартиру. Для нас». Фонари горели, пришлось мне выдержать ее взгляд. Печальный, кажется, не знаю. Я так и не научился понимать, что хочет сказать женщина, когда смотрит тебе в глаза. Иногда думаешь, будто она тебя спрашивает, а потом начинаешь догадываться, что, наоборот, она тебе отвечает. Встала вдруг между нами туча, надвинулась. Туча называлась «брак». Оба мы видели тучу, но оба знали, что скоро она уйдет и завтра вновь засияет над нами ясное небо. «Не спрашивая меня?» – сказала она. Я кивнул утвердительно. Ответить членораздельно я, говоря по правде, просто не мог – ком стоял в горле. «Правильно, – она попыталась улыбнуться, – со мной так и надо обращаться, без церемоний, поставить перед свершившимся фактом, и все». Дверь ее дома оставалась на этот раз незапертой, так как было еще совсем рано. И всюду горел свет. Таинственная поэтичность исчезла. Тяжкое молчание нависло над нами. Я начал догадываться, что мое сообщение не привело ее в восторг. Но в пятьдесят лет восторга уже не ждешь. Ведь она все-таки не сказала «нет»? Конечно, не сказала, только пришлось заплатить за это дорогой ценой: горько мне было, мучительно горько глядеть, как она стояла передо мной, слегка ссутулившись в своем темном жакете, и по лицу ее я видел – многое кончилось для нее навсегда в эту минуту. Она не поцеловала меня на прощанье. Я тоже не пытался. Лицо ее оставалось суровым. И вдруг словно плотина прорвалась – я никак не ожидал этого, – не в силах больше носить маску, она сбросила ее, закинула голову, прислонясь затылком к двери, подняла ко мне лицо и начала плакать. Это не были пресловутые слезы счастья, нет. Так плачет человек, смирившийся с горем. Если ты не смирился, есть смысл рыдать с дрожью, с судорогами, особенно на людях. Но когда ты горюешь и в то же время смиряешься со своим горем, когда не предвидится ни мятежа, ни жертвы, ни героизма, тогда плачешь тихо, ибо никто не может помочь, а кроме того, в глубине души ты знаешь, что горе пройдет, наступит в конце концов спокойствие, все встанет на свои места. Именно так она и плакала. Тут я ошибиться не мог. «Чем я могу помочь? – все-таки спросил я. – Как сделать, чтобы тебе стало немного легче?» Бессмысленный вопрос. И тогда поднялось со дна души сомнение: «В чем дело? Ты хочешь, чтобы мы поженились?» Но нет, та туча уже ушла далеко. «Нет, – отвечала она. – Я плачу обо всем сразу». Как верно она сказала! Обо всем: о том, что горят фонари, о том, что мне пятьдесят, что она хорошая девочка, что у меня трое детей, что у нее был жених, что у нас есть теперь квартира… Я достал из кармана платок и вытер ей глаза. «Ну, прошло?» – спросил я. «Да, прошло». Оба мы врали, но понимали, что сейчас надо врать. Она взглянула на меня почти уже сухими глазами и сказала: «Не думай, что я всегда такая дурочка». «Не думай», – сказала она, да, да, она сказала «не думай». Она сказала мне «ты».
Четверг, 20 июня
Четыре дня я ничего не писал. Все суетился насчет квартиры: подписывал договор, брал со счета две тысячи четыреста шестьдесят пять долларов семьдесят девять центов, покупал кое-какую мебель, волновался страшно. Завтра я получу ключ. В субботу днем привезут вещи.
Пятница, 21 июня
Суареса выгнали. Невероятно, но его действительно выгнали. В конторе все радуются, рассказывают, будто это Вальверде добилась, чтобы его уволили.
Удивительно – причина увольнения самая ничтожная. Два пакета были отправлены экспедицией по неправильным адресам. Суарес даже и не знал о пакетах, корреспонденцию пакуют обычно новички, попался среди них какой-нибудь разиня, ну и напутал, конечно. Совсем еще недавно, бывало, черт знает сколько пакостей Суарес натворит, никто ему и слова не скажет, а сейчас управляющий, видимо, получил приказание вышвырнуть отставного возлюбленного вон. Однако Суарес учуял, что дело дрянь, и начал вести себя как первый ученик: приходит вовремя, иногда даже остается на часок, сверхурочно работает, разговаривает вежливо, держится скромно, исполнительный стал. Только все это ему не помогло. Не нашлось бы ошибок в работе экспедиции, все равно отыскали бы предлог, чтобы его уволить, я просто уверен. Слишком много курит, например, либо в нечищеных ботинках ходит. Некоторые даже утверждают, будто пакеты с неправильными адресами были срочно отправлены по секретному указанию самого управляющего. Что ж, я и такому не удивлюсь.
Суаресу сообщили новость; жалко было на него смотреть. Подошел к кассе, получил выходное пособие, вернулся к столу, принялся выгружать из ящиков свое добро. Все вокруг молчат, ни один человек не подошел, не спросил, что случилось, не посоветовал, как быть, не предложил помочь. За каких-нибудь полчаса все разлюбили Суареса. Я-то с ним не разговариваю уже много лет (с тех пор, как застал его выписывающим из книги секретные цифровые данные – он собирался передать их одному из директоров, чтобы настроить его против остальных), но, клянусь, как раз сегодня мне захотелось подойти, сказать ему пару добрых слов, как-то утешить. Я этого не сделал, потому что Суарес – грязный тип и сочувствия не заслуживает, но все же противно смотреть, как все разом – все, начиная с самого генерального директора и кончая последним рассыльным, – вдруг к нему изменились, и только оттого, что дочка Вальверде с ним порвала. Странное дело, оценка деловых качеств служащих нашего коммерческого предприятия в значительной степени зависит от чьих-то любовных шашней.
Суббота, 22 июня
Не был в конторе. Вчера, воспользовавшись всеобщей радостной суматохой, попросил у управляющего разрешения не приходить сегодня. Разрешение было дано с добродушной улыбкой и даже с лестным замечанием в том смысле, что трудно, дескать, представить себе, как они обойдутся без основного ведущего работника. Может, дочку Вальверде собираются всучить мне? Ну и ну.
Мебель привезли, я работал как негр. Получилось недурно. Никакого ультрамодерна. Не люблю я эти функциональные стулья, ножки у них до того непрочные, просто смешно – подламываются от одного косого взгляда. И спинки, словно нарочно, не по росту сделаны, в расчете на кого-то другого, – тоже ничего хорошего. И лампы современные мне не нравятся, всегда они освещают как раз то, на что ни тебе самому не хочется смотреть, ни другим: паутину, например, тараканов либо электропроводку.
Впервые в жизни, кажется, я устраиваю жилье по своему вкусу. Когда я женился, моя семья подарила нам спальню, а семья Исабели – столовую. Никак они не вязались одна с другой, впрочем, это никого не волновало. Затем явилась как-то теща и говорит: «Вам нужна картина для гостиной». Сказано – сделано. На следующее утро уже висел на стене натюрморт: колбасы, кусок засохшего сыра, дыня, каравай хлеба домашней выпечки, бутылки с пивом, да что там долго говорить – я лишился аппетита на целых полгода. После этого всякий раз по случаю какой – нибудь торжественной даты очередной дядюшка присылал нам то картину с чайками для спальни, то пару майоликовых голубков, до того трогательных, что прямо тошно. После смерти Исабели прислуга, время и моя небрежность справились мало-помалу с натюрмортами, чайками и голубками, а Хаиме наводнил дом жуткими шедеврами, которые без длительных и настойчивых разъяснений понять невозможно. Иногда я вижу, как Хаиме и его друзья застывают в немом восторге перед картиной, на которой изображен кувшин с крыльями, вырезки из газет, дверь и мужские половые органы, а потом говорят: «Какая ужасная репродукция!» Не понимаю и понимать не хочу, потому что, если по-честному, все их восхищение – одно притворство! Я как-то раз спросил: «Почему бы не повесить какую-нибудь репродукцию картин Гогена, Моне или Ренуара? Чем они плохи?» И тогда Даниелито Гомес Феррандо, дуралей, который ложится в пять утра, потому что «ночные часы есть часы подлинной жизни», а брезглив до того, что не ходит в рестораны с тех пор, как увидел там человека, ковырявшего в зубах, так вот именно этот тип ответил мне: «Но мы ведь живем в век абстракции, сеньор». Сам же он наводит на размышления отнюдь не абстрактные: брови подбриты, жеманится, словно беременная кошка.
Воскресенье, 23 июня
Я отпер дверь, пропустил ее вперед. Вошла маленькими шажками, стала осматривать все очень внимательно, словно хотела впитать в себя постепенно свет, воздух, запахи. Провела ладонью по секретеру, по софе. В спальню даже не заглянула. Села. Постаралась улыбнуться и не смогла. Мне показалось, что у нее подогнулись ноги. Подняла глаза на репродукцию на стене. Сказала: «Боттичелли». Ошиблась – Филиппо Липпи. После как-нибудь скажу. Стала расспрашивать, на каких условиях я нанял квартиру, из какого магазина привез мебель, несколько раз повторила: «Мне нравится».
Было семь часов вечера, солнце почти уже скрылось, в последних его лучах кремовые обои стали апельсиновыми. Я сел с ней рядом, она напряженно выпрямилась. Крепко вцепилась в сумку. Я взял сумку у нее из рук. «Не забывай – ты здесь не гостья, а хозяйка». Она старательно боролась с собой: провела рукой по волосам, сняла жакет, вытянула ноги. «В чем дело? – спросил я. – Тебе страшно?» «У меня разве такой вид, будто мне страшно?»– ответила она вопросом. «Откровенно говоря, да». – «Может быть. Только я боюсь не тебя и не себя». – «Знаю. Ты боишься Этой Минуты». Она как будто немного успокоилась. Одно лишь несомненно – она нисколько не притворялась. Испугалась на самом деле, даже побледнела немного. Не похожа она на прежних моих приятельниц: согласится такая, бывало, ехать в меблированные комнаты, а перед тем, как сесть в такси, непременно закатывает истерику, начинает рыдать и звать маму. Она же, сразу видно, ничуть не жеманится, она в смятении, и я не хочу (может быть, мне невыгодно) чересчур вдаваться в причины ее смятения. «Понимаешь, мне надо свыкнуться с этой мыслью», – сказала она, желая, по-видимому, меня успокоить. Она угадала, что я немного растерян. «Всегда то, что заранее себе представляешь, оказывается потом не совсем таким. Но, должна признаться, я за многое тебе благодарна. И то, что ты тут устроил, почти не отличается от того, что я ожидала». – «Ожидала? С каких пор?» – «С тех самых пор, как в школе влюбилась в учителя математики». Стол был уже накрыт, расставлены гладкие желтые тарелки, их выбрала для меня продавщица в универмаге (впрочем, мне самому они тоже понравились). Я раскладывал закуски, с великим старанием выполняя обязанности гостеприимного хозяина. Она уверяла, что все очень вкусно, а между тем давилась каждым куском. Однако к концу ужина, когда настал момент раскупорить шампанское, все-таки немного порозовела. «До какого часа ты можешь остаться?»
– «До самого позднего». – «А твоя мать?» – «Моя мать знает о Нашем».
Удар ниже пояса, вот уж это совсем никуда не годится. Я почувствовал себя голым, так бывает во сне, когда в тоске и ужасе бредешь в одних трусах по Саранди, а с обеих сторон стоят на тротуарах люди и хохочут. «Но зачем же?» – осмелился я спросить. «Я всегда рассказываю матери все». – «А отцу?» – «Отец витает в облаках. Он у меня портной. Ужасный. Ты не вздумай заказывать ему костюм. Он их все шьет на один манекен. И кроме того, он – теософ. И еще – анархист. Меня он никогда ни о чем не спрашивает. По понедельникам встречается с теософами и до рассвета толкует о Блаватской, а по четвергам у нас собираются анархисты и до хрипоты спорят о Бакунине и Кропоткине. Вообще же отец мой – человек тихий, иногда взглянет вдруг на меня кротко, ласково и скажет такое для меня важное, такое важное, никогда я ничего похожего не слышала». Я рад был, что она рассказывает мне о своих родителях, сегодня особенно рад. Ибо надеялся, что это – хорошее начало, что так нам легче будет сблизиться. «А что твоя мать говорит обо мне?» Мать Исабели на всю жизнь травмировала меня. «О тебе? Ничего. Она говорит обо мне». Она допила остаток шампанского и вытерла губы бумажной салфеткой. На губах совсем не осталось помады. «Говорит, что я всегда увлекаюсь, что у меня нет выдержки». – «Это про нас с тобой или вообще?» – «Вообще. У нее теория есть, главная теория ее жизни, которая придает ей силы: что счастье, настоящее счастье, вовсе не так поэтично и даже не так приятно, как мы воображаем.
Она утверждает, что по большей части люди считают себя несчастными просто потому, что думают, будто счастье – это какое-то постоянное блаженство, восторженный экстаз, нескончаемый праздник. Нет, говорит она, счастье – оно меньше всего этого (или, может быть, больше, но, во всяком случае, совсем другое), и наверняка многие, считающие себя неудачниками, на самом деле – счастливцы, только не понимают, не признают этого, думают, что не удалось им добраться до настоящего блаженства. Ну, вроде как история с Голубым Гротом. Все говорят – он волшебный, ты никогда его не видел, но что волшебный, не сомневаешься, а потом приходишь в Голубой Грот – и оказывается, все волшебство в том только и заключается, что, если опустить в воду руку, она постепенно становится голубой и начинает светиться». Она, по-видимому, с удовольствием пересказывала мне мысли матери. Я же понял, что от всей души хотела бы она думать, как мать, но не может. «А ты сама, – спросил я, – как себя чувствуешь, когда рука твоя постепенно становится голубой и начинает светиться?» Я прервал ее размышления, вернул на землю, в этот Наш Миг, в Наше Сегодня. «Мне ни разу еще не приходилось опускать руку в воду», – ответила она и вдруг залилась краской. Покраснела она потому, что слова ее я мог бы принять за приглашение, даже за торопливость. Конечно, моей вины тут не было, но с этой минуты все пошло прахом. Она вскочила, прислонилась к стене. «Могу я попросить тебя о первой услуге?» – Она старалась говорить мягко, но получалось сурово, требовательно. «Можешь», – ответил я, уже полный дурных предчувствий. «Отпустишь меня отсюда так, без этого? Сегодня, только сегодня. Завтра, даю тебе слово, все будет хорошо». Я чувствовал себя разочарованным, одураченным, растроганным. «Конечно, отпущу. Еще чего не хватало!» Но не хватало. Да как еще не хватало!
Понедельник, 24 июня
Эстебан заболел. Доктор говорит, возможно, что-то серьезное. Надеюсь все же – нет. Плеврит, а может быть, что-нибудь в легких, он не знает. Врачи никогда ничего не знают. После завтрака я зашел его навестить. Играло радио, Эстебан читал. Увидев меня, загнул верхний угол страницы, закрыл книгу. Выключил радио. Словно хотел сказать: «Не дают покоя, суются в мою жизнь». Я сделал вид, будто не заметил. И не знал, о чем говорить. Никогда я не знаю, о чем говорить с Эстебаном. Любой наш разговор, на любую тему роковым образом превращается в спор. Эстебан спросил, как идет дело с пенсией. Кажется, хорошо. В сущности, тут нет ведь ничего сложного. Я давно уже привел в порядок свой послужной список, заплатил все требуемые взносы, проверил регистрационную карточку. «Твой приятель обещает, что долго тянуть не будут». Моя пенсия – постоянный предмет наших бесед с Эстебаном. Давно уже заключили мы нечто вроде молчаливого соглашения – говорить только на эту тему. Сегодня, однако, я сделал попытку нарушить соглашение: «Ладно, расскажи-ка лучше немного о себе. Мы никогда не говорим с тобой толком». – «Это верно. Потому, видимо, что и ты и я очень уж всегда заняты». – «Видимо, так. Только скажи: у тебя и вправду много работы в вашей конторе?» Дурацкий вопрос, оскорбительный. Ответ можно было предвидеть, но я не предвидел. «Ты что хочешь сказать? По-твоему, мы, государственные служащие, все бездельники? Это ты хочешь сказать? Ну ясно. Только вам, почтенным служителям коммерции, дарована способность трудиться честно и добросовестно». Я разозлился вдвойне, потому что сам был виноват. «Слушай, не заводись. Вовсе я не это хотел сказать, даже и не думал. Обидчивый ты, словно старая дева, или, может, чувствуешь, что рыльце в пушку». Против ожидания он не сказал в ответ ничего резкого. Ослабел, наверное, от жара. Мало того, стал даже оправдываться: «Может быть, ты и прав. Вечно я в дурном настроении, а отчего – не знаю. Кажется, на самого себя злюсь». В качестве признания, да еще от Эстебана, эти слова кажутся преувеличением. Однако как самокритика они, на мой взгляд, весьма близки к истине. Я уже давно подозреваю, что Эстебан действует наперекор своей совести. «Что ты скажешь, если я оставлю государственную службу?» – «Сейчас?» – «Ну, не сейчас, конечно, а когда поправлюсь, если поправлюсь. Врач сказал, что я, наверное, несколько месяцев проболею». – «А почему вдруг такой крутой поворот?» – «Не спрашивай. Мало тебе разве, что я решил уйти?» – «Вовсе не мало. Я очень рад. Меня только беспокоит: если понадобится отпуск по болезни, легче его получить на теперешней твой службе». – «Тебя же вот не уволили, когда ты тифом болел? Ведь не уволили, правда? А ты около шести месяцев не ходил на работу». Говоря по правде, я спорил просто для собственного удовольствия – приятно было слышать его возражения. «Пока что самое главное, чтобы ты поскорее выздоровел. А там посмотрим». И тут Эстебан принялся рассказывать о себе, о своих возможностях, о своих надеждах. Говорил он так долго, что я явился в контору только в четверть четвертого, и пришлось извиняться перед управляющим. Я знал, что опаздываю, но прервать Эстебана не имел права. Ведь он доверился мне в первый раз. Невозможно было обмануть его доверие. Потом говорил я. Давал советы, но в форме весьма общей, довольно расплывчато. Не хотел его пугать. И надеюсь, не испугал.
Уходя, похлопал сына по колену, торчавшему под одеялом. И он улыбнулся мне. Господи боже мой, совсем незнакомое у него лицо! Может ли это быть? Но с другой стороны, незнакомец оказался очень даже симпатичным. И он мой сын. Как хорошо.
Пришлось остаться в конторе допоздна и, следовательно, отложить начало моего «медового месяца».
Вторник, 25 июня
Работы до черта. Значит, завтра.
Среда, 26 июня
Опять просидел в конторе до десяти вечера. Буквально лопаюсь от злости.
Четверг, 27 июня
Сегодня, кажется, конец всей этой суматохе. Никогда еще не требовали с нас такого количества самых бесполезных сведений. И отчет уже на носу.
У Эстебана температура упала. И то хорошо.
Пятница, 28 июня
Наконец-то. В половине восьмого вырвался я из конторы и отправился в квартиру. Она пришла раньше, отперла дверь своим ключом, расположилась как дома. Встретила меня весело, без прежней суровости, поцеловала. Мы ели, разговаривали, смеялись. Потом легли в постель. Все было так хорошо, что и писать не стоит. Я только молюсь: «Пусть так будет и дальше» – и, чтоб господь меня послушался, стучу по дереву.
Суббота, 29 июня
Кажется, болезнь Эстебана не так уж серьезна. Сделали рентген, анализы, и оказалось, что врач зря нагнал страху. Этому типу доставляет удовольствие пугать людей: наговорит всяких ужасов, распишет бог весь какие жуткие хвори, а потом выясняется, что все не так уж страшно; тут родные, как правило, облегченно вздыхают и платят не только без возражений, а с благодарностью самый что ни на есть высокий гонорар. Робко, полный стыда за свой неприличный поступок, задаешь человеку, жертвующему своей жизнью и своим временем, вульгарный грубый вопрос: «Сколько я вам буду должен, доктор?» Он глядит снисходительно, великодушно, в некотором смущении отвечает: «Ради бога, друг мой, у нас еще будет время поговорить об этом. И пожалуйста, не тревожьтесь, со мной у вас никаких сложностей не предвидится». И тотчас же, спасая человеческое достоинство и воспаряя над темной прозой, ставит точку и с новой строки принимается рьяно объяснять, какой отвар следует завтра дать выздоравливающему. Потом наступает наконец «время поговорить об этом», и вам просто присылают по почте счет; прочитав сумму, вы впадаете в состояние легкого шока, быть может потому, что не видите в эту минуту перед собой святую снисходительную отеческую улыбку самоотверженного мученика науки.








