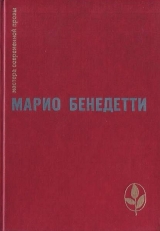
Текст книги "Избранное (Передышка. Спасибо за огонек. Весна с отколотым углом. Рассказы)"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Трусишка.
На сей раз оборачивается один Окампо и замечает:
– Детки, видать, веселится.
Мирта Вентура, сбросив жакет, щеголяет выигрышными родинками на плечах. Берутти, будто невзначай, поглядывает краешком глаза, но ему немного неловко, и он не способен оценить красоту этой экзотически смуглой спины. И, одолеваемый сомнениями, он говорит:
– Наши заблуждения идут издалека. Еще из школы. Отсутствие религиозности, неуклонно светское воспитание. Вдобавок вся эта белиберда насчет того, что ребенок должен свободно выражать себя. Ох и поиздевались надо мной, когда я ходил в школу. Теперь, если учительница дернет за ухо, всего только за ухо, одного из этих инфантов-недорослей, посещающих начальную школу, ей немедленно учинят следствие.
– А я училась в монастыре, у доминиканских монахинь.
– Вот, извольте. Результат каков? Ты личность, ты девушка незаурядная.
– Спасибо, Берутти.
– Я это тебе говорю не как комплимент, а просто в подтверждение своего тезиса. Вот что мне нравится в этой стране – здесь во всем бог.
В обучении, в Конституции, в расовой дискриминации, в вооруженных силах. Соединенные Штаты – страна насквозь религиозная. Мы же, напротив, страна насквозь светская. Потому мы разрознены. Бог объединяет, светский дух разделяет.
Ножка Мирты, как бы нечаянно, придвигается к туфле номер сорок два Берутти. Он свою ногу не отодвигает и, хотя еще не абсолютно уверен, что она не спутала его ногу с ножкой стола, продолжает свою речь с новым пылом:
– Я не требую, чтобы человек перестал грешить. Errare humanum est [51]. Заблуждение, грех заложены в самом естестве человека.
– Ты имеешь в виду первородный грех?
– Вот именно, ты меня поняла. Но я считаю, есть большая разница в том, грешить ли без чувства вины, почти с радостью, как это делает атеист, и грешить, как это можем делать ты и я, благочестиво сознавая себя грешным перед богом.
– Больше тебе скажу: мне кажется, чувство вины придает греху особую прелесть.
Берутти отодвигает на два сантиметра свою туфлю номер сорок два, и ножка Мирты немедленно возобновляет контакт. Теперь уже не сомневаясь, он уверенно вскидывает голову, поправляет одной рукой немного растрепавшиеся волосы и заключает свою мысль:
– Совершенно точно, особую прелесть. Каким скучным должен быть грех для атеиста. Творишь греховное дело, и никто с тебя не спросит отчета.
– Ужасно. Как подумаю – сердце сжимается.
– Поэтому великие произведения искусства всегда создавались на тему греха.
– Это, по сути, означает, что они создавались на тему бога.
– Ну ясно, ведь без бога греха не существует. И они создавались на тему греха потому, что грех запретен и влечет за собой кару, и в этом его эстетичность: конфликт между запретом и виной. Вернее, искусство – это искра, вспыхивающая от столкновения запрета и кары.
– Изящно сказано.
– В самом деле? А ведь это пришло мне в голову только сейчас, когда с тобой разговаривал.
– Нет, ты замечательный человек, – говорит Мирта, меж тем как ее лодыжка в нейлоновом чулке ощущает тепло другой лодыжки под синтетической тканью брюк.
Ларральде пожимает плечами. В действительности его не очень-то интересует барски ограниченное рассуждение Софии Мелогно. И даже физически она его не привлекает. Но София задалась целью его поучать.
– Не заставляйте меня усомниться в вашем здравом рассудке, Ларральде. Разве что вы меня морочите. Ну скажите, где больше свободы, чем здесь? Ну же, ну, хоть одно местечко назовите, больше не прошу.
– Например, в джунглях Амазонки. И заметьте любопытную вещь: там нет представительной демократии.
– Вот я и говорю: вы меня морочите. Как положено настоящему журналисту. Это единственное, что вы умеете делать: морочить.
– Отнюдь нет, сеньорита, мы умеем и другое.
– Когда вы перестанете называть меня сеньоритой?
– Простите, я думал, вы не замужем.
– Ну конечно не замужем, глупенький. Но меня зовут София. А дома называют Детка.
– Ах вот как.
– И что вы будете рассказывать обо всем, что видите?
– Ну, пожалуй, я вижу не все.
– А почему же?
– Потому что это невозможно, Детка. Говоря по-газетному, надо те Соединенные Штаты, которые мы видим, подогнать к Соединенным Штатам, появляющимся в Монтевидео в голливудских фильмах. Зачем писать о Литл-Рок [52], если можно писать о Биверли-Хилз [53]? Если я расскажу, что в Сан-Франциско один поэт-битник выбросился с четвертого этажа лишь потому, что для него был невыносим American Way of Life [54], и не погиб, так что American Way of Life остался невредим, а обе ноги поэта переломаны, – если я об этом расскажу, в газете будут недовольны, и секретарь редакции пошлет мне по телеграфу строгую нахлобучку с рекомендацией Не-Давать-Пищи-Для-Хищных-Зверей. Так что лучше уж я буду писать о достоинствах электронного мозга. Это им нравится. Идеал наших министров финансов, наших футбольных тренеров и наших главарей контрабанды – это электронный мозг. Точнейшие расчеты, никаких импровизаций, минимум участия человека и, главное, нечто такое, на что можно положиться. А вам нравится электронный мозг? Во многих слаборазвитых странах-между прочим, и в Уругвае – еще пользуются невыгодным и примитивным заменителем. Я имею в виду гороскоп. Но могу вас заверить, что электронный мозг заслуживает большего доверия. Как раз это и является тезисом моей ближайшей статьи. За сообщение новинки с вас причитается.
– Вы немного пьяны, Ларральде, правда ведь? Можно узнать, для какой газеты вы пишете?
– Для «Ла Расон». Но не ищите там инициалов А. Л. Мои статьи обычно появляются без подписи или под псевдонимом Аладино.
– Скажите, пожалуйста, сеньор Аладино, какой ваш знак зодиака?
– Дева, к вашим услугам.
– Дева? Характер импульсивный, чувствительный, скрытный, деятельный, ум логический, практическая смекалка, преданность, верность. А также склонность к быстрому переутомлению.
– Великое надувательство. Но вы эрудит. По крайней мере что до переутомления, вы угадали. Как бы то ни было, предупреждаю, что я предложу электронному мозгу проверить эту приятную и лестную личную характеристику.
Ларральде решительно берет бутылку.
– А теперь выпейте еще рюмочку. Чтоб десерт смочить, Детка.
Звонит телефон, но глухо и как бы вдалеке, потому что на одном конце стола в ответ на шутку Агилара ритмично трясется брюхо Бальестероса, в центре Габриэла Дупетит громко возглашает: «Клянусь тебе, мне здесь стыдно быть уругвайкой», а на другом конце Окампо и Анхелика Франко, найдя еще одну точку соприкосновения, поют дуэтом «Сердце, не обманись». Так что, пока в зал не вошел Хосе и не попросил помолчать, все развлекаются как могут.
– Сеньор Бальестерос, вас просят к телефону, говорят, very urgent [55].
Бальестерос так резко перестает трястись, что напавший на него столбняк вызывает отрыжку, которую он ловко маскирует внезапным приступом кашля.
– Боже мой, very urgent, – говорит он и, встав со стула, пошатывается. Ухватившись за спинку стула Ларральде, он пускается в путь мелкими, не слишком уверенными шажками.
Габриэла умолкла. Стихло и танго на словах «не думай, то не зависть и не гнев». Под столом все руки и ноги возвращаются в исходное положение. Марсела впервые, но уже на столе, трогает руку Рамона.
– Не знаю почему, – бормочет она с искренней тревогой, – но у меня предчувствие, что тут что-то нехорошее, касающееся нас всех.
Рейнах, пристально глядя на висящий на стене портрет Айка [56], жует, время от времени слышно его причмокивание. София Мелогно ломает руки. Селика Бустос сморкается. Агилар, закурив привезенную с родины «републикану», подносит огонек зажигалки к сигарете «честерфилд», которую держит слегка дрожащая рука Фернандеса. Мирта Вентура при усердном содействии Берутти снова надевает жакет. Рут Амесуа чихнула, но никто ей не говорит «На здоровье!». Рамон глубоко вздыхает и, левой рукой – так как правая занята Марселой – подняв бокал, допивает остаток вина.
Появление Бальестероса сильно отличается от его ухода. Он сразу и полностью протрезвел – явно случилось что-то. На лице выражение крайней растерянности, он, кажется, сейчас заплачет.
– Что-то ужасное. Произошло что-то ужасное. Он это пролепетал очень тихо, но услышали все.
– Где? – спросило несколько голосов.
– Там.
– В Уругвае? – уточняет Ларральде.
– Да.
– Говорите же. Что случилось?
– Катастрофа. Страшное наводнение. Подводное землетрясение, точно еще не известно. Мне сейчас позвонят опять. Все уничтожено. Вся страна в развалинах. Вода на улицах все сносит. Мосты разрушено. Неизвестно, сколько жертв. Все уничтожено. Небывалое бедствие.
Страна исчезла с лица земли. И села и города. Снесены, полностью разрушены.
Рут Амесуа, издав пронзительный вопль, откидывается на спинку стула. Фернандес и Будиньо подхватывают ее. София Мелогно начинает рыдать в голос. Селика Бустос смотрит на стену, и крупные слезы падают на вторую порцию мороженого. Габриэла, закусив нижнюю губу, прикрывает лицо обеими руками. Из мужчин Рейнах пока единственный, кто открыто плачет. Ларральде раздраженно спрашивает:
– Но как вы узнали?
– Мой сосед, мексиканец, услышал в известиях по телевизору. Он знал, что я здесь, и позвонил.
Анхелика Франко подносит к ноздрям Рут флакончик с духами, и Рут приходит в себя, открывает глаза, но тут же, снова их закрыв, плачет. Мирта Вентура молится:
– И в Иисуса Христа, единственного его сына, господа нашего…
Берутти, неодобрительно на нее поглядев, тоже задает вопрос:
– Жертвы есть?
– Не расстраивайте меня, я и так расстроен. Говорю вам – не знаю. Единственное, что мне сообщили, – это что страна стерта с лица земли. Снесена, уничтожена окончательно. Всему конец.
Хосе, стоя в углу, смотрит на это зрелище. Он слегка обескуражен и входит на кухню как раз вовремя, чтобы остановить ковыряльщика в носу.
– Wait a minute [57]. Пока что счет им не неси. Марсела тихонько всхлипывает, но головы не теряет.
– Не могу поверить в такое, – говорит Будиньо.
– Я знала. Я тебе сказала, когда Бальестерос вышел. Я знала, что тут что-то касающееся всех нас.
– Какой ужас!
– И Сесар там.
– Твой муж?
– Да.
– Ты за него тревожишься?
– Да.
– Это божья кара, – визжит Габриэла, – за то, что я сказала, будто стыжусь быть уругвайкой. Это божья кара, и я ее заслужила. Бедная моя мамочка. Бедная моя старушка. И мой брат. Не хочу думать. Не хочу!
– Представьте себе, – говорит Агилар Селике Бустос. – Я только что изображал себя циником, а теперь у меня ком в горле стоит.
– Все уничтожено, – бормочет Рейнах. – Все, и мой магазин тоже. Мой магазин исчез с лица земли. Не может быть. Вы знаете мой магазин? На углу проспекта Восемнадцатого Июля [58]и улицы Габото. Красивый, правда? В прошлом месяце я поменял неоновую вывеску. И дверь была вращающаяся. И два грузовика для перевозок. Какой ужас. И чего я только не говорил. Вы слышали? Во всяком случае, вы, Габриэла, слышали. Будто мы ничего не производим. А это неправда. Это хорошая страна, Габриэла. Там можно работать – и не бояться. Мой отец еврей, и я еврей. Я родился в Монтевидео, но я еврей. У меня есть дядя, который бежал из Германии, потому что там было страшное бедствие. Не землетрясение, но все равно страшное, и у моей семьи ничего не осталось. А в Уругвае никто нас не трогает. Это хорошая страна. Можно работать. И она уничтожена. Неправда, будто частное предпринимательство – это моя родина. Неправда. Это хорошая страна. 'Это моя страна. А теперь она уничтожена. Это хорошая страна.
– И на земле, как на небе, – молится Мирта Вентура. – Хлеб наш насущный дай нам днесь.
– Замолчи, – говорит Берутти, делая страшные глаза.
– Что? – спрашивает она, переходя от одного испуга к другому. – Но разве ты сам только что не говорил?
– Бред. Не может существовать бог, который без причины все уничтожает. Как ты не понимаешь? Как ты можешь молиться так спокойно? У тебя никого там нет, что ли? Никого, кроме монахинь?
– Есть, – взрывается Мирта, наконец разражаясь рыданиями. – У меня там папа, бедный папочка, бедный папочка.
– Посмотрим, вернет ли тебе бог твоего бедного папочку.
– Не будь таким злым.
– У меня двое детей, понимаешь? Двое детей, мальчик и девочка. Если бог их убьет, я хочу сказать, если землетрясение их погубит, вот тебе крест, я все прокляну.
– Вышло по ее словам, – всхлипывает София, стискивая губы, – это кара. Кара мне за то, что я никогда не работала.
– Не будьте дурочкой, – серьезно говорит ей Ларральде.
– Кара за то, что я всегда презирала бедняков, называла их сбродом.
– Ну зачем говорить чепуху? – теряя терпение, досадует Ларральде и трясет ее за плечи. – Будь это кара, предназначенная для вас, и только дин вас, судьба не постаралась бы заранее удалить вас в безопасное место, а напротив, сунула бы вас в самый центр бедствия.
– Но как вы не понимаете, что это гораздо хуже? Не понимаете, что, когда нельзя ничем помочь, увидеть бедствие своими глазами, это и есть самое ужасное? Кроме того, скажу вам еще кое-что. Я должна в этом признаться. Все, что я говорила раньше, была поза, ложь. Я люблю нашу страну. Она маленькая, она незначительная, но я ее люблю. Я не могла бы жить здесь, среди этих механизированных, гнусных, до глупости наивных людей.
Анхелика Франко вынимает из своей сумки доллары. Складывает их по три бумажки, затем рвет на куски.
– Не надо. Не надо мне их.
Окампо кладет ей руку на плечо, чтобы остановить.
– Не закатывай истерику. Потом пожалеешь. Рвать бумажку в сто долларов! С ума сошла? Интересно, что ты думаешь этим исправить?
– Да, да, это кара. За то, что я тебе говорила. За то, что предлагала себя. Плевала я на доллары. Понял?
– Но послушай, не терзай себя, я ни на минуту не принимал твои слова всерьез.
– И неправда, что там я робкая. Я никогда не бываю робкая.
– Это я вижу.
– Я и здесь и там такая, какой ты меня сегодня видел. Шлюха. Просто шлюха, и все.
Бальестерос сидит, свесив руки по обе стороны стула. В глазах слезы, на лице скорбная гримаса, делающая его похожим на огорченного попрошайку, и действительно своей огромной, нескладной фигурой он теперь напоминает паралитика.
– Понимаете, – объясняет он Ларральде, не поднимая глаз, – никогда нельзя говорить «из этого колодца я пить не буду». Минуту назад я вам клялся, что не вернусь. А теперь я хотел бы быть там. Десять лет жизни отдал бы, чтобы быть там. Трудно поверить, но, видно, человеку необходимы такие страшные потрясения, чтобы он понял, где его место. Знаете, что я вам скажу? Я думаю о Пасо-Молино – думаю о том, какое там теперь запустение, какая разруха, – и глядите, я, старый, семидесятилетний дурень, плачу как ребенок. Вы бывали в Пасо-Молино? Помните, там еще такие большие шлагбаумы? Мне, знаете, нравилось – а я тогда был уже не мальчик – стоять там под вечер и смотреть, как проходят поезда. Иногда проходили и три подряд, и тогда машины, автобусы, трамваи все выстраивались в ряд на два квартала. Глупо, конечно, но я так радовался, когда наконец шлагбаум открывали и вся эта колонна рывком пускалась вперед.
– Сесар, конечно, был в Сальто [59],– спокойно говорит Марсела.
– Что он там делает?
– У моего свекра поместье, но занимается им Сесар, работает больше всех.
– Какой у тебя муж?
– По внешности?
– Да.
– Высокий, худощавый, волосы темные, глаза зеленые, нос тонкий, широкие плечи.
Марсела проводит платочком по вискам.
– Не расстраивайся заранее, – говорит Рамон.
Марсела, виновато улыбнувшись, неопределенно разводит руками.
– Ты меня утешаешь, подбадриваешь, а я, идиотка, даже не подумала, что и у тебя там есть близкие.
– У всех нас там есть близкие.
– Твой сын, отец, твоя жена.
– Да, сын, жена – все.
– Какой ужас!
И тут она, расслабившись и вдруг потеряв свое спокойствие, всякую видимость спокойствия, начинает плакать с широко открытыми глазами и без раскаяния, без заносчивости, без стыда, без малейшего пафоса приговаривать, будто лишь сейчас это обнаружила:
– Я люблю его. Не могу без него. Это невыносимо. Это невозможно.
Будиньо, глядя на нее, закуривает сигарету и подает ей. Затем закуривает другую сам.
– Густаво, Долли, – думает он вслух.
На сей раз, услышав звонок телефона, все застывают, как в детской игре «Замри!». Опять входит Хосе, но теперь ему уже не надо что-либо говорить Бальестеросу. Хосе только смотрит на него. Бальестерос поднялся, он уже не шатается. Почти бегом спешит к двери. Остальные тоже встают и подходят к двери.
– Что там? – взяв трубку, говорит Бальестерос.
Глаза всех прикованы к нему. В дверном проеме глаза, глаза, глаза. Внезапно толстяк расслабляется, сползает на пол. Хосе первым подбегает его поддержать. Будиньо подхватывает повисшую трубку.
– Я друг Бальестероса. Ему дурно. Что случилось?
Секунду послушав, Будиньо испускает вздох. Вздох, при котором, как ему кажется, из его легких уходит весь воздух.
– Спасибо, – говорит он. – Вы не знаете, как мы вам благодарны.
Да, Бальестеросу уже лучше. Попозже он, конечно, сам вам позвонит.
Бальестерос, который уже открыл глаза, заикаясь, велит Будиньо сообщить все остальным.
– Это было преувеличение, – говорит Будиньо. – Друг Бальестероса прослушал следующую передачу, и, кажется, все не так страшно. Да, произошло большое наводнение, и некоторые населенные пункты затоплены. Но никакого подводного землетрясения, никаких жертв. Просто наводнение – правда, более сильное, чем бывали в прошлые годы.
Воцаряется мертвая тишина. Затем из уст Рейнаха вырывается хриплый гортанный вопль радости, похожий на слово «магазин». Окампо, нагнувшись, подбирает обрывки долларов и подает их Анхелике Франко.
– Склеишь, потом обменяешь в каком-нибудь банке.
– Спасибо, – говорит она и с растерянным видом садится. Прядь волос, выбившаяся из ее безупречной прически, прилипла к мокрой от слез и пота щеке.
В углу Агустин и Рут целуются. Берутти пытается подойти к Мирте Вентура, но она сдерживает его ледяным взглядом и сквозь зубы цедит:
– Не прикасайтесь ко мне. Ясно?
Селика Бустос становится перед Агиларом, который прислонился к стене.
– Вот и ладненько, ничего не произошло. Каждый возвращается на свое место. Так ведь? Вода в реку, вы опять в свою ОAГ. До самой смерти.
София Мелогно глядится в зеркальце.
– Я ужасно выгляжу. Как будто это я пережила землетрясение.
– Да? – говорит Ларральде, сидящий рядом.
– А знаете, мы все много чепухи в этот вечер нагородили. Как вам кажется?
Пользуясь моментом, Хосе спешит на кухню, чтобы сказать ковыряльщику в носу:
– Ну-ка, теперь поскорей неси им счет.
Когда официант подает счет Бальестеросу, тому в первый миг чудится, будто еще какая-то беда стряслась. Но он сразу понимает, что пугаться нечего.
– Ага, счет.
Берутти и Теинах подходят помочь ему разделить сумму и выяснить, сколько приходится per capita [60].
– На восемь. Женщины не платят, – говорит Берутти. Те двое молча кивают.
Будиньо подает Марселе шаль, она накидывает ее на плечи.
– Ну и как? Испуг пошел тебе на пользу?
– Да, – говорит она. – А тебе?
После некоторого колебания он отвечает:
– Пожалуй, и мне тоже.
Что-то в его тоне побуждает Марселу взглянуть на него с беспокойством.
– Ты вот говорил: Густаво, Долли. Долли – это имя твоей жены? Застигнутый врасплох, он не может сдержать улыбку.
– Нет, это имя не моей жены. Хосе, взяв чаевые, ворчит:
– Даже десяти процентов не будет.
Все медленно выходят. Теперь в главном зале заняты все столики.
Некоторые из посетителей недоуменно оборачиваются, когда Габриэла Дупетит, разведя руками, громогласно и удрученно восклицает:
– Вот видите. У нас бывает только свинство. В кои-то веки случается тревога, и всегда оказывается, что она ложная. Сами убедились. Мы даже на катастрофу первоклассную неспособны.
2
Окно открывается в безветренную тишь. Внизу платаны. По крайней мере половина листьев неподвижна, другая половина еле-еле зыблется. Будто кто-то их щекочет. Пот льет с меня в три ручья. В воздухе гнетущее напряжение, но я знаю – ничего особенного не случится. Не пора ли сказать себе всю правду? Сейчас самое Время, я в этом уверен. В дни, когда мне было весело, я себя обманывал, видел себя не тем, кем был, видел жизнь в розовом цвете и так далее. Ночами, когда бывало так плохо, что я готов был зарыдать в голос, я не рыдал в голос, а тихо плакал в подушку. Но нет, тут я тоже преувеличиваю. Невозможно мыслить ясно, когда грудь сжимает тоска или отчаяние. Лучше назовем это отчаянием. Конечно, только для себя. Другие пусть приклеивают свои ярлыки: ипохондрия, неврастения, причуда. Я наконец заключил пакт с самим собой и потому называю это отчаянием. Да, теперь самое время, я уверен, так как теперь я не испытываю ни радости, ни отчаяния. Я, как бы это выразиться, просто спокоен. Нет, вот я и солгал. Я ужасно спокоен. Так лучше.
Падают первые капли. Отлично, подставим лицо. В этом окне на десятом этаже я ловлю их раньше, чем простаки прохожие на «главном проспекте». Хоть на этот раз я кого-то опередил. Может, сейчас подходящий момент закрыть глаза и сказать: «Как у всех людей, у нас, у семьи Будиньо, есть своя история»? После того ужина с уругвайцами в ресторане «Текила» меня тянет все обдумать заново. Попробуем, попытка не пытка. Закрыть глаза. Как у всех людей, у нас, у семьи Будиньо, есть своя история. Дальше. Мой сын иногда воображает, что он важная персона или будет таковой. Разумеется, это заблуждение, но для семнадцати лет оно простительно. В нашей семье не было, нет и не будет места для другой важной персоны, кроме Старика. Принципиальные выступления, пламенное красноречие, благородный облик. Он поглотил нас всех. Я никогда не был Рамоном Будиньо, а только сыном Эдмундо Будиньо. Мой сын никогда не будет Густаво Будиньо, а только внуком Эдмундо Будиньо. Даже Дедушка в последние свои годы был только отцом Эдмундо Будиньо. Недаром мы все обращаемся к нему на «вы». Все – дети, внуки, невестки. Старомодный обычай, который он сумел сохранить, чтобы ощущалась дистанция. Главное – дистанция. Сверху вниз – пренебрежение. Снизу вверх – восхищение. Например, Рубен и Мариано пришли к Густаво, чтобы вместе заниматься, но не застали его. В эту минуту выходит Старик, останавливается с ними поздороваться, и Рубен задает ему какой-то вопрос, уже не помню – какой. Старик не менее десяти минут развивал свою точку зрения и выслушивал хвалебные слова. О, сколько восхищения, интереса, уважения, почти преданности в глазах его слушателей! И это понятно. Для Старика неважно, что его собеседник стоит намного ниже его. У него для всех один и тот же стиль – блестящий, убедительный, все проясняющий. Густаво тоже им восхищается. Его, конечно, слегка шокирует, что дедушка вкладывает столько жара, а порой и выспреннего красноречия в защиту дела, которое он, Густаво, считает исторически обреченным. Но несомненно, что он восхищается. Хотел бы я, чтобы мой сын мною восхищался? Кет. Вернее, я не знаю.
Что там делает эта голубка под дождем? Ей же тяжело двигаться. Так давно? Неужто так давно? Наверно, лет тридцать пять, тридцать шесть прошло. Нет, точно тридцать семь. До того – лишь мгновенные вспышки, вроде фотографий в альбоме, но ни одного цельного, законченного эпизода. Он тогда еще не был Стариком. Только Папой. Папой, о котором я говорил и часто думал в мои шесть лет. Теперь уже нет таких богатых магазинов игрушек. Игрушки, казалось, громоздились до самого неба. Трехколесные велосипеды, мячи, самокаты, игрушечные рояли, педальные автомобили, оловянные солдатики. Выбирай какую хочешь игрушку, сказал Папа. Я стоял и смотрел на свою лаковую туфельку. Потом медленно поднял глаза. Медленно, чтобы растянуть это пиршество для зрения. За прилавком стоял, нет, стоит мужчина. Он не может сдержать смеха. Да он в штаны наложит, говорит он. Ну, решил? – настаивает Папа. Мне хотелось бы взять самокат, да еще мяч, да солдатиков. Но надо выбрать. Папа мне обещал: если ты дашь доктору сделать тебе укол и не будешь плакать, я поведу тебя к Оддоне и разрешу выбрать, что тебе понравится. Как это я сумел вспомнить, что его звали Оддоне? Я не плакал, и Папа исполнил обещание. Больше всего мне нравится коробка с солдатиками, но мне очень жаль, что понравилось именно это, самое дешевое. Вот так задача, правда, малыш? – говорит Оддоне. Лицо Оддоне мне неприятно. Я изо всех сил стараюсь, чтобы трехколесный велосипед понравился мне больше всего прочего. Я знаю точно, что велосипед – это самая лучшая игрушка, что он вызовет самую сильную зависть у мальчишек с нашей улицы. Лагунильяс. Улица Лагунильяс. Ну и как? – опять спрашивает Папа, теперь уже поглядев на часы. Я хочу солдатиков. Так я сказал на своем детском наречии. Много времени спустя я понял, что и Оддоне и Папа – по разным, но понятным причинам – были разочарованы. Подумай хорошенько, детка, предупреждает Оддоне. А самокат, может, тебе больше правится? Смотри, у него резиновые шины, тормоз, звонок. Самокат, конечно, потрясающий, но мне больше нравятся оловянные солдатики. Оставьте его, вмешивается Папа, он знает, что может взять что захочет. Я вздыхаю облегченно – Оддоне, расхваливая самокат, вызвал у меня сомнения, а я не хочу сомнений, я хочу, чтобы солдатики нравились мне по-прежнему больше любой другой новинки, даже самой сказочной. Я хочу солдат, повторяю я с твердостью, не оставляющей Оддоне никакой надежды. Папа улыбается. Смотрит на меня. Его голубые и все же теплые глаза. Вынув изо рта мундштук, он говорит: а мы вот что сделаем, мы купим десять коробок с солдатами. Я обнимаю его ногу. Потом спохватываюсь, что измял идеально прямую складку штанины. Ослабляю объятие. Все разные? – спрашиваю я – еще в тревоге, еще не решаясь верить. Все разные, подтверждает Папа. У Оддоне ревматизм, но он, как обезьяна, влезает на лесенку и возвращается с лицемерно сокрушенным видом и только девятью коробками. Есть только девять разных сортов, объясняет он. Прежде чем кто-нибудь успел подумать о другом решении, я озабоченно говорю: тогда я хочу две коробки с этими голубыми на лошадях. Оддоне хохочет. Папа хохочет. Я краснею, но и не думаю оправдываться. Я просто опять принимаюсь разглядывать носок своей лаковой туфельки. На улице я чувствую, что все на меня смотрят. Я не захотел, чтобы Оддоне отправил коробки с посыльным. Кто знает, когда их принесут. Так что несу их я, два огромных пакета, по одному в каждой руке. Ты похож на муравья, говорит Папа, дай мне хоть один пакет. Но я не хочу. Руки у меня сильно болят, особенно левая, но я хочу сам нести свое добро. Почему я похож на муравья? – спрашиваю я, только чтобы выиграть время. Наверно, я сказал: «Почему я похоз на мулавья?» Впрочем, моя ломаная речь в ту пору была не вполне честной. Притворство вызвано, прежде всего, сознанием, что мое детское произношение возбуждает прилив симпатии ко мне. Кроме того, мне так удобнее говорить. Чтобы произнести «р», надо напрячь нижнюю челюсть и проделать языком что-то несусветное. Папа улыбается. Его невольно умиляет мое произношение. Потому что ты несешь такой груз, отвечает он. Так мы идем еще один квартал. Ну же, не будь дурачком, говорит он наконец, я же их не съем. И он отбирает у меня один пакет. Я смотрю на него сбоку, вижу гетры, брюки, пояс с позолоченной пряжкой, синий галстук с булавкой, крахмальный воротничок, соломенную шляпу с шелковистой черной лентой. Хорошо идти с Папой. Я не мог бы этого выразить словами, но мне было так радостно, так надежно под его защитой. Как чудесно сознавать себя сыном этого безупречного, изящного, всегда выбритого, уверенного в себе господина, который на все смотрит спокойно, все решает без колебаний.
Дождь прекратился. Но не освежил. Своего внука Густаво Старик припирает к стенке, когда ему вздумается. Для этого он, не обинуясь, пускает в ход любые приемы и способы. Вчера вечером Старик предложил Густаво обосновать свою политическую позицию. Потом, очень быстро, усмешками, иронией, остротами, каламбурами, но также несколькими доводами, разбил его вдрызг, так что он умолк и надулся. Меня вдруг охватила огромная нежность к Густаво, не обычная нежность, не тихая привязанность к своему сыну, а чувство деятельное, обновленное, воинственное. Старик не уверен, но изображает твердую уверенность. Густаво уверен, но не умеет свою уверенность объяснить. Старик – старый боец, мастер полемики, знаток всяческих уловок. В этом смысле Густаво молокосос. И все же мне так хотелось, чтобы он одержал верх. При всей его неопытности в нем есть твердая убежденность. Ему повезло, он вышел в мир, который признал свой позор, который решил поставить свою судьбу на карту, который превращает в нечто осуществимое издавна брезжившую, неопределенную вероятность своего спасения. Мир, в котором рос я, был совсем иным. Мы понимали все достаточно ясно и признавали, что несправедливость системы, в которую мы включены, оскорбительна для рода человеческого. Однако над нами тяготело проклятие домашней замкнутости, обреченности на одинокий протест. В чем это выражалось? У нас, пожалуй, была вера – лишь теоретическая и риторическая – в осуществимость желанной нам перемены, но то не была вера глубокая, внутренняя, неколебимая. Полагая, что знаем, в чем добро, мы по склонностям были пессимистами, почти фаталистами в отношении к торжеству, к окончательной победе того, что считали добром. В среду Мариано упомянул о заявлениях, довольно-таки гнусных, сенатора из Арканзаса. Нечего тревожиться, сказал он, это последние судорожные жесты тонущего. Вот в чем огромная разница. Мы-то думали, что они непобедимы.
Кабинет Старика всегда действует на меня угнетающе. Вдобавок уже двадцать минут двенадцатого. Старика все нет. Лучше уйду.
Кто там стучит? Знают, что я в конторе один, и все равно стучат. Лицемеры. Как они любят притворяться робкими.
И чего мне тревожиться, не все ли равно, что говорит роскошная секретарша, пышнотелая секретарша, секретарша с серебряным фунтом стерлингов между грудями, секретарша-соблазн, секретарша с чересчур на мой вкус крупными губами, секретарша с овечьими глазами, секретарша чуть глуповатая, секретарша-конец-соблазну, – ну не все ли мне равно? Я и так знаю, что должен взглянуть на программу «Путешествие-Источник-Радости» и на имена сорока четырех туристов, предпочитающих проводить лето в Map-дель-Плата [61], потому что в Пунта-дель-Эсте им обойдется на грош дороже. Для того мы и явились сюда. Чтобы она мне это показала. Только для этого, не больше. Итак, ей приходится наклониться, и я вижу, что скрыто под фунтом стерлингов. Какое безумие. Однажды она сказала Ансуэле, что весит семьдесят кило. Из них, я уверен, пятьдесят у нее спереди. Вселенская мать, молоконосная женщина – и так далее. Только будь она менее глупа. Пусть лучше оставит мне все. Я потом посмотрю. Я не могу спокойно работать с этой прирожденной кормилицей перед глазами. До свиданья. Сзади не так хороша. Бедра низкие, куда ниже, чем у Марселы или у Сусанны. Второй раз сегодня вспоминаю Марселу. Так и не знаю, помирилась ли она со своим Сесаром.








