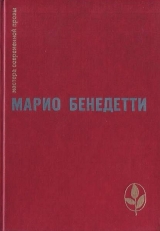
Текст книги "Избранное (Передышка. Спасибо за огонек. Весна с отколотым углом. Рассказы)"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Вторник, 18 февраля
Не пойду больше в дом триста шестьдесят восемь. Не могу, просто не могу.
Четверг, 20 февраля
Я давно не встречаюсь с Анибалем. И ничего не знаю о Хаиме. Эстебан говорит со мной только на отвлеченные темы. Вигнале звонит в контору, я прошу сказать, что меня нет. Никого мне не надо. Только разговариваю иногда с дочерью. Об Авельянеде, разумеется.
Воскресенье, 23 февраля
Сегодня впервые после четырех месяцев был в квартире. Открыл шкаф. Пахло ее духами. Но не в этом дело. Дело в том, что ее нет. Я живу по инерции, и кажется мне, что между инерцией и отчаянием разницы никакой.
Понедельник, 24 февраля
Heт сомнения, что господь судил мне убогую долю. Даже не злую, просто убогую. Нет сомнения и в том, что он даровал мне передышку. Сначала я сопротивлялся, не хотел верить, что мне послано счастье. Сопротивлялся всеми силами и наконец сдался – поверил. Но то не было счастье, а всего лишь передышка. Теперь я вновь обречен своей доле, еще более убогой, чем прежде, еще более.
Вторник, 25 февраля
С первого марта перестану вести дневник. Жизнь потеряла смысл, стоит ли писать об этом? Только об одном мог бы я писать. Но я не хочу.
Среда, 26 февраля
Как она мне нужна! Главное, чего я был лишен раньше, – это вера. Но Авельянеда мне нужнее, чем бог.
Четверг, 27 февраля
В конторе хотели устроить мне проводы, но я отказался. Чтобы не обижать их, придумал весьма правдоподобный предлог, связанный с семейными обстоятельствами. А по правде говоря, я не понимаю, как можно по такому злосчастному поводу устраивать веселый шумный ужин, где бомбардируют друг друга хлебными шариками и проливают вино на скатерть.
Пятница, 28 февраля
Последний день в конторе. Не работал, конечно. Только и делал, что жал руки да обнимался. Управляющий просто лопается от удовольствия. Муньос искренне растроган. Вот я и покинул свой стол. Никогда не думал, что мне будет так легко выключиться из повседневной рутины. Очистил ящики. В одном нашел ее удостоверение личности. Она мне его дала, чтобы зарегистрировать номер в ее учетной карточке. Спрятал удостоверение в карман, сейчас оно здесь, передо мной. Фотография сделана лет пять назад, но четыре месяца назад она была красивее. Одно лишь ясно: мать ошиблась, я не радуюсь своим мученьям. Я просто мучаюсь. С конторой покончено. С завтрашнего дня и до самой смерти все мое время в полном моем распоряжении. Пришла наконец долгожданная свобода. Что я буду с ней делать?
Спасибо за огонек
Вот так, впотьмах, в тумане или в смерти.
Либер Фалько
Я – человек земного мира
со всем, чем он богат и чем меня влечет.
Умберто Меггет
И если грезили, нам в снах являлась явь.
Хуан Кунья [22]
1
На Бродвее, в районе 113-й улицы, не только говорят на испанском – правда, гнусавя и вставляя английские слова, – но можно сказать, что здесь думают, ходят и едят по-испански. Вывески и объявления, которые за несколько кварталов отсюда еще рекламировали «Groceries Delikatessen» [23], здесь превращаются в «Grocerias у Delicadezas» [24]. Кинотеатры здесь, в отличие от кинотеатров на 42-й улице, не возвещают о фильмах с Марлоном Брандо, Ким Новак и Полом Ньюмэном [25], но украшены большими афишами с изображениями Педро Армендариса, Марии Феликс, Кантинфласа, Кармен Севильи [26].
Настает вечер апрельской пятницы тысяча девятьсот пятьдесят девятого года – вверху неба уже не видно, и воздух внизу кажется менее загрязненным. На этом углу самой длинной улицы Манхэттена неоновые рекламы поскромней, но все равно в их свете летающая мошкара отливает разными цветами. На Бродвее испанский Гарлем представлен не так ярко, как, скажем, на Мэдисон-авеню, – во всяком случае, туристы из штатов Айдахо и Вайоминг не являются сюда фотографировать пуэрториканцев на пленку «кодахром».
Это час возвращения к домашнему очагу, если можно так назвать убогие многоквартирные дома. Через открытые окна видны комнаты с потрескавшимися стенами в больших пятнах сырости, видны ютящиеся там жильцы на пяти-шести неубранных кроватях, плачущие и сопливые босые ребятишки, кое-где телевизор, экран которого испачкан жиром или мороженым.
Квартал бедный. Народ здесь бедный. Фасады домов обшарпанные. Рядом с улыбающейся физиономией рекламы кока-колы кто-то написал мелом «Да здравствует Альбису Кампос» [27]. С невозмутимым лицом шагает слепой, и в его жестяную плошку падают, звякая, монеты. Квартал бедный. И большая неоновая вывеска «РЕСТОРАН ТЕК. Л А» (буква «И» в слове «ТЕКИЛА» [28]погасла) никак не вяжется со своим окружением. Ресторан этот, в общем-то, не шикарный, но далее беглый взгляд на висящий у входа прейскурант в черной рамке убеждает в том, что никто из обитателей испанского Гарлема не может числиться среднего завсегдатаев. Но это и не пуэрто-риканский ресторан – скорее он неопределенно и усреднение латиноамериканский. Хотя час еще ранний, столики накрыты – скатерти, тарелки, приборы, салфетки. Впрочем, за столиком у стены справа сидит парочка и, сблизив головы, изучает меню. В первом зале, который выходит окнами на Бродвей, стоят наготове пятеро официантов, обслуживающих тридцать столиков. В глубине зала двустворчатая дверь в особый зал, где накрыт стол на десятка полтора персон. В глубине особого еще одна дверь, но уже в одну створку, а за нею узкий коридор, ведущий в кухню. В коридоре находится телефон, он стоит на полочке, и рядом с ним статуэтка: исколотый бандерильями бык.
Когда раздается телефонным звонок, из кухни выходит Хосе. Хосе – испанец, уже давно обитающий в Нью-Йорке. Он настолько адаптировался, что, даже говоря по-испански, вставляет английские слова.
– Алло. Ресторан «Текила». Speaking. Ah, you speak [29]по-испански. Да, сеньора. Нет, сеньора. Да, сеньора. Все национальное, of course [30]. A сколько гринго [31]вы намерены привести? Да, сеньора. Нет, сеньора. Да, сеньора. Конечно, когда гринго придут, мы принесем пандереты [32]. Typical, you know [33]. Ну и волынка. Никарагуанские гаиты [34]. Да, разумеется. Наши волынки на все пригодны. Будьте спокойны, сеньора, все будет в порядке. И на какой день? Next Friday? [35]О'кей, сеньора, записываю. Как? Как? Ах да, комиссионные. You mean [36], ваши комиссионные. Ну, естественно, вам придется позвонить попозже, поговорить с управляющим. Спросите мистера Питера. Питер Гонсалес. Комиссионными он занимается. Да, ясно. Bye-bye [37].
Хосе идет в первый зал, обводит пятерых официантов пронзительным, испытующим взглядом и принимается раскладывать салфетки. Едва он успел разложить с, полдюжины, снова звонит телефон.
– Алло. Ресторан «Текила». Speaking. О, сеньор посол. Как поживаете? Давно не имели удовольствия видеть вас здесь. А как поживает ваша супруга? Очень рад, сеньор посол. Да, сеньор посол. Сейчас запишу, сеньор посол. Да, сеньор посол. Next Friday? Но видите ли, сеньор посол, на этот вечер особый зал уже заказан. Заказан и обещан. Кто они?
Точно не знаю, сеньор посол, но кажется, кубинцы из Майами, высокого ранга. Разумеется, сеньор посол, это очень важно, о том-то я и говорю. О, конечно. Тем более что у вас намечается просто-напросто развлечение. Именно так, как вы сказали, сеньор посол: всегда и во всем предпочтение деловым людям. Я знал, что вы поймете, сеньор посол. О да. Говорить об этом не надо. Полагаю, что этот ужин – тайный. Придут ли гринго? Точно не знаю, сеньор посол, но обычно кто-то из них является. Нет, сеньор посол, этого я вам не могу сказать. Профессиональная тайна. Вам же, сеньор посол, было бы неприятно, если бы я стал всем трезвонить, что в июне тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года вы здесь три раза ужинали с некой красоткой, которая потом оказалась сообщницей барбудос [38]? Нет, сеньор посол. Что вы, сеньор посол! Спите спокойно, я это только как пример привел. Вы же знаете, я нем как могила. Не тревожьтесь, сеньор посол. Спасибо, сеньор посол. Огромное спасибо, сеньор посол. Я знал, что вы поймете. Тогда я вас записываю на next Saturday [39]. О'кей, сеньор посол. Желаю успехов, сеньор посол. Мое почтение вашей супруге.
Хосе еще не дошел до столиков, как телефон снова звонит. На лице у Хосе не то чтобы покорность судьбе, но выражение серьезнейшей ответственности.
– Алло. Ресторан «Текила», speaking. Питер? Наконец-то, Педро.
Нет, ничего не случилось. Просто ты мог бы и раньше позвонить.
Уругвайцы? Нет, еще не пришли, но, наверно, сейчас явятся. Слушай, они как в смысле денег – швыряют их, как аргентинцы, или же они бедняки, вроде парагвайцев? Скорее скряги? Я просто хотел узнать, всегда лучше знать заранее. Да не беспокойся ты. Конечно, звонки были. Звонила, знаешь, та старая сорока, сообщила, что приведет по крайней мере полтора десятка гринго next Friday, все ротаристы из Дулута [40]. Я пообещал. Она будет звонить тебе, хочет получить комиссионные. Мое скромное мнение: следовало бы ей дать. Она всегда приводит много народу. Она андалуска, понимаешь, уродина, но продувная, а гринго, видишь ли, потянуло на фольклор. Потом звонил посол. Как это – какой? Толстячок, который марихуаной балуется. Ну вот, ты еще потребуешь, чтобы я тебе по телефону сообщал top secrets [41]. Попросил особый зал, тоже на next Friday. Но так как я уже пообещал старой сороке и знаю, что ты не захочешь осложнений, то я сказал ему, что зал отдан кубинцам из Майами. Я, знаешь, подумал, что лучше сказать так, толстяку вряд ли захочется связываться с State Department [42]. Хорошо сделал? О'кей. Я его записал на next Saturday. Как? В next Saturday придут гватемальцы? Но какие? Арбенсисты или идигорасисты? [43]Ох, черт! Почему ж ты меня не предупредил? Слушай, предоставь это мне, завтра я поговорю с послом и передвину его на next Sunday [44]. Больше новостей нет. Bye-bye.
Теперь заняты уже четыре столика. За исключением самого долговязого из официантов, который скрашивает свою вынужденную праздность, скромно ковыряя мизинцем в носу, остальные четверо зашевелились. Идут на кухню и возвращаются с каким-нибудь блюдом, но не форсируя темп, словно берегут силы для часа, когда уж наверняка посетители валом повалят. Но вот появляются трое мужчин, слишком тепло одетых для этого мягкого апрельского вечера, и садятся за столик в центре; тогда пятый официант вынимает мизинец из левой ноздри и с улыбкой направляется к новоприбывшим.
Четверть часа спустя открывается более шумно, чем обычно, дверь главного входа, и со смехом и возгласами вваливаются восемь, десять, наконец пятнадцать человек.
– Уругвайцы, – бормочет Хосе и идет им навстречу. – Вы уругвайцы, господа?
– Да, да! – отвечают хором по крайней мере семь голосов.
Полный, щеголевато одетый мужчина лет шестидесяти делает шаг вперед и говорит:
– Я Хоакин Бальестерос. Мы еще на прошлой неделе заказали стол в особом зале.
– О, разумеется, – говорит Хосе. – Будьте добры пройти сюда.
Хосе и ковыряльщик в носу придерживают створки дверей, пока проходят Бальестерос и его компания. Восемь мужчин и семь женщин. Бальестерос берет на себя труд распределить места.
– Мужчина, женщина, мужчина, женщина, – говорит он. – Здесь, как и везде, такое распределение самое приятное.
Трое из женщин хихикают.
– Нет, Бальестерос, вы укажите точно, – говорит один из мужчин. – Укажите по имени и фамилии, где кому садиться. Кстати, это поможет нам познакомиться.
– Вы правы, Окампо, – отвечает Бальестерос. – Тот факт, что я решил собрать за одним столом пятнадцать уругвайцев, которые по разным причинам оказались в Нью-Йорке, не препятствует нам соблюсти приличия и всех перезнакомить. Мне, правда, известно, что некоторые уже познакомились самостоятельно, но я последую совету Окампо и буду рассаживать, называя имя и фамилию. Вот тут, справа от меня, Мирта Вентура. Рядом с Миртой – Паскаль Берутти. Рядом с Берутти – Селика Бустос. Рядом с Селикой – Агустин Фернандес. Рядом с Фернандесом – Рут Амесуа. Рядом с Рут – Рамон Будиньо. Рядом с Будиньо – Марсела Торрес де Солис. Рядом с Марселой – Клаудио Окампо. Рядом с Окампо – Анхелика Франко. Рядом с Анхеликой – Хосе Рейнах. Рядом с Рейнахом – Габриэла Дупетит. Рядом с Габриэлой – Себастьян Агилар. Рядом с Агиларом – София Мелогно. Рядом с Софией – Алехандро Ларральде. И рядом с Ларральде – опять-таки ваш покорный слуга, Хоакин Бальестерос. Согласны?
– Вы родственник Эдмундо Будиньо? – спрашивает Рут Амесуа, сидящая слева от Рамона.
– Я его сын.
– Сын Эдмундо Будиньо, владельца газеты? – слышит Рамон голос справа от себя, это спрашивает Марсела Торрес де Солис.
– Да, владельца газеты и фабрики.
– Карамба! – говорит Фернандес, высовываясь из-за спины Рут. – Выходит, вы важная персона.
– Во всяком случае, мой отец – персона. У меня только агентство путешествий.
Трудиться выбирать себе блюда не надо – меню определил Бальестерос: фаршированные томаты, равиоли по-генуэзски, рис по-кубински, мороженое с фруктами.
– Я старался, чтобы блюда были легкие, – объясняет Бальестерос, когда приносят холодные закуски. – Я-то знаю, что у нас, уругвайцев, у всех больная печень.
– Как удачно, что вы напомнили про печень, – говорит Хосе Рейнах. – Я вспомнил про свои таблетки.
– Ну как? Много покупок сделали? – спрашивает, обращаясь ко всем, София Мелогно с улыбкой, которая ее молодит лет на десять.
– Только кое-что из электротоваров, – говорит Берутти, сидящий напротив нее.
– А где? В «Чифоре»?
– Ну конечно.
Селика Бустос доверительно наклоняется к Берутти и со смущением тихо спрашивает, что такое «Чифора».
– Как? Вы не знаете? Это торговое заведение на третьем этаже одного дома на Пятой авеню. Они латиноамериканцам делают колоссальную скидку.
– Ой, пожалуйста, дайте я запишу адрес.
– Ну конечно. Дом 286 на Пятой авеню.
– Не думайте, – говорит Бальестерос еще более тихим голосом на ухо Ларральде, – не думайте, что «Чифора» торгует только электротоварами. Там служит один маленький кубинец, который доставляет потрясающих девочек.
– Правда? Сейчас запишу адрес.
– Запишите, пригодится: дом 286 на Пятой авеню.
– А этот служащий?
– Видите ли, я не знаю его имени. Но вы войдете – и увидите. Справа там стенд с проигрывателями и телевизорами. Слева – стеллаж с безразмерными чулками. Так тот парень – он такой чернявый, худой, со змеиными глазками – позади стенда.
– Я очарована, – говорит Мирта Вентура, кладя руку на часы «лонжин» Берутти. – Всего неделя, как я приехала, и уже очарована.
«Радио-сити» великолепен: этот оркестр, который то появляется, то исчезает, этот бесподобный органист. А ковры? Вы обратили внимание на ковры? Ступишь на ковер – и прямо утопаешь в нем.
– «Радио-сити» – это огромный зал, где танцует группа «Рокетс»? – спрашивает Агилар с другой стороны стола.
– Тот самый, – отвечает Берутти. – Высший класс, не правда ли?
Я тоже это подумал, когда на днях побывал там. Ну ладно, у нас нет ничего, потому что Монтевидео-это ничто. Но Буэнос-Айрес, где так задирают нос? Ну скажите, Берутти, есть ли в Буэнос-Айресе что-нибудь, что можно сравнить с ансамблем «Рокетс»?
– Вы имеете в виду только ножки или также дисциплину?
– И то и другое. Ножки и дисциплину. Вспомните наш «Майпу» [45], и вам плакать захочется.
– Все зависит от того, когда вы бывали в «Майпу». Я-то вспоминаю, что в пятьдесят пятом там были две сногсшибательные смуглянки.
– Сногсшибательные толстушки?
– Да, но в них и еще кое-что было.
– Я спросил, потому что это дело вкуса. Мне, знаете, особенно пышные не нравятся, я предпочитаю тип более современный, вот как у девочек из «Рокетс».
– Ну ясно, дело вкуса. Мне тоже нравится современный тип, но только чтобы все же было что пощупать.
С тайным удовлетворением, словно бы в душе чувствуя, что тут есть намек и на нее, в разговор вмешивается Габриэла Дупетит.
– Не кажется ли вам, что эта беседа, так сказать, для сугубо мужского общества?
– Вы правы, – говорит Берутти, и наступает несколько натянутое молчание.
Лишь теперь слышится звяканье вилок и ножей. А также звуки, издаваемые Окампо, который выпивает целый стакан «кьянти». Все глядят на него с веселым удивлением, и в течение десяти секунд двигающееся вверх и вниз адамово яблоко на шее Окампо занимает всеобщее внимание.
– Отличное вино, – говорит Окампо, заметив, что на него устремлены глаза всех.
На левом крыле стола раздаются смешки, и Рейнах чувствует необходимость вмешаться.
– Вот что в этой стране поистине необыкновенно. Она богата даже тем, чего у нее нет. Калифорнийские вина, конечно, весьма посредственные. Но вы можете здесь приобрести любое вино из любой части света. Как раз вчера я купил бутылку «токая», а это, как вам известно, вино коммунистическое. Вот широта. Вы представляете себе, что это значит, если Соединенные Штаты разрешают здесь продавать коммунистические вина?
– Я бы предложил перейти на «ты», – говорит Фернандес своей соседке Рут Амесуа.
– Хорошая идея, – отвечает она и машинально, как могла бы прикусить губу или почесать нос, смотрит на свои часики, на которых двадцать минут одиннадцатого.
– Я всегда говорю: лучше сразу перейти на «ты», а то потом это труднее, – настаивает Фернандес. Он кладет вилку с застрявшими на ней горошинами и осторожно пожимает обнаженную до локтя руку девушки.
– Веди себя прилично, – говорит, она тоном, в котором звучат и упрек, и вызов.
Неохотно повинуясь, рука снова берет вилку, но горошинки уже сползли обратно в фаршированный ими помидор.
– Значит, вы замужем? – говорит Будиньо сеньоре де Солис.
– Разве по лицу не видно?
– Ну, я не знаю, как выглядит лицо у замужней. Могу только сказать, что вы слишком молоды.
– Не так уж слишком, Будиньо. Мне двадцать три года.
– Ох какая старуха.
– Вот вы смеетесь, а я иногда чувствую себя старой.
– Знаете, я вас понимаю, я тоже иногда чувствую себя молодым.
– Бросьте, Будиньо, да у вас лицо мальчика. Слева от Будиньо раздается нервный голос Рут:
– Почему вы не на «ты», как мы?
Рамон и Марсели переглядываются, понимающе и заговорщицки.
– А мы еще не обсудили эту возможность, – говорит Будиньо. – Но, наверно, вскоре обсудим.
– Правда? – говорит Марсела, вскидывая ресницы.
– Конечно, если только досадные двадцать лет разницы не будут, вам мешать.
– Вам?
– Я хотел сказать: тебе мешать.
– Нет, нет, уверяю тебя, что нет.
– Я вас спрашиваю, – говорит на другой стороне стола София Мелогно, – почему мы все такие придиры, почему вечно выискиваем недостатки Соединенных Штатов, когда это действительно чудесная страна? Кроме того, здесь люди по-настоящему работают, трудятся с утра до ночи, не то что у нас в Монтевидео, где одна забастовка кончается, другая начинается. Надо, к сожалению, признать, что у нас рабочие – это сброд. А здесь нет, здесь рабочий-это человек сознательный, который понимает, что его заработок зависит от капитала, дающего ему работу, и потому рабочий его защищает. Может, вы скажете мне, кто в Уругвае трудится с утра до ночи?
– Думаю, только вы, сеньорита, – вдруг заявляет Ларральде, – по крайней мере трудитесь, распространяя свои взгляды.
– Не острите, Ларральде. Вы хорошо знаете, что у меня нет необходимости работать.
– А я-то думал…
– Еще чего недоставало. Чтобы мы, девушки из порядочных семей, шли в конторские служащие. Это вернейший способ утратить женственность.
– Как посмотреть, сеньорита. Иногда женщина стоит перед выбором-либо умереть с голоду, либо утратить женственность.
– Любопытно узнать, Ларральде, вы коммунист?
Берутти ухаживает за Миртой Вентура. Фернандес флиртует с Рут. И Селика Бустос, глядя на спины своих соседей справа и слева, чувствует себя заброшенной. Она решает обратиться к Агилару, который в эту минуту смотрит на нее.
– А вы чем занимаетесь в Нью-Йорке?
– Я в Нью-Йорке только проездом. Вообще-то я живу в Вашингтоне.
– Тогда чем вы занимаетесь в Вашингтоне?
– Цифрами.
– Что-то не ясно. Кто вы? Счетовод? Инженер? Конторский служащий?
– Архитектор.
– Вот так да!
– Я работаю в ОАГ [46].
– И вам нравится?
– Да, вполне.
– А что вы там делаете?
– Проектируем города. Как правило, для слаборазвитых стран.
– Ах, понятно, вы все застроите этими антисептическими, симметричными, чистенькими городками, все на одно лицо, без всякого характера.
– В конце концов это все же лучше, чем трущобы, бидонвили, хибары. Разве не так?
– Да, конечно. Но зачем делать все одинаковые?
– Дешевле. Сейчас мы проектируем несколько городов для Парагвая. В будущем году мне, вероятно, придется съездить в Асунсьон на восемь-десять месяцев.
– Я бы в Асунсьон не поехала.
– Почему? Из-за Стреснера?
– Да.
– Я тоже так думал там, в Монтевидео. Но теперь признаюсь, что мы рассуждаем по-ребячески. С такими мыслями мы ничего толкового не можем сделать. Когда я был студентом, я активно работал в ФЭУУ [47], а потом мне надоело быть принципиальным и нищим. Может, я кажусь вам циником. Но здесь мне платят колоссальные деньги. Разумеется, в Монтевидео друзей у меня не осталось.
– И вы довольны? Я хочу сказать, довольны собой?
– Пожалуй что доволен. Наступает момент, когда надо решать – либо хранить верность принципам, либо деньги зарабатывать.
– И вы решили.
– Да. Но я не собираюсь вести себя, как некоторые мои коллеги, которые, чтобы унять угрызения совести и заткнуть рот упрекающим, хотят себя убедить, что это замечательно. Уверяю вас, это вовсе не так. И ОАГ – изрядно гнусное заведение. Но я получаю много долларов.
– Мы ничего, ровно ничего не производим, – говорит Рейнах Габриэле Дупетит. – Как же вы хотите, чтобы североамериканские капиталисты вкладывали деньги в нашу страну, если мы ничего не производим? Чтобы привлечь капиталы, нужен экономический подъем, вроде как в ФРГ – там-то трудятся. Меня смешат эти интеллектуалы из кафе, которые требуют больше независимости в международной политике. Для меня самое главное – коммерция. И, как коммерсант, уверяю вас, что я нисколько не был бы задет, если бы Уругвай был менее независим, чем сейчас, – называйте эту зависимость как вам угодно: присоединившимся штатом, долларовой зоной или, более откровенно, колонией. В коммерции понятие родины не столь важно, как в гимне, и порой в колонии коммерция развивается лучше, чем в государстве с виду независимом.
– Все относительно. А знаете, Рейнах, будь мы колонией Соединенных Штатов или, на худой конец, Англии, было бы совсем недурно. Но вообразите на миг, что мы стали колонией России. Ух, у меня прямо мурашки по коже забегали.
– О такой возможности я никогда не думал. Должен вам заявить, что для меня существует лишь одна родина – идея частного предпринимательства. Там, где эта идея не осуществляется, такую страну я стираю с географической карты. Во всяком случае, с моей карты.
– Знаете, как я догадался, что Окампо уругваец? – спрашивает, держа на вилке равиоль, хорошо упитанный Бальестерос у молчаливого Ларральде. – Зашел я в маленькое кафе позади Карнеги-холла, гляжу, за одним столиком сидят трое и беседуют по-испански. Вдруг один из них говорит: «И я решил поставить на эту конягу». Заметьте, он не сказал «лошадь», «коня» или «жеребца», а «конягу». Я подхожу и говорю: «Из Буэнос-Айреса или из Монтевидео?» А он отвечает: «Из Пасо-Молино [48]». Какая радость! Я тоже из Пасо-Молино. Представляете?
Будиньо наливает «кьянти» в бокал Марселы, затем в свой.
– Ты не была на Бауэри?
– Нет. А что это?
– Улица пьянчуг. Когда там ходишь, надо смотреть, куда ставишь ноги. Иначе можешь наступить па тело какого-нибудь бедняги, валяющегося па панели или на мостовой. Очень угнетающе действует.
– Да и весь тот район мрачный.
– Я никогда до конца не пойму проблемы пуэрториканцев. Во-первых, «свободно присоединившееся государство» звучит некрасиво. Цена национального достоинства – столько-то долларов. Производит впечатление какой-то коллективной продажи. И затем, что они выигрывают от этой приманки, от свободного въезда в Соединенные Штаты? Возможность ютиться целой семьей в одной комнате и работать как волы, чтобы получать меньше, чем любой североамериканец. Решительно не понимаю.
– А знаешь, как у меня странно получается с Соединенными Штатами? Я понимаю, что они ужасно поступают с Латинской Америкой. Я знаю все, что творится в Мексике, Никарагуа, Панаме, Гватемале. Мой брат много мне рассказывал обо всех этих делах. Я все понимаю и возмущаюсь. Но потом приезжаю сюда – и я очарована. Я ведь и в Европе бывала, но Нью-Йорк – один из тех городов, где мне приятней всего.
– И как это твой муж разрешает тебе одной разгуливать по белу свету? Разве он не знает, что это опасно? По крайней мере для него.
– А его разрешения и не требуется. Мы разводимся.
– Ах вот как.
– Мое замужество продолжалось всего полгода.
– Вам нравятся доллары? – спрашивает Анхелика Франко у Клаудио Окампо.
– Кому они не нравятся?
– Я от них в восторге. И, по-моему, просто фантастика, что все они одного размера: бумажка в один доллар точнехонько такая, как в сто. Как им не быть владыками мира, когда у них такие красивые деньги? Кто способен сопротивляться? Вот если бы вас, Окампо, захотели купить, вы бы могли устоять? Я-нет. Покажут мне доллар, и все мое сопротивление рушится. Почему бы это?
– Ну что вам сказать? Тут, я думаю, одно из двух-либо вы ужасно честолюбивы, либо…
– Говорите, говорите.
– Либо у вас очень мало предрассудков.
– Буду с вами откровенна – я не честолюбива.
Агустин Фернандес добился больших успехов. Пока рис по-кубински остывает, его правая рука покоится на левом бедре Рут.
– У нас, можно сказать, процветает философия танго, – невозмутимо продолжает хозяин руки. – Денежки, подружка, мате, футбол, водка, старый Южный район [49], всякая сентиментальная чепуха.
А так с места не сдвинешься. Мы – мягкотелые, понимаешь? Заметь, что наших гвардейцев прозвали «неженками». Вот мы все и есть неженки, а надо быть твердыми, как здешние молодцы. К делу, и точка. Что годится, то годится, а что не годится, то не годится. Рука движется дальше, пока не натыкается под юбкой на каемку трусов.
– Агустин, заметят, – шепчет Рут почти в отчаянии.
– В социологическом плане, – с серьезным видом продолжает Фернандес, – мне жизнь у нас не нравится. В экономическом – тоже. В человеческом – еще меньше. Подумать только, что здесь, на Севере, мы видим такой пример и позволяем себе его игнорировать. Не могу передать, как это бесит меня всякий раз, когда я приезжаю в Нью-Йорк.
Пять пальцев шевелятся каждый сам по себе и вдруг, словно они сочли исследование удовлетворительным, все враз сжимают бедро Рут.
– Аа-ай! – невольно вырывается у нее.
– Я не собираюсь возвращаться в Уругвай, – говорит во главе стола Бальестерос, обдавая Ларральде горячим дыханием. – Раз-другой, возможно, поеду навестить мать и племянников, но оставаться там – ни за что.
– Не знаю, сумел ли бы я до такой степени оторваться от родной почвы.
– Ясно, сумели бы. Все могут. А знаете, что лучше всего лечит от ностальгии? Комфорт. Я здесь хорошо устроился, живу с комфортом и даже не вспоминаю про Пасо-Молино. Чего стоит одно чувство: вы нажимаете на кнопку, и вам отвечает весь мир. Я уверен, вы согласитесь, что жизнь здесь чудесно механизирована. Однажды кто-то – кажется, один мексиканец – сказал, только чтобы испортить мне пищеварение: «Да, все чудесно механизировано: а вот подумали ли вы о том, сколько тысяч людей в остальных краях Америки голодают, чтобы североамериканцы могли нажимать на кнопку?» Но могу вас заверить, пищеварение он мне не испортил; я сказал ему… Знаете, что я ему сказал? Ха-ха! Я посмотрел на него и ответил: «А мне какое дело?»
– Потому мне и нравится бывать вдали от Монтевидео, – шепчет Анхелика Франко на ухо Окампо, – я тогда освобождаюсь от своих комплексов. Я, например, уверена, что вы – а вы мне очень симпатичны – можете мне сделать сейчас какое-нибудь предложение, которое в Монтевидео показалось бы мне возмутительным; я просто убеждена, что вы мне скажете что-то ужасно неприличное, и не возмущаюсь. Все дело в одном – в расстоянии. Видели бы вы меня в Уругвае, вы бы меня не узнали. Странно, но там я такая робкая, скованная, замкнутая, нерешительная. Здесь же я освобождаюсь. Скажите мне, Окампо, со всей откровенностью, кажусь я вам робкой?
– Ни в малейшей степени. Скорее вы мне кажетесь потрясающе решительной, я бы даже сказал – агрессивной.
– Ах, как приятно это слышать. Вы себе не представляете, какое это удовольствие – чувствовать себя вот такой: свободной, решительной. Там все по-другому, там все меня подавляет. Смотрю на Дворец Сальво [50]– и замыкаюсь. Кто-нибудь сядет рядом со мной в автобусе – замыкаюсь. Если прикоснется ко мне мужчина, даже без умысла, я сейчас же замыкаюсь.
– А здесь – не замыкаетесь?
– Проверьте, Окампо, проверьте.
– И тогда, – исповедуется Марсела Рамону Будиньо, – я уже не могла больше выдержать. Для меня было ужасно, что я вызываю в нем исключительно сексуальное влечение. Женщина хочет быть любимой еще и за другое.
– Думаю, любить тебя за другое не так уж трудно. В дополнение к первому, разумеется.
– Ты вот слушаешь с насмешкой и смотришь как-то снисходительно. Ты что, девчонкой меня считаешь?
– Просто ты совсем не похожа на взрослую женщину.
– И все же, уверяю тебя, это ужасно – быть замужем и вдруг остаться одинокой. В девушках я тоже была одинокой, но то было одиночество другого сорта. Одиночество с надеждой.
– Черт побери, какие слова! И ты хочешь меня убедить, будто в двадцать три года потеряла надежду?
– Нет, но теперь у меня уже есть опыт замужества, и я знаю, что оно может не удаться.
– В жизни все подвластно этой альтернативе. Все либо удается, либо не удается.
– А ты? Ты счастлив в браке? Твоя супружеская жизнь удалась?
– Знаешь, что я тебе скажу? После стольких лет моя супружеская жизнь не такая уж интересная тема. Понимаешь, не увлекает.
– Дети есть?
– Сын пятнадцати лет. Зовут его Густаво.
– Наверно, приятно иметь ребенка. Будь у меня ребенок, я уверена, что наш брак не распался бы.
– Ну давай, говори еще о себе.
– Да ты скажи, кто ты? Романист? Журналист? Детектив? Заставляешь других говорить, а сам ничего не рассказываешь.
– Я же тебе назвал причину: старый, женатый человек, имеющий сына, – это всегда скучно, но девушка вроде тебя, молодая, красивая и без мужа, – это всегда интересно.
Марсела медленно жует кусочек хлеба. И когда наконец задает вопрос, на лице у нее неопределенная улыбка.
– Ты что, решил за мной приударить?
На громкий смех Будиньо оборачиваются Рут Амесуа, Клаудио Окампо и Хосе Рейнах. И лишь когда эти три пары глаз возвращаются в прежнее положение, Будиньо окидывает Марселу веселым взглядом, но к ней не притрагивается.
– А знаешь, это мне не приходило в голову. Замечательная мысль. Теперь уже хохочет она.








