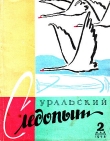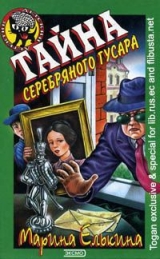
Текст книги "Тайна серебряного гусара"
Автор книги: Марина Елькина
Жанр:
Детские остросюжетные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Часть третья РАЗГАДКА
Глава I ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Ольга Григорьевна рассказывала историю из своего детства очень долго, потому что Генка и Димка не просто слушали, а задавали миллион вопросов и тут же строили новые догадки.
– Вот и все! – объявила наконец Ольга Григорьевна и замолчала.
– Как это – все? – удивился Димка. – А дальше?
– А что дальше? Дальше вы и сами все знаете. Гусара мы тогда так и не нашли. Его обнаружили вы. Жаль, конечно, София Львовна порадовалась бы. Кирилл рассказывал, что она очень переживала о своей потере. Она была уверена, что статуэтку куда-то спрятал Петя. Да видите, оказалась права, просто мы почему-то тогда не догадались поискать в подвале.
Мальчишки переглянулись.
– Сумка была не в подвале, а в пустоте.
– Что значит – в пустоте? – удивилась Ольга Григорьевна.
– В пустоте и значит в пустоте, мам, – Генка объяснил так же, как бригадир: – Архитектор намудрил.
– А как же тогда гусар оказался в этой пустоте?
– Вот уж не знаю. Может, тогда была разобрана какая-то стенка?
– Нет, – твердо сказала Ольга Григорьевна. – Это точно. Нет. Иначе мы обратили бы внимание. И о пустоте знали бы.
– Ну, вот еще одна загадка, – вздохнул Генка и подвел итог: – Твой рассказ мало что прояснил. Нет, конечно, теперь мы знаем, кто такая Сонечка, кому принадлежала сумка. Но больше ничего. Непонятно, как гусар оказался в пустоте между домом и аркой. Непонятно, кто его теперь ищет и зачем. Появился новый вопрос – как гусар там оказался?
– Это ерунда, – отмахнулся Димка. – Оказался и оказался. Где-то все-таки была дыра.
– Вот расследование! – хмыкнул Генка. – «Оказался и оказался»! Просто ученик Шерлока Холмса! В этом вопросе начало всего клубка.
Ольга Григорьевна улыбнулась:
– Что же ты за начало нитку тянешь? Так еще скорее клубок запутается. Потяни за конец – больше гарантии распутать. И вообще, почему вы решили, что это Петя спрятал гусара в пустоте?
– А кто же?
– Не знаю. Кто-нибудь другой. Петя был не матерый преступник. Он сознался сразу. И сразу показал, где спрятал украденное. Какой резон ему был упираться и не рассказывать, где гусар? Знаете, мы с Илюшкой так верили Пете, что чуть не поссорились с Кириллом, который держал сторону Софии Львовны. Честно говоря, мы думали так же, как весь двор, – София Львовна куда-то сунула свою сумочку и забыла, а теперь все на Петю сваливает. Потому что… Ну, как вам объяснить?… Не мог Петя. Не мог. Я и сейчас в этом уверена. Скорее всего кто-то другой нашел эту сумочку и перепрятал.
– Кто? Псих?
– Может быть.
– А кто такой этот Псих? Вы так и не узнали?
– Узнали. Через недельку снова приезжала милиция. Они установили, кто он.
– И кто? – не выдержал Димка.
– Маньяк, убивавший детей.
– Так вот почему он за вами охотился! – воскликнул Генка.
– Он был действительно сумасшедший. Его держали не в тюрьме, а в специальном сумасшедшем доме. Там пожизненно держат таких преступников, опасных для общества. Не знаю, как оттуда можно сбежать, но Псих сбежал и прятался в нашем дворе.
– Его нашли?
– Вот этого нам не сказали. Наверное, нашли. По крайней мере, больше он во дворе не появлялся. Никогда.
– Послушайте! – вдруг закричал Димка. – А что, если этот тип, который сейчас гусара ищет, – тот самый Псих?!
– Ну, ты сказанул! – рассмеялся Генка. – Тот нормальный.
– Ну и что? Может, он вылечился!
– Мам, скажи ему, что психи не вылечиваются!
Ольга Григорьевна кивнула:
– Психиатр – единственная неблагодарная врачебная профессия. У них не бывает вылечившихся больных. Душевную болезнь можно только приостановить, но не вылечить.
– Сдаюсь, – согласился Димка. – Тогда кто этот тип?
– Тот, кто спрятал гусара, – ответил Генка. – Или тот, кто знал, где он спрятан.
– Ответ верный, – усмехнулся Димка. – Сказка про белого бычка.
– А что ж тебе, фамилию назвать? В этом и загадка. Опять вернулись в начало клубка.
– Загадка, конечно, не только в этом. Загадка еще и в гусаре. Зачем ему нужна обыкновенная серебряная статуэтка?
– Как видишь – необыкновенная, – возразил Генка. – И как это я не догадался, что внутри может быть драгоценный камень! Что гусар может быть с секретом!
Пока Генка сокрушался, Димка уже крутил в руках серебряного гусара и дергал его сабельку. Но рубиновое сердце не открывалось.

– Наврал ваш Кирилл, – улыбнулся Димка Ольге Григорьевне. – Нет здесь никакого секрета.
– Дай-ка.
Генкины попытки открыть гусарское сердце тоже не увенчались успехом. Сабелька не шевелилась. Ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево.
Но Генку не так легко было сбить с толку, как Димку. Он не сдавался.
Мама верила Кириллу, и Генка тоже верил. Он вооружился лупой и вскоре сообщил:
– Секрет есть. Вот створки. Только как их открыть? Наверное, пружинка внутри сломалась. Нужно поискать мастера.
– Какого? Часовщика, что ли? – Димка улыбнулся. – С этим механизмом только Фаберже справится.
– Вполне возможно, что это изделие его фабрики, – кивнула Ольга Григорьевна. – Этого мы уже не узнаем.
– Как раз это узнать проще простого, – возразил Генка. – У фабрики Фаберже было свое клеймо. А здесь ничего нет. Это, скорее всего, ручная работа.
Димка вздохнул:
– А мы думали, разгадка в письмах.
– Может быть, – не терял оптимизма Генка. – Три французских письма еще не переведены.
– Кстати, о письмах, – напомнила Ольга Григорьевна и лукаво улыбнулась. – Я помогу найти вам переводчика. Я познакомлю вас с Кириллом.
– С каким Кириллом? С тем самым? – закричали мальчишки.
Для них все, рассказанное недавно Ольгой Григорьевной, было чем-то сказочным, невероятным, и чужим, и близким. Им казалось, что они всегда были знакомы и с Илюшкой, и с Кириллом, что это они бегали от Психа и сражались с собачниками, но в то же самое время вся история как будто происходила во сне, не в их дворе, а на другой планете.
И речь шла вроде бы о том же гусаре, и София Львовна была той самой Сонечкой из писем, но все это было так странно и так несовместимо, что знакомство с настоящим Кириллом было тем самым мостиком, который сможет соединить несоединимое.
– С тем самым Кириллом, – улыбнулась Ольга Григорьевна. – Конечно, сейчас это уже не десятилетний мальчик, а взрослый, солидный Кирилл Леонидович, хранитель музея.
– Хранитель музея? – переспросил Генка.
Это слово – «хранитель» тоже было странным, сказочным, невероятным.
– Правда, аккуратненький костюмчик на нем будет, – пообещала, смеясь, Ольга Григорьевна. – И он еще не разучился говорить по-французски и не забыл хорошие манеры. Он и переведет оставшиеся письма.
– А Илюшка? – вдруг спросил Димка. – Где сейчас Илюшка?
Ольга Григорьевна вздохнула:
– К сожалению, не знаю. Года через два после всех этих событий родители увезли его в Киев. Мы сначала переписывались. А потом он перестал писать. И мне, и Кириллу. От общих знакомых мы узнали, что после школы он поступил в мореходку, а потом служил в Мурманске. Но от самого Илюшки не было больше ни слова.
– Как же так? – удивился Генка. – Ведь вы поклялись писать друг другу.
– Наверное, он забыл про эту клятву. Не все помнят свое детство. Некоторые очень хотят повзрослеть и, когда взрослеют, стараются забыть все, что было в детстве.
– Все? – недоверчиво проговорил Димка. – И Психа? И гусара? И «вахтенный журнал»? И вас с Кириллом?
– Как видишь.
Мальчишки переглянулись. Нет, конечно, им не по десять лет, они не будут давать друг другу красивые клятвы. Им хватит вот этого взгляда, чтобы пообещать друг другу не забывать ничего. И этой минуты тоже.
– Ну так что, друзья мои? – помолчав, спросила Ольга Григорьевна. – Идем знакомиться с Кириллом Леонидовичем?
– Да, конечно.
– Тогда попрошу сменить ваши спортивные штаны хотя бы на джинсы. Во-первых, мы с вами отправляемся в музей, а во-вторых, мне хотелось бы представить вас хранителю музея не шпаной, а приличными детьми, – Ольга Григорьевна весело рассмеялась. – Я, конечно, не София Львовна, но со временем тоже начала понимать преимущества хороших манер.
* * *
Письмо восьмое
«Дорогой, милый Николенька!
Пишите, пишите про войну. К несчастью, война сейчас – это жизнь и реальность для всех – для тех, кто воюет, и для тех, кто не воюет.
Петербург нынче наводнен ранеными и пленными. Пленных везут целыми поездами. Не браните меня, Николенька, но вчера я отдала булку пленному-австрияку.
Он был такой жалкий, Николенька! Совсем мальчишка, мне ровесник, худой, грязный, с рукой на перевязи. Он пробормотал мне благодарность, жалко-виновато улыбнулся и впился в булку зубами.
Простите, Николенька! Может, он стрелял в Вас, но он такой жалкий, что в это трудно, невозможно поверить.
Вам ведь тоже стало жалко тех пленных солдат, которых Вы видели в штабе? Вы не написали тогда об этом, но я чувствую все то, что Вы недоговариваете.
Я ведь всегда понимала Вас лучше всех. И тогда, когда мы в детстве играли в мореходов в Костиной комнате, и тогда, когда Вы спорили с Костенькой на даче в Павловске и он никак не соглашался понять смысл военной службы.
Господи! Неужели это все ушло навсегда-навсегда? И Павловск, и ваши споры, и детство?
Папа отдал под госпиталь наш московский дом на Поварской. Теперь там будут располагаться палаты для сотни раненых офицеров. Папенька написал вчера нашему управляющему и отдал нужные распоряжения.
Когда письмо было уже запечатано, он почему-то вздохнул и сказал: «Это самое большее, что мы можем сделать для нашего бедного Николая».
Разве это так? Разве это только для Вас? Даст бог, Вы никогда не попадете ни в этот госпиталь, ни в какой другой. Это просто наш вклад в нынешнюю военную кампанию.
Юленька попросилась из госпиталя в санитарный поезд. На днях она уезжает ближе к фронту.
Ну что стоило папе отпустить меня с ней вместе! Я была бы сейчас необходима, я была бы к Вам ближе, может, даже на том же фронте, что и Вы!
Ах, как бы мне хотелось с Вами повидаться, убедиться своими глазами в том, что Вы живы и здоровы!
А вместо всего этого я сижу над учебниками, чтобы сдать выпускные экзамены в женской гимназии, чтобы после получить аттестат мужской гимназии (это нужно для поступления на Высшие женские курсы).
Костенька обещает помочь, если я где-то не пойму, но он в последнее время начал хворать. Кашляет, жалуется на грудь.
Мама боится, что это чахотка, но приглашенные врачи убеждают нас, что ничего страшного нет, что он просто застудился. Уже прохладно по утрам, а он ходит в легоньком студенческом мундирчике нараспашку.
Вы же знаете, какой он упрямый! Он Вам кланялся и просил ничего не писать о его болезни. Простите, не удержалась.
Всего хорошего Вам, Николенька.
Ваша Соня.
19 сентября 1914 года».
Глава II КИРИЛЛ ЛЕОНИДОВИЧ
Кирилл оказался именно таким, каким его себе представляли и Генка, и Димка. Худощавый, длинноногий, немножко нескладный и хрупкий.
Конечно, слово «хрупкий» не очень подходит к сорокалетнему мужчине, но к сорокалетнему Кириллу Леонидовичу оно очень даже подходило. Хрупкий – иначе про него и не скажешь. В нем осталось что-то от того десятилетнего мальчика с кожаной папочкой под мышкой.
– Олечка! Здравствуй! Как я рад! – и Кирилл Леонидович улыбнулся знакомой доброй улыбкой мальчишки Кирилла. – Это твои сыновья?
– Только один, – засмеялась Ольга Григорьевна. – Вот этот. Младший. Гена. А это – Дима, его лучший друг. Кирилл, мы к тебе по делу.
– Да-да, конечно. Пойдемте в кабинет.
– Ты помнишь, как мы искали серебряного гусара Софии Львовны? – спросила Ольга Григорьевна.
– Да, конечно, помню.
– Мальчики его нашли.
– Нашли?! – глаза Кирилла Леонидовича радостно блеснули из-под очков. – Где?
– Они тебе все расскажут. А я спешу. На работу опаздываю.
И Ольга Григорьевна быстро попрощалась.
Генка и Димка с любопытством смотрели на Кирилла Леонидовича и молчали.
– Не стесняйтесь, ребята, – попросил Кирилл Леонидович и сам смущенно поправил тонкую золотую оправу очков.
Мальчишки его и не стеснялись. Ни капельки.
Им просто было весело и интересно находить в Кирилле Леонидовиче те черточки, про которые они слышали от Ольги Григорьевны. Молчать дольше было уже неприлично, и Генка, торопясь и почему-то робея, рассказал всю историю с находкой серебряного гусара и писем.
– С собой? – быстро спросил Кирилл Леонидович. – Письма, гусар с собой? Ну конечно, с собой, – тут же улыбнулся он, разглядывая серебряную статуэтку. – Да-да, это он, тот самый потерянный гусар! Ах, как обрадовалась бы сейчас София Львовна! – Он обернулся к ребятам и пояснил: – Я вижу этого гусара второй раз в жизни. Первый раз мне показывала его сама София Львовна. Это был знак ее особого расположения. Она хранила гусара как святыню, как талисман, как самое дорогое.
– А почему? – тут же спросил Димка.
– Не знаю. Она никогда не говорила о том, что связано у нее с этим гусаром.
– А письма она вам показывала?
– Нет. Только рассказывала, уже после кражи, что в сумочке, кроме статуэтки, были еще какие-то письма.
– И ничего не говорила о Николеньке?
– О Николеньке? – переспросил Кирилл Леонидович.
– О Николае Зайцеве, артиллерийском офицере.
– Нет. Ничего.
– Он был другом ее детства. Это – переписка с ним, – Генка подал Кириллу Леонидовичу пачку пожелтевших писем. – Мы прочитали почти все. Кроме трех. Одно не разобрали. Два на французском. Мама сказала, что вы знаете…
– Французский? Да-да, – Кирилл Леонидович пробегал глазами строчки писем. – Но позвольте! Эти письма невозможно расшифровать без специалистов! Они слишком ветхие! Как вам это удалось?
– Это все Гений! То есть Генка, – Димка хлопнул друга по плечу. – Он у нас лучше всех специалистов соображает.
– Компьютер помог, – небрежно добавил Генка, но явное восхищение Кирилла Леонидовича льстило его тщеславию.
Хоть кто-то оценил его старания!
– Н-да, Геннадий! Поздравляю! Это победа! Просто победа! Я так не смогу. Мне придется привлекать специалистов. Но я обещаю перевести, обещаю, друзья мои. И с последним письмом тоже помогу. Знаете что! Хотите, я покажу вам коллекцию Софии Львовны?
– Где? – изумились ребята.
– Здесь, в музее. По завещанию Софии Львовны после ее смерти весь антиквариат из ее квартиры был передан в музей. Иногда мы используем эти экспонаты для оформления новых выставок, но сейчас все вещи хранятся в запасниках. Хотите посмотреть?
– Конечно, хотим!
Кирилл Леонидович длинными коридорами повел друзей в полуподвальное помещение. Генка радостно принюхивался. Женька всегда над этим смеялся и называл брата гончей, но Генка с самого раннего детства стал присваивать новым помещениям запахи.
Здесь пахло стариной, немножко нафталином, библиотекой и старыми книгами с пожелтевшими страницами и обтрепанными корешками. Генке этот запах нравился.
Правда, музейный запасник неприятно поразил его. Он был похож на свалку. Картины вперемешку с книгами, мебелью и бесчисленными пронумерованными коробками.
– Разве так можно хранить? – усомнился Генка.
– Конечно, нельзя, – вздохнул Кирилл Леонидович. – Запасник – это моя головная боль. Ничего не могу добиться от начальства. Другого помещения нет. А здесь зимой слишком холодно, летом – слишком влажно. Все это смертельно для музейных экспонатов. Тут еще и потопы бывают. Прошлой осенью прорвало отопление, и пропала великолепная коллекция табачных наклеек. Великолепная! Если бы вы только могли себе представить! – в голосе Кирилла Леонидовича звучали неподдельная горечь и душевная боль.
Мальчишки сочувственно помолчали. Интересно, какие это табачные наклейки? Ребята о таком никогда не слышали.
– Коллекцию Софии Львовны я берегу изо всех сил, – признался Кирилл Леонидович. – Не потому, что она самая ценная во всем запаснике. Просто она связана с моим детством, с моей жизнью и с Софией Львовной. Вот, поглядите-ка!
Кирилл Леонидович с трудом развернул к ребятам огромную, в рост человека, картину в золоченой раме. На картине была изображена симпатичная, улыбающаяся девушка-гимназистка в платье со строгим белым воротничком.
– Это Сонечка! – почему-то сразу выдохнул Димка.
Кирилл Леонидович улыбнулся и подтвердил:
– Да, это София Львовна. Портрет неизвестного художника начала века.
– Неизвестного? – спросил Генка. – И София Львовна никогда не говорила, кто этот портрет написал?
– Нет. Она вообще ничего не рассказывала о своей юности и о своей семье. Я только от вас, то есть из писем, узнал, что у нее был брат.
– Да. Костя. И о нем тоже ничего не известно?
– Ничего.
– Мама говорила, что картин у Софии Львовны было несколько.
– Да, но только эта представляет для вас интерес. Остальное – пейзажи. Я покажу вам их как-нибудь после, их надо разыскивать в этой свалке. А сейчас я хочу познакомить вас с коллекцией серебряных статуэток.
Кирилл Леонидович ловким движением фокусника извлек из какого-то угла большую запыленную коробку. Ребята, затаив дыхание, ждали какого-то чуда.
И чудо свершилось. В их руках засверкали десятки блестящих фигурок.
Чего там только не было: собачки, хвостатые чертики, девочки в чепчиках и кружевных панталончиках, пухленькие амуры с крылышками и стрелами. Фигуры поражали тонкостью работы, складочками и мелкими детальками.
Здесь многое сразу затмевало простенького, почерневшего от времени гусара.
– Они с секретами? – с восторгом спросил Димка.
– Нет. С секретом был только гусар. Вы открыли его рубиновое сердце?
– Нет, – ответил Генка. – Наверное, там внутри сломалась какая-то пружинка.
– Жаль. Но это дело поправимое. Я найду мастера.
– Вот и вернулся гусар к своей коллекции, – задумчиво произнес Димка.
– Ты ошибаешься, – улыбнулся Кирилл Леонидович. – Гусар к коллекции никогда не относился. Он был отдельный, особенный, даже немножко таинственный. Он очень редко покидал свою сумочку. Очень редко.
Глава III СОФИЯ ЛЬВОВНА
– Получается, что вы знаете о Софии Львовне еще меньше, чем мы? – хитро улыбнувшись, спросил Димка Кирилла Леонидовича, когда они снова вернулись в его кабинет.
– Не думаю, – Кирилл Леонидович тоже улыбнулся в ответ. – Я знаю не меньше. Пожалуй, даже больше. Только знания наши разные. Я ничего не знаю о личной жизни гимназистки Сонечки, зато могу рассказать о всей ее последующей судьбе.
– Правда? Тогда расскажите, – попросил Генка. – Знаете, я почему-то никак не могу соединить Сонечку из писем и Софию Львовну из маминого рассказа. Для меня это как будто два разных человека. Как искренняя, веселая Сонечка могла превратиться в строгую, неулыбчивую Софию Львовну?
Кирилл Леонидович покачал головой:
– Вряд ли мой рассказ поможет тебе, Гена. Для того чтобы совместить Сонечку и Софию Львовну, нужно знать ее душу, каждую мелочь в ее жизни, а я могу рассказать только о тех событиях, которые лежат на поверхности, так сказать, ее биографию, конечно, добавив что-то из ее личных рассказов мне, мальчишке. Сами понимаете, много ли доверишь несмышленышу? И много ли он запомнит, даже если рассказать?
– Давайте биографию, – согласился Димка.
– София Львовна Прозорова родилась в 1897 году… – начал Кирилл Леонидович.
Но Димка тут же перебил:
– Значит, в 1914 году ей было семнадцать лет.
– Молодец, быстро сосчитал, – усмехнулся Генка. – Так и будешь на каждом слове перебивать?
Димка смутился. Он сразу почему-то вспомнил о хороших манерах. Но Кирилл Леонидович только улыбнулся и кивнул:
– Совершенно верно, Дима. Ей было семнадцать лет, когда началась Первая мировая война. Дворянский род Прозоровых – довольно древний. Предкам Софии Львовны удалось сохранить свои богатства и даже приумножить их. Ее отец, человек прогрессивных взглядов, имел паи во Всероссийском обществе железных дорог. Конечно, все богатство было отобрано в 1917 году большевиками. Но об этом после. Сначала давайте я вам расскажу то, что знаю о ее жизни в интересующий нас период.
Десяти лет Соню отдали в женскую гимназию. В те времена женское образование уже никого не пугало и не смущало. Женщины становились и критиками, и учителями, и учеными. Конечно, Прозоров-отец хотел, чтобы его дочка получила хорошее образование. Он даже собирался определить ее в Смольный институт благородных девиц, но мать была против. Дело в том, что институт благородных девиц был закрытым учебным учреждением. Ученицы жили там же, в пансионе при Смольном женском монастыре. А мама-Прозорова представить себе не могла, как прожить без малышки-дочери целую неделю, как видеть ее только по праздникам, не знать, как она себя сегодня чувствует.
– Ну, в точности моя бабка! – снова перебил Димка. – Я сколько раз ей говорил: будешь ругаться, в интернат пойду, а она тут же: «Димочка! Что ты! Я же с ума сойду! Что ты там будешь кушать? Кто тебе рубашечку погладит? «
Кирилл Леонидович и Генка весело рассмеялись. Генка-то прекрасно знал, что Димка и сам в интернат не рвется, так только, бабке угрожает, чтобы ругань прекратить.
– Так мать и не пустила Сонечку в институт благородных девиц, – продолжил Кирилл Леонидович. – Пришлось удовольствоваться обыкновенной женской гимназией. Не обыкновенной, конечно, а самой лучшей во всем Петербурге. Гимназию она окончила уже восемнадцатилетней девушкой. Она была второй по успеваемости в классе.
– Не зря ее брат говорил о способностях, – вставил Генка.
– Да, София Львовна была очень способным человеком, даже в чем-то талантливым. В университеты женщин тогда не принимали. В середине прошлого века женщины, желающие получить образование, уезжали в европейские университеты, например в Цюрих. Но потом русское правительство запретило и такое обучение. Девушек, вернувшихся из Цюриха, обвиняли в вольнодумстве.
Лишь в 1878 году были основаны Высшие женские курсы в Петербурге. Это было не государственное учреждение. Правительство согласилось только на то, чтобы кто-нибудь из профессоров взял на себя и расходы и ответственность. Такой профессор нашелся. Им был историк Константин Бестужев-Рюмин. С тех пор Высшие женские курсы в Петербурге называли просто Бестужевскими.
Обучение было платное, но желающих учиться становилось все больше и больше. Практически поначалу девушки учились только для себя. Например, восемь классов гимназии давали право преподавать или становиться воспитателями и гувернантками. А Высшие женские курсы ничего не могли дать своим слушательницам, кроме отличных знаний. Правительство долгое время не разрешало выдавать курсисткам дипломы. Они только получали бумагу, в которой было написано, что прослушан курс лекций. Претендовать на место в науке, на ученую степень было немыслимо. Лишь в конце девятнадцатого века Высшие женские курсы добились признания, и слушательницы стали защищать дипломы.
Многие деятели культуры выступали в поддержку женского образования. Поэты, среди них были и Маяковский, и Бальмонт, устраивали поэтические вечера, сборы от которых шли на нужды женского образования. София Львовна рассказывала, как они ждали концерта молодого композитора. Этот композитор недавно окончил консерваторию «с роялем», то есть на «отлично».
– Странное выражение «с роялем», – засмеялся Генка.
– Ничего странного. Консерватория дарила своему лучшему выпускнику рояль.
– Здорово! – восхитился Димка. – Я бы, может, тоже тогда в консерваторию пошел!
– Ты нот не знаешь, – отрезал Генка.
– Ну, научился бы. Чтобы рояль в подарок получить.
– Так кто же оказался этим композитором, которого ждали курсистки? – спросил Генка.
– Им был Прокофьев.
К 1915 году женские курсы были во многих городах России, но Бестужевские оставались лучшими. Там преподавали профессора университета, и немного измененная система обучения давала свои фантастические плоды – уровень знаний курсисток вначале был на уровне университета, а потом стал гораздо выше. Бестужевские курсы к тому времени располагались на Васильевском острове, имели прекрасные лаборатории, оснащенную обсерваторию и даже свой музей изящных искусств.
Сонечка, всегда любившая живопись, поступила на факультет теории и истории искусства, готовивший превосходных музейных работников.
– Музейных? – переспросил Димка.
– Да-да, – улыбнулся Кирилл Леонидович. – У Софии Львовны была та же профессия, что и у меня. Для того чтобы поступить на курсы, ей пришлось сдать не только выпускные экзамены в женской гимназии, но и получить аттестат в мужской, потому что это давало лишние баллы на конкурсе аттестатов. Окончивших только женскую гимназию принимали на курсы в последнюю очередь. Еще в те годы для поступления требовались свидетельство о политической благонадежности и разрешение родителей.
– Разрешение родителей? – удивился Генка. – В восемнадцать лет?
– Восемнадцать лет – это совсем немного, – засмеялся Кирилл Леонидович. – Человеку в восемнадцать лет только кажется, что он взрослый.
Генка не стал возражать. Он и в четырнадцать себя взрослым считает, а в восемнадцать… В восемнадцать он уже жениться может! Вон как брат Женька…
– София Львовна блестяще окончила Бестужевские курсы, но время было уже революционное, началась Гражданская война. У Прозоровых отобрали дома, дачу, имущество. Я не знаю, почему они не эмигрировали. Наверное, остаться в Советской России решил отец. Он всегда приветствовал новые веяния. А потом, в середине двадцатых годов, друг за другом умерли Сонины родители.
София Львовна к тому времени уже работала научным сотрудником в музее живописи.
В последующие годы ока очень быстро двигалась по служебной лестнице и стала директором музея. В годы войны она отказалась выехать в эвакуацию и пережила всю ленинградскую блокаду. Лишь по выходе на пенсию она покинула Ленинград и поселилась в нашем городе. Не знаю почему. Она никогда не говорила об этом, только отшучивалась: «Захотелось тишины на старости лет». Ну, а дальше вы все знаете. Один из ее учеников перед вами.
– И у нее никогда не было семьи, детей? – спросил Генка.
– Нет. Ни семьи, ни детей. Она была одна. Это одиночество, наверное, угнетало ее. Может, поэтому она старалась окружить себя учениками. Может, поэтому страстно увлекалась коллекционированием. Но она никогда, ни одним словом не дала повода пожалеть себя. Она всегда высоко держала голову и до последнего дня не давала старости согнуть ее безупречную осанку. Она умерла давно, я едва поступил в университет, даже не успел ей похвастаться, как блестяще сдал французский на вступительных экзаменах… – Кирилл Леонидович задумался, помолчал, потом встряхнулся и закончил: – Вот и все, что я знаю о жизни Софии Львовны Прозоровой.
* * *
Письмо девятое
«Ма chere Sophie!
Пишу Вам по-французски, потому что временами кажется, что я забыл все, что когда-то знал, и помню только артиллерийские хитрости и искажение прицела на втором орудии. Здесь на французском говорить некогда, да и не с кем.
Вряд ли солдаты из моего расчета поймут хоть слово. Ближайший офицер – тоже из солдат, выслужился.
По-французски понимает только Никита Шиляев, вольноопределяющийся. Он, как Костя, учился в университете, а потом в первые же дни войны попросился на фронт.
Я с ним дружу и на привалах часто беседую. Сразу вспоминаю Костю. Шиляев на него очень похож.
Как здоровье Кости? Надеюсь, что поправляется.
Когда поправится, пусть черкнет мне хоть пару строк, вспомнит друга.
Сонечка, не знаю, как приступить к тому, что я намерен сейчас написать. Наверное, если бы Вы были сейчас рядом, если бы я видел Ваши глаза, было бы легче.
Сонечка, я люблю Вас! Наверное, Вы всегда знали и чувствовали это, но я никогда не осмеливался произнести.
Вместе с этим письмом к Вам я отправлю письмо Вашему отцу и попрошу Вашей руки. Верю, что он не откажет.
Сонечка! Пусть только закончится эта война!
Я вернусь, выйду в отставку, и мы будем жить с Вами тихо и мирно.
Костя был прав, военная служба не для меня. У меня не хватает душевных сил выдерживать столько крови и страдания, каждый день терять друзей и знакомых.
За этот месяц в моем расчете сменилось семь солдат. Трое ранены и четверо убиты.
Меня Бог милует. Но надолго ли? Я молю Его сейчас об одном – уцелеть, довоевать, вернуться, увидеть Вас.
Соня! Не считайте меня трусом. Я знаю, что Вы так не считаете, но все-таки еще раз прошу об этом.
За недавнюю боевую операцию мне обещали отпуск. Как было бы хорошо, если бы я смог вырваться из этого ада хоть на недельку! Я хотел бы приехать в Петербург и обручиться с Вами.
А пока я покупаю подарки. Не смейтесь, Сонечка! Здесь тоже можно купить подарки.
Мне встретился поляк, прекрасный мастер-самоучка, ювелир. Я уговорил его продать мне серебряного гусара.
Ах, Сонечка, это прелесть! Я знаю, что Вам гусар понравится. Это тончайшая работа.
Как поляку удалось так ловко вставить в фигурку тайную пружинку? Если потянуть за сабельку, то откроется гусарское сердце – рубин, алый, как капелька крови.
Я привезу его Вам и подарю вместе со своим сердцем, не рубиновым, а жарким и любящим Вас.
Позвольте хотя бы в мечтах прикоснуться губами к Вашей руке.
Надеюсь на скорую встречу.
Ваш Николай.
1 октября 1914 года».