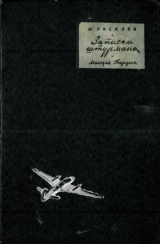
Текст книги "Записки штурмана"
Автор книги: Марина Раскова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Трактор протянул наш самолет в конец аэродрома, оттуда должен был начинаться взлет. Вслед за самолетом вереницей потянулись машины, бежали корреспонденты, и все провожавшие перебрались к месту старта. Валя скомандовала:
– В самолет!
Я забралась по лесенке в свою кабину. Борттехник Макаров проверял, хорошо ли я закрыла люк в полу, заставил меня потанцовать на нем, чтобы убедиться, что люк плотно захлопнулся. Я осталась в кабине. Михаил Моисеевич и товарищ Локтионов заглядывали в окошко и спрашивали, как я себя чувствую. Раздалась команда: «Запускай моторы». Оба мотора четко заработали. Валя подает знак: «Убрать колодки». Мы увидели, как люди отходят и площадка очищается. Валя по телефону спросила Полину, готова ли она. Потом переключила телефон и проверила мою готовность. После этого она дала полный газ, машина побежала и вскоре легко оторвалась от земли. С такой большой нагрузкой она взлетала впервые.
Мы развернулись на курс 90° и полетели на восток.
В КАБИНЕ ШТУРМАНА
На душе было очень радостно. Жизнь в самолете несколько омрачалась лишь тем, что стены кабин отделяли нас друг от друга. Это был конструктивный недостаток самолета. С Валей меня связывало маленькое окошечко, через которое можно было просунуть лишь кисть руки. Полина сидела еще дальше Вали, я переписывалась с ней по пневматической почте. Записку на тонкой бумаге закладывала в металлический патрон; патрон помещался в алюминиевую трубу, я закрывала отверстие и накачивала мех. Качала до тех пор, пока у меня на борту не зажигалась лампочка. Это был сигнал о том, что почта дошла до Полины.
Внутри моей кабины все было сделано очень удобно. На левом борту, за моей спиной, был расположен радиопередатчик. Тоже слева, но ближе ко мне стоял приемник, всеволновый супергетеродин. Такой же резервный приемник стоял справа. Прямо за спинкой моего сиденья был укреплен большой «самовар», наполненный жидким кислородом. Кислород мог понадобиться нам на большой высоте. Под кислородным баллоном и под сиденьем были расположены три умформера[5], питавшие мою приемно-передающую радиостанцию. Справа, перед резервным приемником, – откидной столик. На этом столике – радиоключ. Немного выше, на правом борту, расположилась приборная доска с показателем скорости, высотомером, часами, термометром. Еще дальше по правому борту – приспособление для хранения секстанта – изящный запирающийся футляр, со специальным устройством для ночного освещения. Немного выше, по этому же борту, располагались еще два прибора – «наяды» – счетчики расхода горючего.
За «наядами» начиналась стеклянная носовая часть кабины. Все приборы были размещены так, чтобы не загораживать остекленной носовой части, дающей прекрасный обзор вперед. На левом борту, у стеклянного носа, был укреплен радиокомпас. Под ним находился мой парашют. В полете я его на себя не надевала, чтобы он не мешал работать. На левом же борту был оптический визир, с помощью которого я могла измерять углы сноса. Около сиденья, внизу, была сделана очень удобная сумка, В ней хранились карты, планшеты, счетные инструменты. В другой сумке – радиоинструмент, запасные предохранители. Проволоку я спрятала в карман брюк.
В полу кабины, прямо под ногами, был закрытый люк, через который я залезала в самолет. Сквозь отверстие в люке я могла наблюдать в свой визир. Прямо впереди люка стояли еще три умформера – два по правому борту, один по левому. Передняя часть пола была из стекла. Это еще больше расширяло обзор. Заботливые инженеры, оборудовавшие самолет, приспособили для пола мягкую подушку, чтобы в случае надобности штурман мог во весь рост растянуться на полу.
Отлетая от Москвы, я думала применять самые простейшие способы навигации. Я хотела измерить ветер и по нему рассчитать курс. Чтобы не тратить времени на промер ветра по трем углам сноса, я решила пролететь километров пятьдесят и тогда уточнить ветер по боковому уклонению и путевой скорости. Но уже через пятьдесят километров полета облака закрыли землю. Пришлось быстро переключаться на радиокомпас. Я настроила его на радиомаяки, и полет продолжался вслепую. Лишь изредка в разрывах облаков появлялась земля. Но это были какие-то крошечные клочки, по которым никак нельзя ориентироваться. Ориентируясь по радиокомпасу, я через каждый час сообщала на землю, в каком месте нахожусь.
Полина первая начала со мной переписку по внутренней почте.
Она шутит: передает записку, что приступила к исполнению задания «Правды», начала вести дневник. У нее в кабине все очень хорошо, не дует, но на всякий случай коленки обернула газетой. Валя сидит веселая и улыбающаяся, через отверстие кабины видна часть ее лица.
Все хорошо, вот только земли не видно.
От аэродрома мы отошли в 8 часов 16 минут. Теперь на моих часах 13 часов по московскому времени. Стрелка высотомера показывает 3 850 метров. Снаружи температура – минус 3°. По моим расчетам, через двадцать минут должен быть Свердловск. Все еще летим за облаками.
Время приближалось к 16 часам. Темноту надо ожидать в 16 часов 15 минут: ведь мы летим на восток, – темнота будет нас встречать всюду раньше, чем она наступает в Москве.
Радиомаяки показывали, что мы летим правильно – на Омск, но мне не верилось: ведь за целый день я ни разу не видела земли.
Знаю, что скоро наступит ночь.
Начала просить Валю:
– Валечка, дай хоть чуточку взглянуть на землю, потеряй хоть немножко высоту.
А высота была более 4 500 метров. Летим без кислородных масок. В кабине еще тепло, можно свободно есть. Но есть мне не хотелось. Я снова прошу:
– Валечка, давай снизимся, посмотрим землю. По моим расчетам, мы должны быть в 16 часов около Омска. Потеряем высоту немножко и опять заберемся наверх.
Но Валя была неумолима. Снизиться – значит потерять какое-то количество горючего для набора высоты. Запасы горючего рассчитаны на определенную высоту – на ней и будем лететь.
Наконец, в 16 часов 05 минут на высоте 4 000 метров в разрывах облачности мелькнула серебристая полоска реки. Это был Иртыш. Я точно определила место, где нахожусь.
Судя по времени и по скорости полета, это не могла быть никакая другая река, кроме Иртыша. Я узнала ее очертания на карте. Пишу Вале:
– Можешь набирать высоту, какую тебе угодно, я определилась.
Быстро наступает темнота. С нетерпением жду ночи. Штурману ночь приносит радость. Ночью очень хорошо и точно можно определить местоположение по звездам. Если понаблюдать две какие-нибудь звезды, – скажем, Полярную и Вегу, или Капеллу, – то можно точно установить свои координаты.
17 часов 34 минуты. Впервые в темноте отчетливо вижу звезды. Измеряю высоту Полярной и Веги. Для этого открываю в потолке люк и высовываюсь из него с секстантом в руках. са влево.
Впереди Красноярск – хороший ориентир. Город сейчас, наверное, освещен яркими огнями. По расчету Красноярск должен быть в 20 часов 10 минут. Но его скрывает от нас толстый слой облачности. Вскоре и звезды пропадают в облаках. Машину ведет Валя. Она взяла штурвал у Полины, которая пилотировала до этого шесть часов.
Здесь я замечаю, что кабина начинает покрываться тонкой коркой льда. Думаю: если обледеневает моя кабина, то такой же коркой покрываются и плоскости и весь самолет. Нашим моторам нехватит мощности, чтобы держать в воздухе обледеневший самолет. Ледяная нагрузка потянет нас к земле. Сигнализирую Вале запиской: «Начинается обледенение».
Температура – минус 7°. Обледенение при такой температуре опасно. В самолете темно. Потолочного огня не зажигаю, иначе ничего не будет видно за бортом. Мне мешает зеленая лампочка на приборной доске. Лампочка показывает, что работает машина, питающая мою радиостанцию. Я рада, что эта машина работает, но зеленая лампочка мешает наблюдать.
Валя принимает правильное решение. Она начинает набирать высоту. Стрелка высотомера лезет за 5 000 метров. Обледенение прекращается. Стекла кабины становятся прозрачными, иголочки льда опадают, и я снова вижу все сквозь стекла кабины. Но машину начинает сильно трепать. Очевидно, мы попали в кучевые образования холодного шквалистого фронта. Машину резко бросает. Как трудно в темноте бороться с болтанкой!
Валя продолжает набирать высоту: 6 000 метров, 6 500. У меня на борту загорается лампочка – это значит, что Полина желает со мной разговаривать. Получаю записку: «Что случилось с Валей, чего ее несет на такую высоту?» Отвечаю коротко: «Обледенение».
Мы забрались высоко, но и отсюда звезд не видно…
Уже пора быть Красноярску. Земли нет. Прошу Валю набирать высоту до тех пор, пока покажутся звезды.
Только, когда стрелка высотомера подошла к делению 7 450, сквозь облачность показались звезды… В 20 часов 21 минуту я смогла, наконец, определить место, где мы находимся. Открыла люк в потолке. Струя холодного воздуха ударила в лицо. На мне кислородная маска. Очень холодно, но все же мне удалось произвести наблюдения. Мы находились
ШАЛОСТИ РАДИО
Все время передаю в Москву, где нахожусь. Москва меня слышит, и я тоже отчетливо принимаю московскую станцию. Начальник главной аэрометеорологической станции Альтовский передает погоду, я принимаю. Определив в 20 часов 21 минуту, что недавно пролетели Красноярск, я обращаюсь к радио.
Включаю передатчик.
Нажимаю ключ.
На ключе должна загореться лампочка.
Она не горит.
В темноте мне трудно разобраться, в чем дело.
Решаю, что это перегорела сигнальная лампочка, и в темноте выстукиваю радиограмму:
вестна. Сообщите погоду районе Душкачана. Раскова».
Эту радиограмму отстукиваю дважды.
Затем, переключившись на прием, десять минут ожидаю ответа.
Приемник упорно молчит.
Даже не загорается лампочка, освещавшая шкалу приемника.
Слышит ли меня Москва?
Включаю радиокомпас. Он тоже молчит.
Не слышно и мощной красноярской радиостанции.
В эфире наступила тишина.
Ясно, что радиостанция, приемник и передатчик не в порядке. Начинаю сомневаться, слышала ли меня Москва. Но что можно поделать в темноте? Примиряюсь с мыслью лететь так до рассвета, часа четыре без радиосвязи. Скучновато, но что поделаешь!
Радиомаяков не слыхать, остается только астрономия.
Холодно на высоте. Достаю карманный фонарик и освещаю наружный термометр: минус 34°. Когда луч фонаря осветил стекла, я увидела, что они изнутри покрыты тонким ледяным узором, как в хорошо натопленной избе в морозный день. Зажигаю плафон. Вокруг меня в кабине лед и иней. Я сама, как дед-мороз, покрыта инеем. Правда, обледенение изнутри не опасно, потому что внутри кабины не может образоваться такой мощный слой льда, как снаружи. Но для порядка сообщаю командиру корабля, что моя кабина обледеневает изнутри.
Валя передает, что внизу мелькнула речка, но я речки не вижу. Стекла замерзли.
Что, если мне свою кабину охладить до наружной температуры? Тогда, наверное, стекла отойдут и можно будет хоть что-нибудь видеть сквозь них.
Открываю верхний и малый нижний люки. В кабину врывается резкая струя холодного воздуха. Кабина охлаждается до минус 33°. Стекла на время проясняются. Но что толку? Я снова вижу только облачность. Вот блеснула полоска земли и снова исчезла. Радио не работает. Дышу кислородом. Хочется есть.
На высоте резко повысилась скорость. По моим подсчетам, мы идем со скоростью 310 километров в час.
Значит, Душкачан пройдем в темноте? А как я надеялась на него! Ведь это тот самый пункт на северной оконечности Байкала, где, по указанию товарища Сталина, специально для нашего перелета был установлен радиомаяк… Я ждала Душкачана с нетерпением, какое испытывает, наверное, моряк дальнего плавания, когда он приближается к берегу. Думала, вот будет Душкачан, и там я уточню свое место. Теперь я вижу, что Душкачан пройдем в темноте, так как скорость наша увеличилась из-за высоты. Мой радиокомпас и приемник не работают, и душкачанский маяк, такой нужный, ничем не может быть нам полезен. Остается, пока не наступил рассвет, скорее определить еще раз свое место по звездам.
23 часа 36 минут. Определяю, что нахожусь уже на траверзе Душкачана, в 30 километрах севернее его. Значит, над Байкалом пролетаем в темноте. Вот здесь под нами, где-то вправо от самолета, красивое большое озеро, тем более обидно, что его не видать.
Принесет ли рассвет что-нибудь утешительное? Еще несколько часов назад я ждала наступления темноты и появления звезд на небе; теперь с таким же нетерпением жду первых проблесков рассвета… Вот рассветет, тогда уж я, конечно, определюсь, увижу землю и попью горячего чайку.
Через полчаса наступает рассвет. Байкал остался далеко позади. Сейчас в Москве полночь. Дома еще не спят, мама за последнее время привыкла поздно ложиться. По ярко освещенным улицам москвичи возвращаются сейчас домой из театров, клубов, кино. А мы уже встречаем утро следующего дня…
…Радио, почему радио не работает? Уже четыре часа Москва не получает от нас никаких известий…
При первых же лучах рассвета я вижу, что стекла кабины покрыты изнутри толстым слоем льда. Хотя в кабине температура минус 36°, а снаружи минус 37°, стекла все же заледенели и стали непроницаемы. Мои резервные умформеры тоже покрылись льдом. Сосульки свисают с них на пол. Значит, умформеры замерзли. Теперь уж ясно: до самого конца перелета, до тех пор, пока не сядем, будем отрезаны от всего мира.
Первые лучи солнца осветили землю. Скалываю ножом лед с окон кабины. Глазам раскрылось величественное зрелище пробуждающейся земли. Где-то близко под самолетом лежат гребни гор, покрытые снежной шапкой. Восходящее солнце бросает свои лучи на снежные вершины. Глазам больно смотреть на яркую белизну. Под нами горная цепь.
Мне этот красивый вид не принес утешения. Внизу, в глубоком ущелье, куда не проникли лучи солнца, лежит густой низкий туман. Он скрывает от штурманских глаз нанесенные на карту реки, по которым штурман мог бы ориентироваться. Снова слепой полет. Живописные снежные вершины ровно ничего не говорят: горы, да и только. Таких гор в Забайкалье сколько угодно…
Валя написала мне веселую записку: «Через шестнадцать часов полета, наконец, мы имеем детальную ориентировку». Я отвечаю ей: «Пускай так детально ориентируется Альтовский с его погодой!»
Посмеялись.
Но это был невеселый смех. Нам предстояло изменить свой курс на 30° вправо, чтобы выйти к железнодорожной магистрали Чита – Хабаровск, на станцию Рухлово.
Советуюсь с Валей. Ведь от станции Рухлово всего 20—30 километров до государственной границы. Граница идет по Амуру. Амур делает у станции Рухлово резкий поворот, а мы будем подходить прямо перпендикулярно границе. Хорошо, если будет видно землю и Амур. Тогда, конечно, нет опасности перелететь границу. Но похоже, что земля будет закрыта туманом и облачностью. Амура мы не увидим, а мудрено ли в слепом полете ошибиться на 20—30 километров? Очутишься по ту сторону границы – вот и конфликт…
Советуемся с Валей и принимаем решение: к границе не приближаться, продолжать лететь строго на восток, рассчитывая выйти на Охотское море. Валя со мной согласна. Машина летит на восток. Наступают очень напряженные минуты.
Мы стараемся различить какую-нибудь речку. Иногда вдруг мелькнет в ущелье гор кусочек воды. Удалось увидеть реку Олекму. На душе становится веселее.
Солнце поднялось высоко. Я пользуюсь солнцем для астрономических наблюдений, но сомнеровы линии[6] ложатся так же, как и река Олекма, перпендикулярно нашему маршруту и показывают только дальность, – без боковых отклонений.
Снова пробую радио, но безрезультатно. Приемник и передатчик бездействуют. Сколола лед с умформеров, но все равно приемник и передатчик молчат. Мы непрерывно переписываемся с Валей. Исписали все изящные блокноты, использованные таблицы. Я принялась уже исписывать кусочки карты с обозначением мест, которые мы пролетели. Записки летят от Вали ко мне, от меня к Вале. Она советуется, обсуждает со мной каждое решение. Бедная Полина! Она сидит сзади и тщетно вызывает штурмана всеми сигнальными лампочками. Но штурман прикован к стеклам своей кабины и не замечает этого. Полина думает, что штурман умер… Она пишет записку Вале Гризодубовой. Полина обижается, но мы не виноваты. Не остается ни одной минуты на разговоры, кроме абсолютно необходимых.
6 часов по московскому времени. По моим расчетам, через полчаса Охотское море. Откровенно говоря, мне очень скучно. Я знаю, что могла уклониться севернее, туда, где Охотское море глубже вдается в сушу. К тому же мог быть попутный ветерок, которого не удалось измерить, потому что штурман не видел землю.
Солнце закрыто облаками. Они выше нас, хотя наша высота попрежнему – 7 000 метров.
Может быть, уже сейчас под нами воды Охотского моря?.. Становится жутко. Машина на колесах. Вспоминаются рассказы летчиков о бурном Охотском море. Вот так, в сплошном слепом полете, мы вылетим в Охотское море. Что тогда?
Не пора ли снижаться? Но, может быть, ветер был встречный и нам еще не полчаса, а целый час лететь до Охотского моря? В таком случае мы находимся над горными хребтами. Начнешь снижаться и «вмажешь» в гору. Скучно оказаться погребенными в этих глухих местах. Даже и не узнают, где мы разбились…
Еще раз пытаюсь привести в чувство радиостанцию. Нужно отогреть умформеры. Основные умформеры находятся глубоко под сиденьем, к ним не подлезть. Остается надежда на резервные, стоящие впереди меня. Снимаю с правой ноги меховую унту, закрываю ею умформер передатчика, а маленькой унтешкой – умформер приемника. Начинаю осторожно включать пусковой ток. Пусковой ток прогреет умформер, а унты будут сохранять полученное таким образом тепло. Включаю пусковой ток то на прием, то на передачу. Но приемник и передатчик молчат. В 6 часов 20 минут загорается лампочка на передатчике. Я хватаюсь за ключ и выстукиваю:
– Я УГР! Срочно пеленгуйте, сообщите мое место.
Рассчитываю, что Хабаровск запеленгует меня и передаст по радио, в каком направлении от него я нахожусь. Если Хабаровск узнает, что я вылетела в Охотское море или еще нахожусь над горными хребтами, он мне об этом сообщит.
Вот заработал и приемник. Сначала я слышу, как, надрываясь, зовет Москва:
– УГР! УГР! Немедленно отвечайте! УГР! УГР! Немедленно отвечайте!
Вызывают меня непрерывно.
Внезапно передатчик Москвы замолк. Наверное, там приняли мою радиограмму.
Через несколько секунд я слышу из Москвы:
– Репете! Повторите!
Снова выстукиваю свою радиограмму и снова слышу:
– Репете!
Несколько раз подряд выстукиваю свою радиограмму. А Москва все твердит:
– Повторите! Повторите!
Я повторяю одну и ту же радиограмму вот уже тридцать пять минут. Мне кажется, что Москва не слышит меня из-за того, что мы слишком далеко от нее находимся. Пробую вызывать Хабаровск. Но ручка настройки моего приемника примерзла, и я никак не могу перестроиться на Хабаровск. Очевидно, так уже суждено – до конца быть связанной с московской станцией…
ПРЫЖОК
Продолжаю выстукивать радиограмму.
Внезапно Валя резко встряхивает машину. По обычаю летчиков, немедленно смотрю вниз, и вижу, что туман оборвался резкой стеной. Подо мной не земля, а Охотское море. Но, к своей большой радости, я вижу справа берег. Почти автоматически выключаю передатчик, пустив в эфир только одно слово:
– Ждите!
Высота – 7 000 метров. Вертикально вниз видно хорошо, вперед – не видать ничего. Быстро беру карту и начинаю сличать очертания берега Охотского моря с картой. К счастью, это очень характерное место, я отчетливо распознаю южную оконечность Тугурского залива Охотского моря..
Я сообщаю Вале, что мы находимся над Тугурским заливом, что задание партии и правительства мы выполнили, мы прилетели на Дальний Восток.
Теперь можно подумать и о посадке. У меня невольно напрашивается решение вести самолет на посадку в Николаевск на Амуре. Это всего какой-нибудь час полета. Но Валя подходит к этому строже. Она считает, что в Николаевске на Амуре плохой аэродром, что гораздо лучший аэродром в Комсомольске, и хотя до Комсомольска около 500 километров, но горючего у нас достаточно. Берем курс прямо на юг с расчетом выйти на реку Амур.
Составляю новую радиограмму для Москвы:
«6 часов 57 минут. Тугурский залив. Высота 7 000 метров. Иду курсом Амур. Думаю делать посадку Комсомольске».
Радиограмма закодирована. Я включаю передатчик. Перегорает предохранитель. Я быстро меняю его. Снова включаю передатчик. Сгорает второй. Так повторяется шесть раз.
Очевидно, прогретый умформер, когда я его выключила, снова остудился, и образовавшиеся при этом из паров водяные капли намочили обмотку умформера. В результате короткое замыкание. Как грустно, что не могу сообщить Москве о замечательном состоянии экипажа самолета «Родина». Как жаль, что нельзя сейчас же передать в Москву, что три советские женщины в одни сутки долетели до самых дальних границ своей родины.
Сейчас снова летит Полина. Идем строго на юг.
8 часов 02 минуты. Под нами мелькает река. Это Амур.
Еще раз советуюсь с Валей, вести ли самолет по Амуру на Комсомольск. Валя не меняет прежнего решения. Счетчики показывают, что горючего хватит еще на три с половиной часа.
Вот разветвляются две реки: они мелькают в дымке вертикально под нашим самолетом. Снижаемся до 6 000 метров. По какой из рек итти? Амур в этом месте имеет множество рукавов и ответвлений. Но по левому рукаву итти нельзя, он закрыт туманом, правое же ответвление видно отлично. Идем вдоль него. Вскоре становится очевидным, что это Амгунь. Решаем итти по Амгуни, и вдоль края облачности пробиваться в Комсомольск.
10 часов 00 минут по московскому времени. У Вали в кабине загорается красная лампочка. Это сигнал: кончилось горючее. Начинается расходование последнего бачка, в котором драгоценной смеси вряд ли хватит на полчаса. Долетели до очень красивого озера Эйворон. Недалеко от него виднеется озеро Чигчигирское. Теперь нужно итти прямо курсом на юг. До Комсомольска остается 150 километров. В 10 часов 20 минут горючее окончилось совсем. Моторы (начинают давать перебои. Валя переключает по очереди все баки. Моторы подают последние признаки жизни и замирают.
Какой уж там Комсомольск. Мы не дотянем. Хорошо, если бы удалось хоть где-нибудь сесть вообще. Под нами дикие сопки, покрытые лесом. Здесь не сядешь…
Возвращаемся обратно к озерам, туда, где видели болотистые мари.
Теряем высоту.
Валя пишет мне записку: «Готовься к прыжку». Я отвечаю ей, тоже запиской, что прыгать не хочется, хочу остаться в самолете, что я выбрала себе укромное местечко – сзади у кислородного баллона, буду стоять там очень «смирно и ничего со мной не случится. Валя отвечает: «Если машина станет на нос, у нас с Полиной даже нехватит силы извлечь тебя из твоей кабины. Готовься к прыжку, не задерживай нас».
Я рассердилась на Валю, показала ей кулак. Но делать нечего, приказ командира есть приказ.
Начинаю быстро собирать все разложенные по моей обширной кабине карты, расчеты, линейки. Складываю все это в бортовую сумку, секстант прячу в чехол. Ведь, когда я буду прыгать, откроется люк, и тогда все мое имущество может вывалиться из самолета и пропасть.
Убрав кабину, надеваю парашют, проверяю, есть ли со мной компас, нож, оружие.
На борту лежат две плитки шоколада, которые должны были поддерживать мои силы в полете. Кладу их в карман брюк. Пробую надеть аварийный мешок с продуктами, но он очень тяжел. Пожалуй, скорость приземления с ним будет слишком велика, погрузишься в болото и не вылезешь.
Впервые я прыгаю с боевым парашютом. Площадь боевого парашюта меньше, чем площадь тех парашютов, на которых я совершала два своих первых прыжка. Тогда я прыгала на большом тренировочном парашюте, прозапас у меня был еще один парашют. Сейчас – всего один маленький. Отказываюсь от мешка с продуктами.
Открываю пол кабины.
Машинально бросаю взгляд на часы и высотомер. Высота 2 300 метров. Часы показывают 10 часов 32 минуты. Я отделяюсь.
В ТАЙГЕ
25 сентября.
Отделилась от самолета. Сразу почувствовала, что высота великовата. Решила немного затянуть прыжок. Не раскрывая парашюта, падаю вниз, как брошенный камень. Скорость падения увеличивается, становится все тяжелее дышать. Дергаю кольцо, парашют раскрывается. Раньше я падала вниз головой, а сейчас положение нормальное, я преспокойно сижу на лямках подвесной системы парашюта. На груди болтается компас. Ориентируюсь по нему, в каком направлении у меня река, в каком – озера, замечаю сверху, как располагаются косяки леса. В этом месте лесной массив разделяется болотными марями. Стараюсь запомнить направление марей относительно реки. К сожалению, у меня нет под рукой ни карандаша, ни бумаги, и я не могу набросать схему лесных массивов и болот. Сначала думаю, как тяжело будет опускаться в болотную трясину; ведь, приземлившись в болото, я могу уйти в почву по пояс… Как поступить в этом случае?
Но мои размышления быстро прерываются. Замечаю, что нахожусь уже у края болота и что ветром меня тащит прямо на лесной массив. Начинаю скользить. Подтягиваю стропы парашюта, складываю его почти пополам, чтобы уменьшить площадь купола и тем самым увеличить скорость своего падения. Тогда, наверное, снос замедлится, и, может быть, меня не унесет ветром на лес. Но ветер сильно болтает парашют. Меня раскачивает, как на качелях. Разворачиваюсь против ветра. Вот уже близко земля. Подо мной лес. Успеваю заметить, что лес расположен не на ровной местности, а на сопке. Тут я складываю свой компас и прячу его за борт кожаной куртки. Думаю о том, как мне подходить к земле.
Приближение к земле ощущается гораздо быстрее. Кажется, что она быстро идет на тебя. Вижу, что в лесу среди деревьев есть маленькие прогалинки. Там деревья реже. Скольжу с расчетом приземлиться на одну из прогалинок. Но, не дотянув до нее, чувствую, что прямо на меня идут густые кроны сосен. Скучно: придется сесть на деревья. Обычно парашютист подходит к земле на полусогнутых ногах, – полусогнутые ноги создают амортизацию и ослабляют удар о землю. Тут, наоборот, я вытянула крепко сжатые ноги и, сложив руки накрест, закрыла ими лицо, – лицо у меня единственное открытое место. В этот момент почувствовала незначительный толчок. Иглы царапнулись, зашелестели по моему кожаному обмундированию.
Меня с силой рвануло, падение прекратилось. Чувствую, что ударилась боком о ствол сосны. Открыла лицо. Стропы моего парашюта начали накручиваться на ствол, как канаты гигантских шагов. При каждом обороте парашютных строп вокруг сосны меня толкает боком о ствол. Посмотрела наверх. Купол парашюта покрыл собой всю крону. Я целиком подвешена на шелку. Но ведь шелк недолговечен, вот-вот мой купол разорвется о ветви сосны. Улучаю удобный момент и ногами обвиваю ствол. Сразу прекращаются толчки о дерево.
С минуту отдыхаю в таком положении. Держусь руками и ногами за ствол. Осмотрелась кругом. Высота – метров пять. Подо мной земля, густо заросшая кустарником и травой. Нужно отцепиться от парашюта. Пробую отстегнуть подвесную систему, но это мне не удается: подвесная система сильно натянута – я вишу на ней всей своей тяжестью. Вынимаю из кармана нож, немного подтягиваюсь повыше по стволу и перерезаю стропы. Стропы сразу повисли, как бахрома у карусели. Освобожденная от своего парашюта, я спускаюсь по стволу сосны.
Ступив на землю, глубоко вздыхаю и говорю вслух: «Земля». Только теперь чувствую, что я вся в поту в своем меховом обмундировании. Меня окружает густой, непроходимый лес. Нигде не видно просвета… Я одна.
В это время над моей головой пролетает самолет «Родина». Он летит низко над лесом. Очевидно, мои девушки ищут место, где я приземлилась. Мотор не работает, только слышна сирена, которая гудит на самолете в знак того, что надо выпускать шасси. Но Вале и Полине вовсе не нужно выпускать шасси. Эта чудесная музыка будет сопровождать их до самой посадки. Вот самолет скрывается за лесом, наступает полная тишина. Я жду, не услышу ли какого-нибудь треска при посадке. Все тихо.
Темнота наступит примерно через час. Я начинаю беспокоиться. Как приземлились мои девушки? Целы ли они? Цела ли машина? Жду выстрела. Еще в Москве мы условились, что в случае вынужденной посадки стрелять будут там, где двое, чтобы третья могла итти на этот выстрел.
Выстрела все нет. Темнота сгущается. Чутко прислушиваюсь. В лесу – ни единого шороха. Только в ушах раздаются еще привычные звуки – кажется, что все еще слышишь сигналы Морзе.
Пробую закрыть глаза, но все равно в ушах отчетливо звучат позывные первой радиограммы, полученной мною на самолете: УГР, де, – РБР, НР-1.
На землю спускается тьма. Появляются первые звезды в восточной стороне неба. Запад еще светится слабыми отблесками зашедшего солнца. В это время отчетливо слышу звук выстрела. Значит, девушки живы.
Мгновенно вынимаю компас и отмечаю направление на выстрел: юго-восток. Чтобы не забыть, записываю на обложке от плитки шоколада: «зюйд-ост».
Очень хочется пить. С грустью вспоминаю, что на самолете остались два термоса, полные крепкого горячего чаю без сахара с лимоном. Недурно было бы сейчас выпить чашечку горячего чаю. Осматриваюсь вокруг. В темноте едва различаю ближние кусты. Воды нет никакой.
Проверяю свое небольшое хозяйство: охотничий нож-финка с пилочкой, отверткой и шилом, револьвер, 18 патронов, коробка арктических спичек, – из тех, которые дал нам перед отлетом Иван Дмитриевич Папанин, компас и две плитки шоколада. На мне поверх шелкового – егерское белье, кожаная куртка на меху, меховые брюки, унты, теплый кожаный шлем, на руках – шерстяные перчатки.
Съедаю кусочек шоколада. Ложусь на сухую таежную землю и сразу крепко засыпаю. Все хорошо, подруги живы. Завтра утром пойду к самолету.
26 сентября.
Крепко проспала до рассвета. Осматриваю местность. Кругом густой лес. Сквозь высокие деревья пробивается рассеянный свет. Роса.
Нужно двигаться в путь.
Еще раз проверяю курс, который вчера засекла по компасу. Иду. Меховые брюки, куртка, унты, шлем – все это цепляется за ветви деревьев. С большим трудом протаскиваю себя сквозь густые заросли. Кажется, никогда я не была такой малоподвижной. Хочется пить. Пробую лизать росу с листьев. Но какое это питье? Только смочишь губы, а в рот ничего не попадает. Тайга заросла высокой, деревянистой, совершенно сухой травой. Где взять влаги?
Полдень. Нахожу первую воду. Под корнями подгнившего дерева маленький водоем. Поразительно чистая вода. Опускаю туда руку – холодная. Пробую на вкус – ничего, можно пить. Только немножечко пахнет травой. Ну что ж, напьемся. Пью жадно и много, черпая воду ладонями. Снова двигаюсь дальше.
Справа от меня – высокая сопка. Через нее трудно будет перевалить в моем тяжелом обмундировании. Принимаю решение: немного уклониться от своего первоначального курса и обойти сопку слева.






