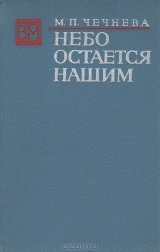
Текст книги "Небо остается нашим"
Автор книги: Марина Чечнева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Активные действия авиации с обеих сторон с самого начала приняли форму напряженной борьбы за господство в воздухе, в которой ежедневно участвовало несколько сотен самолетов. На узком участке фронта, не превышавшем 40-50 километров, в отдельные дни происходило до 100 воздушных боев.
Не считаясь с потерями, гитлеровцы вводили в бой все новые силы. Но советские летчики крепко удерживали инициативу в своих руках и стали в конце концов полными хозяевами неба.
Воздушные сражения на Кубани продолжались непрерывно около двух месяцев. И хотя немецкие асы входили в состав отборных истребительных эскадр, большинство этих летчиков пережили катастрофу под Сталинградом. Уже сам этот факт не мог не влиять на их стойкость в бою.
Советские же летчики после победы под Сталинградом выросли, возмужали, накопили солидный боевой опыт. Их наступательный порыв был неизмеримо выше, чем у немцев. И не случайно воздушные бои на Кубани явились как бы поворотным пунктом, изменившим воздушную обстановку в ходе всей Великой Отечественной войны. Начиная с этих сражений и вплоть до победы господство в воздухе прочно удерживалось советской авиацией.
* * *
Урон, понесенный полком на Голубой линии, был весьма ощутим. Срочно требовалось пополнение. И когда мы стояли в Ивановской, прибыли молодые летчицы Люся Горбачева, Катя Олейник, Паша Прасолова, Лера Рыльская. На штурманов готовились вооруженцы Лена Никитина, Тося Павлова, Надя Студилина и другие.
Пользуясь удачно наступившей небольшой передышкой, командование полка срочно готовило к вводу в боевой строй новое пополнение. С этой целью была создана 4-я эскадрилья. Меня назначили ее командиром, а штурманом Катю Рябову. В дальнейшем наша эскадрилья стала называться учебно-боевой: она до конца войны сочетала боевую и учебно-тренировочную работу. [127]
В сентябре советские войска в районе Новороссийска начали решительный штурм укреплений Голубой линии. С дождями, сырым ветром пришла ранняя приморская осень… Уже более полугода полк воевал на Северном Кавказе. Восемь экипажей под командованием заместителя командира полка Серафимы Амосовой вылетели в распоряжение ВВС Черноморского флота. С группой техников и вооруженцев выехала и гвардии майор Рачкевич. Основные же силы полка продолжали действовать на Таманском полуострове.
Все экипажи капитана Амосовой благополучно прибыли на место назначения и заняли свой уголок на аэродроме рядом с полком К. Д. Бочарова. Девчата осмотрелись – в таких условиях им еще не приходилось работать: на юго-восточной границе летного поля поднимались уступы гор, а на западе совсем близко было море. На аэродроме базировались также морские летчики. Посадочная полоса позволяла производить взлет и посадку только в двух направлениях. По всему было видно, что работать здесь будет нелегко.
Полеты над Новороссийском и его окрестностями требовали немалого искусства, отваги и выдержки. Маршрут проходил с одной стороны над морем, с другой – над горами и ущельями. Воздушные течения в тех местах были очень изменчивы. Попадешь над водой в холодные слои воздуха, самолет неудержимо тянет вниз. А в горах еще хуже: восходящие потоки воздуха бросали машину, как щепку. Одно утешение – надежные ориентиры: вышел к морю – Новороссийск перед, тобой как на ладони, выбирай цель – не промахнешься…
Первые две ночи фашисты боялись демаскировать себя и не вели интенсивной стрельбы, зато потом огонь был весьма плотный. Били с кораблей, с береговых батарей, из города. Казалось, само небо вот-вот расколется и поглотит маленькие У-2. Но группа Амосовой успешно вела боевую работу.
Каждый полет длился час двадцать – час сорок. Как только самолет возвращался обратно, техники, заранее сбегав за ужином, передавали его экипажу, а сами приступали к осмотру машины. Вооруженцы тут же подвешивали бомбы. Слаженность работы экипажей и наземных специалистов была отличной. Три-четыре минуты на [128] заправку, и «ласточки» снова брали курс на Новороссийск.
Увидев работу наших девушек, резко изменили свое отношение к ним хозяева аэродрома летчики-черноморцы. Девчата стали получать букеты цветов, а был случай, когда черноморцы великодушно подарили бомбы женским экипажам, оказавшимся без боеприпасов.
Евдокия Яковлевна Рачкевич, получив первые уроки штурманского дела у Жени Рудневой и Симы Амосовой, жила в те дни одной мечтой – слетать на Новороссийск с боевым заданием. И мечта ее осуществилась.
Наступление наших войск в районе Новороссийска началось в ночь на 10 сентября 1943 года высадкой десанта в порту. Как только десантные отряды завязали бой, перешли в наступление войска, действовавшие восточнее и южнее города. Фашисты прекрасно понимали, что потеря Новороссийска приведет к крушению всей их обороны на Голубой линии. Враг сопротивлялся ожесточенно. И не только на земле.
В один из дней сражения за Новороссийск, под утро, когда ночные бомбардировщики заканчивали работу, неожиданно пришел приказ: «Нанести бомбовый удар по штабу фашистских войск в районе центральной площади Новороссийска». Вскоре на фоне гор, позолоченных первыми лучами солнца, появилась «ласточка» Амосовой. За ней поочередно вылетели остальные. Девушки не думали о том, что уже светло, что их могут атаковать фашистские истребители, что надо проскочить под перекрестным огнем зениток.
Задание было выполнено. Все экипажи вернулись на свой аэродром.
За время штурма Новороссийска группа Амосовой совершила 233 боевых вылета. Командование наградило летчиц, штурманов, техников и вооруженцев орденами и медалями.
16 сентября Новороссийск был освобожден, и Голубая линия оказалась прорванной на участке Новороссийск, Молдаванская. Началось быстрое изгнание фашистов с Таманского полуострова.
Полк перебазировался на очень пыльный, наспех разминированный аэродром у станицы Курчанской. Теперь мы летали на косу Чушка добивать противника, спешно эвакуировавшего свои потрепанные части в Крым. [129]
В этот период экипажи работали с полным напряжением сил. За ночь нередко совершали по шесть – восемь вылетов. Ни о каком взаимодействии немецких прожекторных установок с истребителями теперь не могло быть и речи. Измотанные в тяжелых боях гитлеровцы думали лишь о том, чтобы спасти от окончательного разгрома уцелевших солдат и технику, перебросить их на Крымский полуостров и там укрепиться. И все-таки доставалось нам от их зенитчиков! Хотя, пожалуй, больше зениток досаждал шальной осенний ветер. Он вздымал с полей песчаную пыль и желтым маревом заволакивал небо. Песок, мельчайший песок Приазовья, можно было обнаружить всюду: в пище, на зубах, под одеждой, в кабинах. От него некуда было укрыться. Но самое страшное было даже не в этом. Опасность заключалась в том, что песок попадал в двигатели, ухудшал их работу, увеличивал износ.
В течение суток техникам по нескольку раз приходилось тщательно осматривать моторы и очищать их.
Наконец наступил долгожданный день. В ночь на 9 октября, вылетев на бомбежку, мы не нашли ни одной цели. Мыс Чушка словно вымер; дороги, ведущие к Керченскому проливу, опустели. Кругом стало голо. Только кое-где темными пятнами выделялась на засыпанной песком земле брошенная врагом техника. Пусто было и у наспех сколоченных причалов.
Днем 9 октября пришло сообщение, что Таманский полуостров полностью очищен от гитлеровских войск. Это был еще один шаг к победе.
Мы дрались не за страх, а за совесть. В признание заслуг дочерей полка к его имени прибавилось слово «Таманский». Отныне он стал называться 46-м гвардейским Таманским авиационным полком.
Так завершился еще один период в нашей жизни.
В предрассветном тумане полк поэскадрильно покинул аэродром в Курчанской. Недолгий перелет – и вот уже мы у Азовского моря, с которым расстались год назад. С ласковым ворчанием подбирались к нашим ногам вспененные волны. Ровной чередой накатывались они на берег и все шли и шли, подгоняемые ветром, рожденным в горах Крыма.
Крым! Он ждал нас и слал из туманной дали эти волны, как свой привет. [130]
У самого Черного моря
Гордись, товарищ, что тебе
Быть довелось в такой борьбе!
Гордись, что в день борьбы кровавой
И ты ударил по врагам,
Что ты сказать имеешь право:
– Я там стоял, я дрался там.
Частица общей славы той
Она – твоя, она – с тобой.
Из фронтовой многотиражки
Пересыпь, типично рыбацкий поселок, лежал в руинах. В единственном чудом уцелевшем каменном домике разместился штаб полка. Под жилье отвели полуразвалившиеся хибарки, несколько просторных землянок. Меня поместили вместе с Рябовой, Амосовой, Никулиной и Рудневой. Засучили рукава, привели халупу в относительный порядок, и жизнь потекла своим чередом.
Советские войска готовились к форсированию Керченского пролива. А враг спешно сооружал полосу обороны. Выло ясно, что без жестокого сражения Крыма он не отдаст. К тому времени части 4-го Украинского фронта, прорвав оборону противника в полосе Запорожье, Мелитополь, озеро Молочное, двинулись вперед и к 1 ноября вышли к Перекопу. Крымская группировка гитлеровцев оказалась отрезанной, отходить ей можно было только морем.
Окончательно уступив господство в воздухе, враг стремился компенсировать эту потерю усилением противовоздушной обороны. Все важные коммуникации и места сосредоточения своих войск он обеспечил большим количеством прожекторных и зенитных установок. Противовоздушная оборона гитлеровцев схематично выглядела так: зенитные пулеметы и малокалиберная зенитная артиллерия располагались в центре и по окраинам узлов обороны и населенных пунктов, а крупнокалиберная артиллерия и прожекторы – на расстоянии одного-двух километров от них. Особенно мощное прикрытие они создали по линии Керчь, Катерлез, Булганак, Тархан, Кезы, Багерово.
В дни подготовки операции полк проводил разведку побережья, а также бомбил крупные скопления вражеских войск, немецкие тылы, шоссейные дороги, железнодорожные узлы. [131]
Аэродромом нам служила узкая полоска морского берега. Взлетная полоса шириной около 300 метров тянулась с запада на восток. Вдоль южной стороны аэродрома проходило шоссе с линией высоковольтной передачи. Последнее обстоятельство требовало от летчиц большой точности и внимательности при взлете и посадке в период темных осенних ночей.
Аэродром имел и еще одно существенное неудобство – он не был защищен от ветра. Резкий, сильный, временами достигавший 30 метров в секунду, ветер гулял здесь совершенно свободно. А поскольку он дул всегда сбоку – либо с севера, со стороны Азовского моря, либо с юга, со стороны Черного, – то легко понять, как сильно затрудняло это нашу работу. При взлете и посадке ветер всегда мог швырнуть самолет на крыло, и тогда авария неизбежна. Не легче было и в полете. Все хорошо понимали, что в случае отказа мотора ветер мог свободно унести легкий У-2 в открытое море.
Нужно сказать, что не меньше ветра нам досаждали в то время проливные дожди и туманы. Помню, возвратились мы как-то с Рябовой из полета мокрые, продрогшие. Катя не выдержала, в сердцах говорит:
– Лучше в лютые морозы летать, чем в такой сырости. Это не туман, а бог знает что. От дождей да туманов немудрено и заплесневеть.
– А ты профилактику делай, – пошутила подошедшая Женя Руднева, – на ночь смазывайся отработанным маслом. Все равно оно пропадает.
– Ничего, Катя, – в тон Жене заметила я. – Зато теперь ты и огнем прожженная, и влагой пропитанная, против любой болезни устоишь.
Катя бросила на меня сердитый взгляд, хотела что-то сказать, но только вздохнула и отошла. Она все еще переживала свой перевод в учебно-боевую эскадрилью и почему-то обижалась на меня, словно я была повинна в этом.
Тогда, при назначении нас в новую эскадрилью, у Рябовой произошел резкий разговор с командиром полка. Нас вызвали в штаб, и Евдокия Давыдовна сообщила нам решение командования.
– Уверена, – сказала она, – с работой справитесь, оправдаете оказанное вам доверие. – Затем, перейдя с официального тона на обычный, товарищеский, добавила: – А теперь, девушки, от себя лично, не как командир, [132] а как друг, поздравляю с повышением. Если будет трудно, обращайтесь без стеснения – всегда поможем.
Ни меня, ни Рябову новое назначение не обрадовало. Нас не пугали трудности новой работы. Дело было в другом. Я уже слеталась со своим звеном, изучила летчиц и штурманов, знала, на что каждая из них способна. Они привыкли ко мне, я к ним, наше звено работало, как хорошо отрегулированный механизм. А тут все начинай сначала. Но приказ есть приказ, я даже не пыталась возражать. Катя же вдруг заупрямилась и заявила, что отказывается от назначения.
– Причина? – коротко спросила майор Бершанская.
Разумеется, веских доводов у Рябовой не нашлось.
Просто ей не хотелось расставаться с командиром своего экипажа Надей Поповой – прекрасным товарищем, опытной летчицей. Несмотря на то что все мы, девушки, крепко дружили, друг друга любили и уважали, каждый экипаж представлял собой единое, нераздельное целое в этом дружном большом коллективе. Любой штурман считал своего летчика самым лучшим в полку, а пилоты лучшим признавали только своего штурмана. Это вполне естественно. Сама фронтовая обстановка рождала такую спайку, заставляла девушек дорожить друг другом, ибо нет лучшей проверки человека, чем под огнем, в бою, где жизнь каждого зависит от мастерства и выдержки товарища по оружию.
Я хорошо понимала Катю и потому, когда она спорила с Бершанской (иначе ее разговор с командиром нельзя было назвать), хранила молчание, даже сочувствовала ей. Но когда Евдокия Давыдовна отпустила нас, я все же сказала Рябовой, что вела она себя неправильно, проявила эгоизм.
– Знаешь, ты выглядела как кустарь-одиночка, – не скрывая, выложила я свои чувства. – Тебе безразличны, видимо, интересы полка, а волнуют только личные успехи. Может, думаешь, мне хочется расставаться с Олей Клюевой?
– Ты меня не агитируй! – запальчиво ответила Рябова. – Мораль можешь читать новичкам, а меня оставь в покое.
– Как тебе не стыдно!
Но Катя круто повернулась и быстро зашагала прочь. С тех пор отношения мои с Рябовой, правда временно, [133] были несколько натянутыми. Однако это не мешало нам в работе ни в Ивановской, ни в Пересыпи.
В первый период базирования на берегу Керченского пролива наша эскадрилья летала на боевые задания нечасто. На фронте выдалось относительное затишье, и мы это время использовали для тренировок – осваивали полеты в новых условиях, вводили в строй пополнение. Чтобы улучшить учебную работу, в эскадрилью назначили опытных летчиков и штурманов: Веру Тихомирову, Нину Худякову, Клаву Серебрякову, Марту Сыртланову, Ольгу Клюеву и Таню Сумарокову. Руководила всей летной подготовкой Серафима Амосова. Учебная работа велась и в других эскадрильях, но основная тяжесть все же лежала на нашей.
Первое время я очень неловко чувствовала себя в должности комэска. Мне едва исполнилось двадцать, а подчиненные командиры звеньев были старше и опытнее меня. Они уже не один год служили в авиации, каждая имела солидный летный опыт. Но подруги восприняли эту новость как положено. С первых дней выполняли все мои указания, постоянно оказывали мне помощь в учебной и воспитательной работе.
Вскоре эскадрилья стала дружным коллективом, который успешно выполнял любые задания.
* * *
Штурман полка Женя Руднева периодически отправлялась в контрольные полеты с командирами звеньев и эскадрилий. В октябре 1943 года в одну из ночей мы пошли на задание вместе с Женей.
– Посмотрим, товарищ Чечнева, не разучились ли вы в шашки играть? Есть ли еще у вас порох в пороховницах? – шутливо бросила она, забираясь в кабину позади меня.
– Что ж, посмотрим, товарищ флагштурман, – в тон ответила я, – не отсырел ли ваш порох?…
Я очень любила летать с Женей, хотя удавалось это нечасто. Спокойная, выдержанная, она не терялась ни при каких обстоятельствах. Летчик с ней всегда чувствовал себя уверенно, знал – с таким штурманом с курса не собьешься и в бою он не подведет.
У Рудневой было исключительно развито чувство долга, ответственности. Уверовав во что-то, она твердо шла [134] к цели, не признавала никаких компромиссов. Требовательная к себе, она и другим не давала поблажки, не стеснялась сказать в глаза самую горькую правду, всегда действовала прямо и открыто. И вместе с тем являлась заботливым, чутким товарищем.
Ко всему прочему, Женя была человеком разносторонних интересов, приятным собеседником. Она хорошо разбиралась не только в своей области знаний. Женю увлекали литература, искусство, философия. Обладая незаурядной памятью, она помнила тысячи дат, событий, имен. Нашим «научным мужем» называли мы ее в шутку между собой. Но особым призванием Жени была астрономия. С кем бы и о чем ни говорила Руднева, мы знали: все равно беседа сведется к астрономии…
И вот мы с Женей – в воздухе.
– Приготовиться, – сказала я, – фашисты сегодня злее, чем всегда. Чуть обнаружат, бьют вовсю, не целясь.
– Тем хуже для них, нервы сдают. Доконали мы их все-таки. А помнишь, Маринка, как они гнали нас летом прошлого года? Мы едва успевали менять аэродромы…
– Да и сейчас не очень задерживаемся на одном месте.
– Ну, таких бы перебазировок побольше и почаще. До самого Берлина… Влево, влево давай! – вдруг крикнула Женя. – Прожекторы!
Скользнув вправо и вверх, прямо в глаза ударил мощный луч. К нему тут же присоединился второй. С разных сторон к нам почти одновременно потянулись светящиеся нити трассирующих снарядов. Со стороны, когда во тьме повисали световые дуги, это, должно быть, выглядело красиво, вроде огненных лент серпантина в карнавальную ночь. Для нас же встреча с такой «нитью» означала конец.
– Как самочувствие, Женя? – спросила я. – Здорово шпарят. А ведь мы даже пролива не миновали. То ли будет над сушей… Пойдем напрямик или вернемся назад, наберем побольше высотенку и спланируем?
– На подъем уйдет много времени. Разворачивай в открытое море. Создай видимость, будто у нас что-то произошло, они и отстанут. А там решим, как быть дальше…
– Попробуем. [135]
Я резко с левым креном стала планировать, имитируя падение. Несколько секунд лучи следовали за нами, потом переметнулись вправо. Появился другой экипаж, и вражеские прожектористы стали ловить его, ориентируясь по шуму мотора.
– А теперь набирай высоту и планируй до самой цели, – сказала Руднева и указала заданный курс в градусах. – Так и держись. Выскочим над южной окраиной Керчи.
Через несколько минут Женя сбросила осветительные бомбы. Нам повезло – на окраине города в узком переулке хорошо видна была медленно двигавшаяся колонна танков. Разжались замки бомбодержателей, и сто килограммов взрывчатки угодили в самую середину колонны. Тотчас затарахтели зенитки, темноту располосовали лучи прожекторов. Круто развернувшись, я повела самолет в сторону Керченского пролива.
– Куда? – крикнула Женя. – Заходи еще раз. Пока у них там паника, успеем ударить по хвосту колонны. Бомбы у меня еще есть.
Но прожектористы намертво вцепились в наш самолет. Я бросала машину влево, вправо, вверх, вниз, производила различные маневры – все напрасно. Да разве на такой черепашьей скорости сразу избавишься от гитлеровцев?
– Ничего не выйдет, Женя. Отпустят нас только у самой Чушки, так не однажды бывало. А к тому времени танки уйдут. Впрочем, если ты настаиваешь, я попробую вырваться.
Только собралась перевести машину в пике, как левее и выше вспыхнула САБ. Это подоспел на выручку кто-то из подруг.
Прожекторы отпустили наш самолет, уходивший в сторону моря, и принялись ловить У-2, летевший боевым курсом. Видимо, это были Таня Макарова с Верой Белик. По счету их экипаж в ту ночь работал третьим. «Спасибо, девочки, – мысленно поблагодарила я подруг. – Спасибо тебе, Вера Белик, за настоящую дружбу, за солдатское мужество».
Мне вспомнился наш разговор накануне вылета.
– Знаешь, Маринка, ведь Керчь мой родной город, – призналась Вера. – Будешь над южной окраиной, посмотри внимательно, большие ли там разрушения. – Вера помолчала [136] немного, а потом тихо, будто стесняясь, пояснила: – Мама все спрашивает в письмах, как наш домик. Надеется, бедняжка, что он уцелеет…
– Обязательно постараюсь все рассмотреть, – пообещала я. – И вообще, нет ничего удивительного, что твою маму волнует это.
– Чудачка она у меня. Пишет: «Ты уж пожалей свой домик и подругам накажи». Будто мы бомбим дома… Подумать только, бегала босоногой девчонкой по родной пыльной улице, а потом пришлось эту самую улицу разрушать… А ведь мечтала обязательно вернуться сюда из Москвы с дипломом, мечтала в Керчи детей учить…
– Не надо, Вера.
– Нет, надо, Марина, – твердо сказала она. – Не для сочувствия об этом тебе говорю, а чтобы злей быть.
Под плоскостями у нас было еще сто килограммов бомб. Что же, Вера, мы сбросим их на голову врага за твою Керчь. Может, эти бомбы разорвутся рядом с твоим домом. Но ты не осудишь нас, не осудит и твоя мама. Я твердо верю в это. Ты права, Вера, надо быть злой. Иначе не скоро вырвешь у врага победу…
* * *
В один из дней приехал генерал-полковник И. Е. Петров. Нагрянул он, как всегда, внезапно, прошел на КП и тут же объявил боевую тревогу.
Генералу понравился образцовый воинский порядок, который, наученные опытом, мы постоянно поддерживали на аэродроме и КП.
– Отлично! – сказал он капитану Амосовой, замещавшей в тот день отсутствовавшую Бершанскую. – Значит, мой первый приезд не забыли.
Затем Иван Ефимович проверил нашу строевую подготовку. Выправкой он тоже остался доволен, но внешний наш вид ему не совсем понравился. Форма на девушках была аккуратная, наглаженная, но старая. Форму, сшитую по приказанию И. В. Тюленева, мы сделали выходной, надевали ее только в торжественных случаях. В остальное время ходили в мужском обмундировании. Изъяны в экипировке сразу бросились в глаза командующему.
Генерал Петров медленно шел вдоль строя и временами морщился, точно у него болел зуб. Вдруг остановился [137] против работницы штаба Раисы Маздриной, прищурился.
– Та-ак, – протянул он, – та-ак… – И вдруг скомандовал: – Старший лейтенант, три шага вперед – марш!
Маздрина с раскрасневшимся лицом повернулась к строю.
– Ну что это за заправка? Вот как нужно. Командующий одернул гимнастерку на Маздриной и так сильно затянул на ней ремень, что наша Рая стала едва ли не вдвое тоньше.
– Как, гвардейцы, – громко обратился к нам Петров, – не правда ли, лучше? Стройнее и красивее.
Когда генерал отошел, Маздрина ослабила ремень и облегченно вздохнула.
– Так затянул, что дышать нечем, – под общий сдержанный смех проговорила она.
– Вот теперь ты знаешь, что такое петровская заправка, – пошутил кто-то.
Так с тех пор у нас и повелось туго перетянутую талию называть «петровской заправкой». И надо отдать должное генералу. Урок, преподанный им, пошел на пользу: девушки стали больше следить за своим внешним видом.
Не ограничившись внушением, Петров приказал составить заявку на обмундирование соответствующих размеров и приказал доложить ему, если она не будет удовлетворена.
– Но и от вас я потребую порядка, – предупредил он. – Учтите, дорога на фронт проходит рядом с вашим аэродромом, езжу я на передовые часто, и, если в следующий раз застану подобную «экзотику», разговор будет неприятным. Ну, а теперь докладывайте, как дела.
Серафима Амосова подробно доложила о нашей боевой работе, учебе, жизни. Командующий остался доволен и пожелал дальнейших успехов.
Забегая вперед, хочется сказать, что мы очень полюбили Ивана Ефимовича, но скрывали эти чувства от него. В полк он приезжал еще два раза, а когда его переводили на другой фронт, то заглянул попрощаться. Мы запомнили на всю жизнь этого строгого, справедливого, чуткого и внимательного военачальника… [138]
В октябре я отметила свой первый юбилей в полку – пятисотый боевой вылет. Это знаменательное событие совпало с высадкой на крымский берег советского десанта. Операция проводилась в районе поселка Эльтиген. В месте высадки полк непрерывно бомбил вражеские прожекторные установки, которые мешали десанту. Самолеты следовали один за другим с небольшим интервалом. Конечно, далеко не каждая наша бомба попадала в цель. Важно было уже то, что во время бомбежки враг либо вовсе гасил прожекторы, либо переключал их на самолеты. А тем временем десантники под покровом темноты могли высаживаться на берег.
Однако на море разыгрался шторм; сильный ветер и волны задерживали катера. Операция затягивалась, и нам приходилось работать с максимальной нагрузкой.
Я заранее подсчитала, что мой пятый за эту ночь вылет станет в общем итоге пятисотым. Хотелось отметить его получше, иначе говоря – больше ущерба причинить врагу.
Базировались мы по-прежнему в рыбацком поселке Пересыпь, в двадцати километрах от Керченского пролива.
Моя задача заключалась в том, чтобы точно выйти на немецкие прожекторные установки, мешавшие высадке десанта, стать на боевой курс и, не обращая внимания на зенитный огонь, пролететь над целью. Штурман Катя Рябова должна была тем временем рассчитать маршрут, сбросить бомбы и указать путь домой, где нас с нетерпением ждали. В ту ночь мы тщательнее обычного собирались в полет, щепетильно проверяли подвеску «юбилейного» груза и свое снаряжение. За боевую практику случалось всякое. Юбилярам вроде меня нередко приходилось задерживаться где-нибудь в поле между своими и вражескими позициями. Поэтому к экипировке экипажа мы относились с особой придирчивостью.
Разыгравшаяся непогода едва не испортила мой праздник. Началось с того, что ветер безжалостно швырял из стороны в сторону наш легенький фанерный У-2. Потом с севера приползли тяжелые плотные тучи. Они безжалостно прижимали самолет к земле, и стрелка высотомера все время дрожала где-то между 350 и 400 метрами. Но даже и с такой высоты земля просматривалась плохо: в воздухе висела тончайшая водяная пыль, ухудшавшая [139] в без того отвратительную видимость. Пришлось снизиться еще на несколько десятков метров.
При обработке целей с такой высоты легко было подорваться на собственных бомбах, и никто бы не осудил нас, вернись мы на аэродром. Но мне подумалось тогда, что, если бы советский человек всегда действовал только исходя из возможного, прежде всего думая о личных интересах, о личном благополучии, мы не построили бы Днепрогэс, Сталинградский тракторный, десятки других гигантов индустрии, не проложили бы тысячи километров железных дорог, не сумели бы отстоять от врагов свои завоевания.
– Под крылом Эльтиген, – голосом вокзального диктора объявила Катя Рябова.
Она не любила в воздухе лишних разговоров, и мы подолгу могли летать молча, не разговаривая. Едва я услышала по переговорному устройству эти слова штурмана, как в кромешной тьме скользнули по черным волнам лучи прожекторов. Нервно пометавшись над водой, они вдруг замерли на месте.
– Катер поймали! – вырвалось у Катюши.
Я поглядела в сторону берега. В полутора километрах от него на вспененных гребнях прыгало освещенное голубым столбом яркого света небольшое суденышко. Фашисты отлично понимали положение людей на катере и, видимо, поэтому не спешили расправиться с ними. В накрепко стянутом пучке света, словно не замечая его, катер настойчиво пробирался к берегу.
Раздался залп, второй, третий. Катер накренился, но тут набежала крутая волна и удержала его. На какое-то мгновение он выскочил из полосы света, однако щупальца заметавшихся прожекторов снова ухватились за борт.
Медлить было нельзя. Я ввела самолет в левый крен и дала полный газ. Все решали секунды. Рев мотора всполошил гитлеровцев, два луча, переключившись, зашарили по небу. Но один прожектор продолжал упорно преследовать катер с десантниками.
Вздрогнул, захлебываясь от гнева, мотор самолета – рука до упора дала газ вперед.
– Выходим на цель, – предупредила Катя, – Будем бомбить с малой высоты.
– Ничего не поделаешь, – согласилась я. [140]
К самолету, описывая круги, приближался многовольтовый сноп прожектора. Едва коснувшись плоскостей, он пробежал по фюзеляжу, на мгновение ослепил меня и тут же вернулся назад. Задрожал, напряженно замер, застыл на самолете. Смотреть вниз было бесполезно. Меня словно чем-то тяжелым ударили в переносицу, перед глазами поплыли круги. Поймал все-таки! Втянув голову в плечи, я чуть подалась вперед. Теперь лучи проходили под козырьком, упираясь в центроплан. Немного дала ручку от себя и тут же почувствовала легкий толчок – бомбы оторвались от плоскостей.
Взрывной волной ударило в низ фюзеляжа, самолет клюнул носом и чуть завалился на правое крыло. Так не мудрено и в штопор сорваться. А на такой высоте попадешь в штопор – обязательно врежешься в землю. Чтобы предупредить падение, я поставила рули нейтрально и начала уходить в сторону. Прожекторы погасли, кромешная темнота вновь поглотила все вокруг.
– Ну как, отбомбилась? – осведомилась я у штурмана.
– Все в порядке. Видишь, прожекторы выключены. Может, мы их и не разбомбили, а братишек все же выручили. Поздравляю тебя, пятисотница, с юбилейным вылетом!
– Спасибо, Катя.
А утром в столовой меня ожидал огромный арбуз. На его кожуре белела вырезанная ножом цифра «500».
– Это от Бершанской и Рачкевич, – пояснила парторг полка Мария Рунт. – Специально раздобыли.
В столовой собралась вся наша эскадрилья, подошли и другие свободные от полетов девушки. Первые пятисотницы полка Мария Смирнова, Катя Рябова, Наташа Меклин подняли арбуз и торжественно передали его мне.
– Принимай «корону», – заявила Маша Смирнова. – Желаем тебе до конца войны заслужить еще одну.
Арбуз тут же коллективно подвергся уничтожению. С аппетитом уплетая сочные и сладкие ломти, девушки шутили: «Почаще бы такие юбилеи».
* * *
Через несколько дней после той ночи мимо нашего аэродрома в сторону Керченского пролива шеренга за шеренгой шли моряки. Они проходили широким флотским [141] шагом. В косых лучах осеннего солнца тускло поблескивала сталь автоматов. Суровые обветренные лица, черные бушлаты, развевающиеся ленты бескозырок. Собравшись группами, мы приветствовали моряков.
В одной из колонн вышагивал высокий худощавый старшина второй статьи. Его черные цыганские глаза весело поблескивали из-под густых бровей. Вместо матросской бескозырки на голове у парня была потрепанная солдатская шапка.
– Эй, морячок! – прозвучал вдруг звонкий девичий голос. Штурман из нашего полка ясноглазая Аня Бондарева подбежала к идущим. В руках она держала новую серую шапку. – Возьми, дарю от чистого сердца. Твоя-то уж больно плоха. Мне она не нужна, у меня шлем есть. Отдала бы тебе его, да нельзя – каждую ночь летаем.








