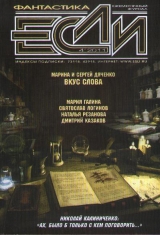
Текст книги "«Если», 2011 № 04"
Автор книги: Марина и Сергей Дяченко
Соавторы: Святослав Логинов,Дмитрий Казаков,Юрий Бурносов,Наталья Резанова,Аркадий Шушпанов,Мария Галина,Дмитрий Байкалов,Николай Калиниченко,Александр Григоров,Елена Ворон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
«Почему же ты не казнил учителя Вольфганга?»
«Он и без меня помирал. Хрипел, держась за грудь, звал лекаря».
«Однако Вольфганг терзал принцессу».
«Знаю. Но это случилось с моей помощью. Виновен я».
«Ты шутишь?!»
Роккон засмеялся. Слухом Разноглазых Мил услышал горький, на всхлипе смех, обычным слухом – громкое шипение.
«Поняв, что сам освободиться не в силах, я договорился с принцессой. Рассказал ей, на какой клумбе садовник выращивает чуд-корень для королевы; без чуд-корня этой туше ничего не надо, она без него даже есть не может. Я объяснил, как высушить корень и стереть в порошок; рассказал, какую малую щепотку взять… Мы условились: когда она всласть натешится с человеком, который ей нравится, но на нее взглянуть не смеет, тогда она выкрадет у Властимира ключ и отопрет клетку. Юная дурочка все поняла, все запомнила. И вдвоем с Вольфгангом нанюхалась чуд-корня до безумия. Дальше ты знаешь, что было».
Мил выпустил прутья, развернулся, привалился к решетке спиной. Кругом было темным-темно, ни единого проблеска.
«Рокот, – снова начал он, – если ты сумел договориться с принцессой, почему не объяснил все принцу?»
«Я могу общаться с Разноглазыми. С тобой, с советником Ильменем… только он не желает иметь дело с рокконом. А принц меня просто не слышит. Его дар спит».
«А Верния?»
«Она – женщина. К тому же юная, почти ребенок. Очень постаравшись, я сумел до нее докричаться».
«Лучше б докричался до меня», – печально заметил Мил, жалея принцессу, Вольфганга, роккона.
«Ты был далеко. – Рокот шевельнулся, скрипнул жесткими крыльями. Предложил: – Хочешь вина? Принц носит угощения. Фазанов, сласти, вина. Будешь?»
Мил ничего не хотел, но согласился на вино, чтобы не обидеть хозяина. В темноте о металл звякнуло стекло. Он нащупал поданную рокконом бутыль, выдернул пробку, принюхался.
«Настойка на горных травах?»
«Она самая».
Мил отпил из горлышка. Властимир не солгал: настойка была отменно хороша. Помня совет не увлекаться, Мил сделал второй глоток и поставил бутыль на пол.
«Принц меня каждый день навещает, – сообщил Рокот. – Слуги боятся, а он – нет. В клетке я сам прибираюсь, а он поганое ведро уносит, старое сено. Воду таскает через весь дворец, из какого-то Серебряного фонтана. Уверяет, будто целебная… Новости дворцовые рассказывает. Без него я бы совсем пропал. Он мне даже дружку свою подарил. Хочешь взглянуть?»
«Покажи».
Зрением Разноглазых Мил увидел прозрачное, светящееся голубоватым существо, похожее на бесхвостого, безухого зверька. Дружка с интересом смотрела на Мила синими огонечками глаз.
«Она поначалу тосковала без принца, – продолжал Рокот. – Он у нее прощения просил, уговаривал: дескать, роккону ты нужнее, он совсем один в клетке… Привыкла. Хочешь потрогать?» – Он подцепил дружку когтистой лапой и поднес к решетке. Дружка забеспокоилась, голубоватое свечение затрепетало. «Не бойся, он – свой», – сказал роккон, и она притихла, лишь синие огоньки глаз вспыхнули ярче, когда Мил осторожно ее коснулся. От дружки исходило уютное тепло, чувство покоя и защищенности.
«Рокот, это не простая дружка. Снежик тебе хранителя жизни отдал. Зверь редкостный и стоит сундук денег. Такой не у каждого короля бывает».
«Хранитель жизни? То-то я смотрю: никак не сдохну, – огорчился роккон. – Мил, у меня есть просьба. Выполнишь?»
«Нет!» – Мил почуял неладное.
Рокот притворился, будто не слышал.
«Я устал так жить. И принца жалко: он с этой казнью и нашептом на человека не похож… Мил, роккона можно убить стрелой из арбалета либо ударив ножом в глаз. Я дам тебе нож. Убей».
«Твоя дружка-хранитель мне глотку перегрызет», – ответил Мил. Это было совсем не то, что он хотел сказать.
«Я ей велю не мешать. Подержу ее, а ты ударь. Только быстро. Я сам уже пробовал – без глаза остался. Ножом ткнул – а глубоко, чтобы в мозг вошло, не сумел. Больно слишком… Или дружка помешала».
«Нет, брат. Не проси».
Рокот сунул дружку себе под крыло, и ее голубоватое свечение потухло.
«Мил, ну подумай сам! Если казнь наконец состоится, ты будешь свободен, я – свободен, принц – свободен. А иначе тебя здесь убьют, Разноглазого. Ты успел слишком многое разоблачить, дознаватель».
«Нет», – отрезал Мил. И ничего не стал объяснять, погасил особое зрение.
Остался гореть единственный желтый глаз. Не видимые в темноте длинные когти легли на плечо, укололи даже сквозь толстый плащ.
«Я сжег твой дом. Погубил мать и отца».
Мил невольно отшатнулся; когти сжались, захватив ткань плаща.
«Что ты брешешь?!»
«Я беру на себя вину своих братьев, – ответил роккон. – Когда моя семья решила, что я уже наказан сверх меры, они обратились к твоему отцу. С просьбой прибыть сюда и уговорить Принца выпустить меня на свободу. Посулили щедрую плату. Но твой отец, когда узнал все обстоятельства… он…»
«Отказался?»
«К несчастью. Сказал, что не рискнет иметь дело с безумной королевской семьей и рокконами одновременно. И уехал. Мать с отцом были неутешны, братья – в бешенстве. Полетели за ним. По нашим законам, пока ты не разорил гнездо врага, твой враг жив. Они спалили гнездо. Мил, отныне их вина – моя вина. Убей». – Когти другой лапы вложили Милу в руку нож. Простой кухонный нож с деревянной ручкой.
Желтый глаз горел в темноте совсем близко. Когти отпустили плащ, чтобы Милу было удобно замахнуться.
«Ударь!» – приказал роккон. Голову пронзила страшная боль. «Ударь – и тебе станет легче!»
От боли зашлось сердце. Мил попятился, отбросил нож. Наткнулся спиной на сетку, сполз на пол, скорчился, ладонями сжал виски.
Роккон закричал – тонко, пронзительно. Крик, вой и свист смешались, ввинтились в разламывающуюся голову. Мил чуть не умер от боли.
– Рокот, – он сам себя не слышал, – мой отец… судья… раз в жизни рассудил неверно. Я не… не повторю его ошибки.
Крик смолк, боль в голове погасла. Милу казалось, что он ослеп и оглох, – так было темно и тихо. Желтый глаз не светился.
– Рокот? – цепляясь за сеть, Мил встал. Закричал мысленно: – «Рокот!»
Вернувшимся особым зрением увидел: роккон лежит на полу, уткнувшись лицом в сено, жесткие крылья нелепо топорщатся, дружка-хранитель беспомощно тычется мордочкой в голову с гребнем шипов. Умер? Не может быть! Мил просунул руки сквозь прутья решетки, дотянулся до откинутой в сторону лапы.
«Рокот! Что ты, дружище? Очнись, брат…»
Он звал роккона – мысленно и вслух, тормошил безвольную лапу. Умер. Как же так? Почему?! Дружка оставила хозяина, подобралась к Милу, ткнулась мордочкой в шею. От ее теплого касания у него вдруг иссякли силы. Мил уронил руки, остался сидеть, прижимаясь лицом к холодным прутьям решетки.
Внезапно дружка подскочила, зашипела – и юркнула под крыло роккону. Мил заозирался, чутко вслушиваясь.
Неподалеку мягко спрыгнул наземь человек. Зрением Разноглазых Мил отчетливо видел все вокруг – стену, калитку в ней, какие-то чахлые кустики. А пришельца разглядеть не мог. И услышать его намерения – тоже.
Это – Разноглазый, который не желает, чтобы Мил его видел и слышал. Сам Мил такого не умел; отец не успел научить.
Он огляделся. Под ногами – бутыль с настойкой да кухонный нож. Жалкое оружие, когда не видишь противника, а сам в клетке как на ладони.
Крадущиеся шаги приблизились: Мил видел, как под ногами пришельца сминается невысокая трава.
– Напрасно таитесь, господин Ильмень. Я знаю, где вы.
– Вижу, казнь у вас уже состоялась, – раздался холодно-насмешливый голос. – Вы победили роккона, уважаемый?
– Победил, – солгал Мил с достоинством вельможи.
– Ну, тогда мне работы осталось немного.
Мил бросился на пол, откатился к стене; подумать ни о чем не успел, просто бросился. Да что толку метаться в таком курятнике?..
Он ожидал услышать, как свистнет стрела, запоет, вонзившись во что-нибудь. Вторая стрела уже вопьется в тело.
Вместо этого советник Ильмень хрюкнул, закряхтел.
– Что за… Пошел вон!
В воздухе дергалась светящаяся дружка. Мил не видел Ильменя, но дружка явно сидела у советника на руке и не давала стрелять. Хранитель жизни, которому про Мила сказали: «свой».
Кухонный нож не годился в метательные клинки. Мил подхватился с бутылью в руке, просунул ее сквозь крупную ячейку сетки. Примерился. До чего неловко – не размахнешься толком… Он со всей силы швырнул бутыль туда, где, по расчетам, находилась голова советника. Там хрустнуло. Надо же – попал.
Ставшее видимым тело Ильменя грузно осело наземь, руки выпустили маленький, как будто игрушечный арбалет. Оружие для комнатного боя с пяти шагов прошьет насквозь и человека, и роккона. Дружка метнулась назад, в клетку, затаилась под крылом у хозяина.
Мил рассмотрел врага. Советник дышал, но кость над виском вмялась внутрь. Не жилец.
На мгновение Мил пожалел, что разделался с ним бутылью, а не ножом. Нож сейчас ни к чему, а вот настойки бы хватить не помешало.
«Вина у нас хоть залейся, – сообщил вдруг роккон, поднимаясь и хрустя крыльями. – Отлично получилось. Дружка, умница, не растерялась, да и ты не сплоховал. Я б ему плюнул в рожу – да недавно сетку жег, плевать пока нечем». Рокот был очень доволен исходом дела.
У Мила подогнулись ноги, зрение Разноглазых погасло; вокруг снова настала непроглядная тьма. «Я решил: ты умер».
Роккон зашипел – засмеялся. «Если б я мог так легко умереть, давно бы уже летал в Небесах Вечной Радости. – Он просунул сквозь решетку новую бутыль: – Хлебни-ка, чтоб не расклеиться».
Однако Мил уже расклеился. Он сидел, не в силах шевельнуться, не в силах даже мысленно разговаривать. Роккон оставил его в покое и тоже затих.
Начали бить знакомые часы. Мил считал удары: два… пять… девять… двенадцать.
«Сейчас принц явится», – оповестил роккон.
И впрямь взвизгнули дверные петли, на траву упала полоса яркого света.
Властимир Снежик осветил по очереди Мила, роккона, лежащего на земле советника Ильменя и его маленький арбалет.
– Казнь состоялась, – объявил он.
Поставив фонарь, принц отомкнул замки на клетке, распахнул дверцу Мила:
– Выходи.
С натугой сдвинул в сторону приржавевшую дверь со стороны роккона:
– Выходи скорее. Улетай.
Роккон неловко полез наружу. Крылья мешали, за что-то цеплялись. Вокруг ходили огромные тени. Подхватив роккона снизу под грудь, принц выволок его наружу.
– Улетай! – повторил он севшим голосом.
Роккон выпрямился – и оказался на две головы выше рослого Мила. Он стоял на крепких кривоватых лапах, с хрустом и щелканьем расправляя крылья; желтый глаз быстро моргал. Затем Рокот повернулся к принцу, навис над ним, зашипел.
Властимир Снежик коснулся его пластинчатой, будто закованной в броню груди, провел ладонью по шипастому плечу.
– Знаю, что виноват. Прости… если можешь.
Роккон повернул голову к Милу: «Прощай».
«Прощай, брат. Будь осторожен – ты отвык летать».
Роккон засмеялся: «Вот уж нет!». Затем стремительно взмыл в небо – лишь порыв ветра хлестнул от мощных крыльев, и пропал в темноте.
* * *
В окно били лучи утреннего солнца. Вчерашние тучи унесло, небо очистилось и ярко синело над крышами и башенками Велич-города.
– Оставайся, – сказал принц, когда Мил позавтракал. Сам он к еде не притронулся, лишь выпил простой воды. – Мне нужен хороший советник. Жалованьем не обижу.
– Нет, Снежик. Я за эти дни вот так, – Мил провел ладонью у горла, – насытился дворцом и вашими тайнами. Хочу на волю.
Принц вскинул расстроенные глаза.
– Понимаю. Все равно… оставайся. Скоро осень – время штормов. А весной снарядим судно, поплывем за море. Посватаемся к Разноглазым принцессам… Ну, ты – не к принцессе, к кому захочешь.
– Мне проще наняться на любое судно матросом. И уплыть прямо сейчас.
Властимир Снежик взял запотевший кубок с водой. Уголок рта чуть заметно подрагивал.
– Мил… Дружен… – Он не договорил, глотнул воды. Поставил кубок, приняв какое-то решение. Поднялся на ноги. – Да пребудет с тобой Светлое Небо. Пойдем, провожу до ворот.
Они вышли из здания.
На утреннем солнце было тепло, и легко дышалось. Дворец был тих, словно его обитатели вымерли. Прислушиваться особым слухом Мил не желал. И без того известно: советник Ильмень при смерти, королева убивается. Он не хотел этого слышать, а просто смотрел вокруг, наслаждаясь тем, что жив.
На парадной лестнице принц дважды оступился.
– Снежик, смотри под ноги!
– Смотрю, – тихо сказал тот. Остановился, и Милу тоже пришлось стать. – Знаешь, я очень виноват перед рокконом. Если б я в самом деле хотел его отпустить, думаю, я справился бы с нашептом.
– Разве ты не хотел?
– Нет. Он был… был мне почти другом. После смерти Вольфганга – единственным.
– Ты мог не отдавать ему свою дружку.
– Мог, – согласился принц. – Но без нее он бы умер.
– Лучше б ты отпустил его в небо!
Властимир кивнул с убитым видом. Сказал, безнадежно пытаясь оправдаться:
– Ты не представляешь, каково это: жить во дворце. В нашем дворце – одному. С больным отцом, безумной сестрой и сворой убийц вокруг. Думаешь, Ильмень один такой резвый?
– Ничего я не думаю. Идем! – Мил зашагал дальше.
И вдруг почудилось: что-то не так. Что-то неладно – то ли вокруг, то ли в его собственной душе. Он прислушался особым слухом. И не хотел – а само собой вышло.
Тосковала дружка, сидящая у принца на плече. Старый хозяин от нее отказался, и она смирилась, привыкла. А новый – новый ее тоже бросил! Тот, чью жизнь она берегла, чью тоску, как могла, утоляла. Как теперь без него? Без него дружке – смерть. Двух хозяев нельзя потерять…
Горевал Властимир Снежик. Один друг улетел – счастье, что дожил; горе, что улетел; стыд нестерпимый, что не отпустил его раньше. Второй не желает стать другом, спешит уйти, хотя его имя – Дружен. И бедная дружка умрет, потому что ее нельзя предать дважды. Зачем роккон ее бросил? И как теперь быть – совсем одному?..
Предавалась скорби королева Развея. Умирает советник. Где найдешь другого Разноглазого, чтоб не пугался ее безобразного тела? Чтобы в охотку, без повеления, готов был эту раздутую плоть услаждать? Знать бы, что так повернется, – не стала б отправлять на казнь мальчишку. Ильмень цел бы остался, да и пригожего мальчика со временем бы приручила…
Укладывал вещи уволенный капитан Погребец. Монета к монете, брошь к броши, пряжка к пряжке. Хоть и малое назначено ему содержание, но на первых порах капитан не пропадет…
«Подними глаза, брат!»
Мил задрал голову. Высоко в синеве плавала темная точка.
«Рокот! Ты без клетки соскучился?! Принц готов тебя взять обратно».
Роккон засмеялся – не шутке Мила, а просто от счастья. «Да видишь: я, как дурак, принцу дружку оставил. Думал: пусть она ему одиночество скрасит, от вельмож да дурных слуг убережет. А потом спохватился. Дружку ведь дважды не отдают, верно?»
«Ты прав, мудрый брат».
– Снежик, – Мил указал в небо, – Рокот за дружкой вернулся.
– Надо отдать. – У принца дрогнул уголок рта.
Мил поглядел на несчастную дружку, на побледневшего принца, который стоял ссутулясь, глядя под ноги. Его осенило:
– Снежик, а ты ведь не доживешь до весны, чтобы свататься за морем. Даже до осени не дотянешь – один, без хранителя жизни. Где себе новую дружку возьмешь?
– Эту все равно нужно отдать, – обреченно возразил принц.
«Не доживет, – окончательно уверился Мил. – Как пить дать стрелу сердцем поймает… либо яд поднесут. А нет – так от тоски зачахнет; по зимним холодам заболеет да помрет». Принца было жаль.
– Ладно, не горюй, – Мил хлопнул его по плечу. – Вместо дружки у тебя будет новый начальник дворцовой стражи. Дельный малый. Разноглазый; с таким не пропадешь. – Ему пришло в голову, что он нахваливает себя, точно лошадь на рынке, и стало смешно.
Высоко в синем небе ликовал роккон. Он мерно взмахивал стосковавшимися по простору крыльями – и хохотал, хохотал…
МАРИЯ ГАЛИНА
СОЛНЦЕВОРОТ

Иллюстрация Сергея Шехова
За волноломами шевелились темные волны, приподнимая на себе ледяную крошку. Три рыболовных бота стояли на приколе у мола, вмерзнув в зеленоватый припай; причальные канаты провисли, и на них наросли маленькие колючие сосульки. Элька отломила одну и лизнула, сосулька оказалась пресной и отдавала мазутом.
По ночам в небе ходили, переливаясь, зеленые занавески, крупные зимние звезды просвечивали сквозь них, и можно было расслышать тихий шорох, непонятно откуда идущий. Это было почему-то страшно, словно что-то очень большое пыталось поговорить с тобой на своем языке, но язык этот не предназначался для человеческого уха, и потому большое злилось и кусало за нос и в глаза.
Но комбинат работал; в безветренные дни его окружал тошнотворный запах рыбьего жира, перемешанный не с таким противным, но въевшимся во все запахом коптилен.
Рыжеволосые близняшки Анхен и Гретхен, как обычно отиравшиеся в крохотной гостиничной кафешке, в отсутствие клиентов часами сидели напротив дальновизора, разглядывая городские моды и отпуская веселые комментарии. Солидные господа и дамы таращили глаза в увеличительной линзе, напоминая при этом рыб в круглом аквариуме. Буфетчица близняшек не гнала, они покупали кофе и присыпанные сахарной пудрой булочки – а больше никто. Иногда она и сама выходила из-за стойки, подсаживалась к близняшкам и, подперев голову рукой, смотрела какую-нибудь фильму про утерянных наследников и разбитые сердца. Хотя летом она близняшек гоняла, говорила, что здесь приличная гостиница, а не дом свиданий.
Элька заходила в кафе со шваброй и ведром, тоже пристраивалась в углу и таращилась в дальновизор, пока мать не спохватывалась и, утирая ладонью слезы после особенно душещипательного эпизода, не начинала кричать: «А ты что тут делаешь, горе мое?». Тогда Элька хватала швабру и торопливо шаркала ею по полу, оставляя мокрые разводы. От холодной воды руки у нее сделались красные, как гусиные лапы, и покрылись цыпками. Приплачивали за уборку матери, но не могла же она одновременно быть в двух местах, а работа за стойкой требовала ответственности и внимания. Они и жили при гостинице, в пристройке рядом с кухней и котельной, и Эльке казалось, что все вокруг пропиталось запахом угля и супа, угля и супа, угля и супа…
Суп Элька носила деду, он работал сторожем при купальнях, сейчас, на зиму, закрытых. Купальни постепенно приходили в упадок; цветную плитку, украшавшую стенки бассейна, изъела зеленая плесень, по мраморным ступеням вились трещины, но Эльке тут нравилось. Она воображала себе нарядных кавалеров и дам, прогуливающихся вдоль балюстрад и толпящихся у веселых фонтанчиков. Дамы и господа брезговали гостиницей и останавливались в летних павильонах, сейчас тоже закрытых на зиму. Вообще купальни были отдельным миром, загадочным и праздничным, а то, что они на зиму были закрыты, придавало им очарования. Не может праздник длиться вечно – иначе какой он тогда праздник?
Но прошлым летом небольшой катер, фыркая трубой, высадил с десяток старух – и все. Старухи, хоть и из столицы, только корчили важных шишек, они пили сернистую воду и говорили, что в былые годы вода была вкуснее и гораздо, гораздо целебнее. Мать и Элька носили им еду из гостиничной кухни, потому что летнюю кухню ради нескольких старых кляч пан Йожеф, управляющий, решил не ставить. Еда старухам не нравилась. Потом старухи уехали, и пан Йожеф велел заколотить павильоны, чтобы туда не шастали парочки. А сейчас, в холод, туда и парочки не сунулись бы: над купальнями висел пар и пахло тухлыми яйцами.
Пока Элька дотащила судок, суп успел остыть, но дед не жаловался, а скреб оловянной ложкой по дну, выбирая разваренную крупу. Дед вообще ворчал редко и больше для порядка.
Вот и сейчас, доскребывая остатки, он сердито сказал:
– Чего ходишь, дева?
Элька бродила вдоль стен, рассматривая мозаику: рыбы, голубые и желтые, играли в синих волнах, а на самых больших рыбах сидели морские девы с длинными желтыми волосами и трубили в завитые раковины.
– Скучно, – честно ответила Элька.
Море и летом было серое, свинцовое, где художник и видал-то такое? И таких рыб?
– Скучно ей, – сказал старик беззлобно. – Это, дева, тебе не лето. Летом пани с белыми парасольками, кавалеры…
– Дед, – сказала Элька, – какие еще кавалеры? Старухи одни. Слышал, чего пан Йожеф сказал? Он сказал, если и наступным летом не приедут, будем лазни закрывать. Невыгодно.
– Невыгодно им, – горько сказал дед. – Если каждый будет думать о своей выгоде, куда мы придем, дева?
– Куда? – спросила Элька, чтобы поддержать разговор. Она старалась оттянуть неизбежное, поскольку знала, что, как только вернется с пустым судком, мать, во-первых, заставит ее мыть судок в холодной жирной воде, а во-вторых, проветривать постели в гостинице. Никто не живет, но постели раз в неделю все равно надо проветривать. Есть приятные работы (например, таскать дрова и подкладывать полешки в плиту), а есть неприятные. Почему, интересно, – ведь и то и другое работа?
– Так и до конца света недалеко, – сказал дед. – Под конец света всегда портятся нравы.
Дед говорил так, словно лично наблюдал несколько концов света и успел сделать выводы.
– Накоптят за зиму рыбы вонючей, весной торгашам сплавят… А раньше тут золотые реки текли, приедут господа, слуги, в павильонах – ковры, на террасах – ковры, кое-кто со своими поварами, портными, конюхами, матросы с яхт, всем есть-пить надо… Сам герцог приезжал… Яхта с вымпелом, белая как лебедь, матросы все в белом, капитан в кителе, пуговицы на солнце так и блестят, герцог по трапу сходит, а тут уже флажки развешены, и девушки букеты подносят…
Эльке странно было, что дед, вот такой, в тулупе и валенках, видел самого герцога, а она, Элька, нет. Впрочем, дед про герцога рассказывал часто и все время путался, может, привирал для важности.
– А какой он из себя, дед? – спросила она на всякий случай.
– Высокий. Стройный. Капитан яхты уж как пыжился, сверкал своими пуговицами, а ему до герцога далеко. Господин герцог посмотрит вот так, рукой поведет, и все… и все исполнять кидаются. Сразу видно, порода. И вежливый. Никогда голоса не повышал. Пан Йожеф наладил самых красивых девок, чтобы в павильонах прислуживать. Хм… – дед задумался, уставив бесцветные глаза в стену, на которой застыли в своей бесконечной игре цветные рыбки. – Лариска, мамка твоя, совсем еще девчонка пустоголовая, тоже там убиралась. Так она возьми и вазу разбей… Дорогущую, фарфоровую. И пан Йожеф ее выгнать хотел. А господин герцог заступился – видно же, что нечаянно.
Мама прислуживала герцогу?
Это было что-то новое. Обычно дед иссякал на пуговицах и капитане.
– У него была такая специальная кружка, из которой он пил целебную воду, – продолжал дед, – серебряная, в виде головы оленя. Он ее на цепочке носил, у пояса… Тонкая работа, чеканка. А так одевался скромно. В черное сукно, никаких шелков-бархатов…
Про скромность герцога Элька уже слышала. Назад в гостиницу она брела, так углубившись в себя, что два раза сошла с тропы, зачерпнув полные валенки снегу. Элька считать умела. Первый и последний раз герцог приезжал без одного пятнадцать лет назад. Она родилась весной, в марте, а значит… Элька давно подозревала, что она не на своем месте. Она, правда, полагала, что ее похитили цыгане, а потом подбросили семье рыбака. Или вообще… были обстоятельства. Бывают же обстоятельства? Иногда даже не крадут, просто отдают в бедную семью, потому что предсказание такое или рок… Обычно в таких случаях должно быть что-то – родимое пятно (у Эльки его вроде не имелось) или батистовые пеленки с вышитой короной (тоже не обнаружились, но ведь их могли спрятать или уничтожить). Но быть незаконной дочерью герцога, в конце концов, тоже неплохо.
Мама за шитьем любила петь жалобную песню: муж-угольщик рассказывает своей женке, что ихнего молодого короля в лесу растерзал дикий вепрь, а потом уходит в ночь жечь свой уголь, а женка его бросается к детской кроватке, будит дочку и глядит в ее серые глазки. Может, это она не просто так? Спросить, что ли? Ну, не то чтобы спросить, еще даст по уху, а так, намекнуть?
Убираясь в гостиничном номере, Элька теперь внимательно рассматривала себя в мутное зеркало. Глаза не серые, а желтые в крапинку, но ведь и у герцога неизвестно какие глаза. Может, желтые?
Дальновизорная линза иногда показывала герцога, перерезающего ленточку у заново отстроенного оперного театра (старый сгорел прошлой зимой) или разбивающего бутылку шампанского о борт нового парохода. Но как разглядишь, какого цвета глаза? К тому же, если честно, герцог не производил впечатления бабника. Его почти всегда сопровождали моложавая симпатичная жена и двое детишек: сын лет семи и дочка чуток постарше. Ну, он и не должен быть бабником, говорила себе Элька. У них с мамой было серьезно. У них была любовь. Но их разлучили злые советники. Понятное дело, так всегда бывает.
Эльку немножко смущали красные в цыпках руки и тощие, совсем неаристократические коленки, но по дальновизору как раз шла фильма про девушку, которая, как там говорилось, «в одночасье расцвела», и Элька вполне могла надеяться, что тоже расцветет в одночасье. Аристократы созревают поздно.
В осознании своего аристократического происхождения Элька стала задирать голову и говорить слегка в нос, пока в конце концов мать не спросила, чего это она так гнусавит, не простыла ли.
– Не-а, – Элька помотала головой, а потом осторожно спросила: – Ма, а чего ты никогда не рассказывала, что убиралась в лазнях, когда господин герцог приезжал?
– Да я ж рассказывала, – удивилась мать, – сколько раз. И чем ты слушала? Они все свое привезли – и ковры, и скатерти, и белье постельное… сгрузили с яхты… Скатерти белые, расшитые. И повара своего привезли, и даже котлы и сковородки. Он ходил, нос задирал, колпак белый… Вы тут, говорит, даже рыбу нормально приготовить не можете, а господин герцог любит, чтобы тонкий вкус…
Повара она, похоже, помнила гораздо лучше, чем герцога. Это несколько настораживало, но Элька отмела возможные подозрения.
– А какой он был, герцог?
– Бледный вроде, – неуверенно сказала мать, – желудком маялся. Повар так и сказал, чтобы ничего острого и на хорошем масле. И сюда приехал желудок лечить. Воду серную пил… У него была такая кружка серебряная, будто бы голова оленя…
Больше ничего Элька добиться не могла, зато у нее оставался простор для воображения. Герцог приедет летом пить целебную воду и увидит, как она, Элька, поливает вазоны на галерее, вся такая задумчивая. «Кто эта прекрасная девушка, расцветшая в одночасье?» – спросит тогда герцог, и когда ему скажут, что, мол, дочь такой-то, побледнеет и велит: «Подойди сюда, девочка». А потом возьмет ее твердой рукой за подбородок и посмотрит ей в глаза. «У нее мои глаза!» – скажет он. Дальше Элька еще не решила, заберет ли он ее с собой – и ее будет травить и мучить злая мачеха, или оставит здесь и даст ей тайный знак, какую-нибудь брошь или, скажем, кружку в виде головы оленя, чтобы она обратилась к нему, буде окажется в крайней нужде. И когда настанет крайняя нужда…
– Что с ней делается, не пойму, – говорила мать близняшкам, которых в сезон и за людей не считала, – ползает как сонная муха, на все натыкается, под нос бормочет.
Тайна поселилась внутри Эльки и приятно грела. Даже насмешки других учеников и язвительные замечания пани Ониклеи она переносила спокойно, потому что они не знали, а она знала. Она даже начала ходить в поселковую библиотеку и читать подшивку журнала «Модная женщина», чтобы знать, как себя вести если что. И тренировалась держать вилку в левой руке, а ножик – в правой; иногда, правда, роняла куски на скатерть, но потом наловчилась. Мама несколько раз украдкой щупала ей лоб и тяжело вздыхала, однако Элька смотрела высокомерно и загадочно. Точь-в-точь как пани с картинок в «Модной женщине».
А темным зимним вечером услышала плач в море.
Элька как раз выносила помои, их выплескивали на задах гостиницы, где уже образовалось пестрое застывшее ледяное озеро. Помои выплескивала не только она, и каждая новая ледяная лужа была ближе предыдущей. В общем, Элька ступала осторожно, на цыпочках, чтобы не загреметь вместе с ведром. И услышала плач.
Он шел со стороны моря. Тихий-тихий.
Если бы она шла быстро, то, наверное, и не заметила бы.
Было похоже, что плакал ребенок; в деревне любили петь жалобные песни о выброшенных после крушения на берег младенчиках, к которым никто не пришел, потому что бедные рыбацкие вдовы принимали их плач за вопли чаек или вскрики ветра. Элька, слушая эти песни, очень переживала и уж точно не хотела такого камня на совести: она поставила ведро и, оскальзываясь, заспешила к берегу. Каменная насыпь, над которой высилась гостиница, обледенела, и Элька пару раз приложилась задом к холодным булыжникам. Под насыпью лежала полоса темного песка и ближе к морю – такого же темного льда, разве что в нем отражались крупные страшные звезды, висящие в зеленоватом небе. В этом искрящемся льду было черное пятно. Слишком большое, чтобы обернуться младенчиком.
Она все же подошла, сдерживая дыхание. В кухонном окне кто-то раздернул занавеску, и на лед упал квадрат света.
Тюлень лежал на льду и сопел, выкатив круглые карие глаза, в каждом – по крохотному освещенному окошку. Элька подумала, что он нечаянно выбросился на берег и не может уползти обратно в море. То, что тюлени по суше худо-бедно способны передвигаться, от неожиданности не пришло ей в голову.
Секунду она колебалась, потом решила поступить, как подобает благородной пани. Она подошла к тюленю и пнула его ногой. Нога была обута в валенок, а пнула тюленя Элька, чтобы откатить к воде, тюленю было не больно, но обидно, он раскрыл рот с мелкими зубами и гавкнул, точно собака. Однако не двинулся с места; Элька разглядела, что тюлень как бы погрузился в лед, и теперь со всех сторон был прихвачен черной коркой. Корка была черная, потому что на боках тюленя виднелись глубокие порезы.
Тюлень сопел и смотрел на нее круглыми глазами.
– Ох, ты, горе ты мое, – сказала Элька по-взрослому. – И что мне с тобой делать?
Она вытерла нос рукавом и задумалась.
Один раз она видела, как рыбаки убивали выброшенного на берег тюленя, и это зрелище ей не понравилось. Элька вообще тяжело переживала чужую боль, пускай даже и всякой животины.
– Сичас, – сказала Элька и, загребая валенками, чтобы не поскользнуться, побежала обратно на пригорок, к оставленному ведру.
Ведро с теплыми помоями стояло и дымилось на морозе. Элька взялась за остывшую ручку, зашипела, но осторожно подняла ведро и снесла его вниз, к воде. Здесь, широко размахнувшись, она выплеснула его под тюленью круглую тушу. Еще раз подтолкнула тюленя ногой, а потом, нагнувшись, обхватила руками и, когда подтаявший лед подался, потащила к воде. Тюлень упирался. По льду тянулся кровавый след, далеко же он уполз. Ума нет, что возьмешь с твари.








