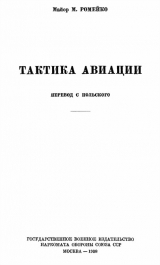
Текст книги "Тактика авиации"
Автор книги: Мариан Ромейко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Современное наступление на укрепленную позицию отличается тем, что находится в зависимости от возможности сильной поддержки со стороны артиллерии и от успешности ее огня.
Рассчитывая поэтому успех хорошо подготовленного и организованного наступления, мы приходим к убеждению, что оно будет удачным тогда, когда наша артиллерия сможет стрелять, т. е. будет иметь хорошую разведку и хорошее наблюдение.
Если местность не изобилует хорошими наблюдательными пунктами (что чаще всего и бывает), необходимо воздушное наблюдение. Местность холмистая создает во многих случаях для артиллерии известные трудности: она открывает наблюдателю вид на одни участки местности, но закрывает от него ряд других участков. Что же касается тяжелой дальнобойной артиллерии, то даже при наличии хороших наблюдательных пунктов она нуждается в непосредственном воздушном наблюдении.
Итак, вкратце: мощное наступление требует мощного огня. Успешность огня зависит от хорошего наблюдения. В современном мощном наступлении должно применяться воздушное наблюдение. Рассуждая обратным путем, мы пришли бы к выводу, что если воздушного наблюдения нет или если оно плохо работает, нет и успешного огня, и, следовательно, сомнителен успех даже хорошо организованного наступления.
Поэтому нужно во что бы то бы стало облегчить работу воздушного наблюдения. Нужно создать возможность относительно спокойной работы. Этой цели служит истребительная авиация, не допускающая, чтобы противник препятствовал работе нашей авиации.
Можно задать вопрос: действительно ли в наступлении для нашей истребительной авиации важнее всего «стоять на страже» действий собственной авиации? Не полезнее ли было бы препятствовать работе неприятельской авиации? Это нужно рассмотреть.
Мы намереваемся сломить сопротивление противника артиллерийским огнем. В это самое время противник будет стремиться задержать нас тоже огнем своей артиллерии. Иными словами, как мы, так и он, оба будем вести огонь с помощью воздушного наблюдения. Если, однако, наши приготовления и первоначальные расчеты были правильны и если мы располагаем соответствующим количеством сил, то мы уже с самого начала, обезвредим огонь противника огнем собственной артиллерии. Вследствие этого нет необходимости бросаться на средства его воздушного наблюдения, если эти средства не в состоянии управлять подавленным нами артиллерийским огнем. Поэтому в хорошо организованном наступлении по отношению к действиям неприятельской авиации следовало бы положить себе за правило говорить так: «Делай что хочешь. Мои расчеты хороши. Поскольку мое наблюдение действует, т. е. мой огонь успешен, я сокрушу тебя, несмотря на твою разведку и на твое наблюдение».
Поэтому возложение на истребительную авиацию оборонительной задачи будет в наступлении весьма целесообразно. Удар на земле тактически и оперативно будет наступательным; в воздухе характер действий истребителей будет оперативно-оборонительным, тактически же, как всегда для истребителей, наступательным.
Иначе обстоит дело в обороне. Для обороняющегося важнее всего будет сделать невозможным ведение меткого огня неприятелем. Если желательно парализовать ведение им артиллерийского огня, нужно прежде всего подавить его воздушное наблюдение. Поэтому в данном случае главной задачей истребительной авиации будет воспрепятствовать работе авиации наблюдения противника и его привязных аэростатов или сделать эту работу невозможной; это – наступательные действия.
Можно было бы по этому поводу задаться вопросом, что важнее: дать возможность работать собственной авиации или препятствовать работе неприятельской авиации? При этом следовало бы исходить из той правильной предпосылки, что обороняющийся находится в положении до известной степени лучшем, чем наступающий. Преимущества местности на стороне обороны. Оборона имеет возможность замаскировать свои сооружения, ознакомиться с местностью, лучше подготовиться. Можно было бы поэтому вложить в уста обороняющегося следующий тезис: «Я так хорошо подготовился, т. е. окопался, замаскировался, ознакомился с местностью, пристрелялся и т. д, что, если мне удастся сорвать неприятельский план ведения успешного огня, из его наступления ничего не выйдет».
Таким образом, оперативно и тактически обороняясь на земле, мы в воздухе будем проводить действия истребителей оперативно и фактически наступательные.
Чтобы закончить этот разбор, мы хотели бы довести его до воздушного боя.
Перед нами две воли: наступающего и обороняющегося. Наступающий начинает действия. Его самолеты командования, артиллерии, пехоты находятся в воздухе и выполняют свою работу. Несколько выше этих самолетов, в больших или меньших группах, несет охранение собственная истребительная авиация, не допускающая, чтобы линейная авиация испытывала помехи в своей работе.
Тем временем обороняющийся узнает о начатом наступлении. Он высылает собственную истребительную авиацию с заданием препятствовать работе неприятельской авиации. Истребительная авиация сближается и стремит подойти вплотную к самолетам командования, артиллерии, пехоты. Ей преграждает путь истребительная авиация противника. Она должна поэтому принять бой, чтобы, поразив истребителей противника, открыть себе путь к основной цели. Поэтому первые бои над полем сражения будут происходить всегда между истребителями обеих сторон. Только поразив истребительную авиацию, можно подойти к линейным самолетам. Следовательно, если истребительная авиация может проводить оборонительные действия даже меньшими силами, действия наступательные следует проводить ударно и большими силами, так как важно возможно скорее поразить прикрытие и добраться до самолетов командования, артиллерии и пехоты.
***
Перейдем теперь к другим действиям истребительной авиации и прежде всего к охранению войск на участках скоплений, во время маршей, высадок, переправ и т. д. Это излюбленные задания штабов для истребительной авиации, даваемые особенно во время военных игр. Остановимся на этих заданиях.
Рассмотрим вопрос об охранении войск от воздушной разведки противника. В этом случае речь идет о том, чтобы противник не наблюдал нашего движения. Это значит, что если бы противник пожелал произвести разведку в то время и в том месте, где мы совершаем свое передвижение, этому следует воспротивиться силой и сделать его разведку невозможной. В какой степени это осуществимо?
Наиболее часто на военных играх истребителям предъявляется требование – охранять переход крупного соединения (пехотной дивизии) днем. Из этого примера мы и будем исходить. Представим себе, что наша пехотная дивизия должна совершить переход приблизительно в 20 км из района А в район В (схема 12). Местность – отрытая.

Схема 12.
Рассчитаем прежде всего, как долго длился движение, т. е. в течение какого времени нужно охранение. Ошибка в вычислениях штабов заключается в том, что они просто арифметически делят 20: 4 = 5 часов, полагая, что движение продолжается только пять часов. Но дело обстоит не так.
Через исходный пункт Х дивизии должна пройти своей головой в N часов. Еще, до этого вся дивизия уже тронулась из пунктов своего расположения, направляясь разными путями и исходному пункту Х. Движение началось, положим, на 2 часа раньше. В течение этого времени дивизию также нужно охранять от разведки.
По истечении 5 часов после прохождения исходного пункта Х голова колонны, длиной, примерно, в 18―20 км, очутится в пункте Y перед районом нового расположения. Но хвост колонны будет еще подтягиваться к этой точке в течение 5 часов. Это время мы должны также охранять войска от разведки.
Таким образом, весь переход (только в 20 км) будет продолжаться не 5, а 5 + 5 + 2 = 12 часов. Следовательно, охранение должно осуществляться в течение всего времени движения, т. е. 12 часов.
Дальше. Мы хотим, охранять себя от разведки. Что это может быть за разведка и на какой высоте она может вестись? Если мы находимся в ближнем тылу (20–30 км за фронтом), противник может вести одновременно:
– ближнюю разведку, на высоте от 1 200 до 2 000 м,
– дальнюю разведку, на высоте от 2 500 до 5 000 м.
Поэтому, если мы хотим осуществить надежное охранение, мы должны принять во внимание оба эти обстоятельства. Из устава известно, что истребительный патруль может охранять полосу над дорогой высотой только в 1 500 м. Отсюда вывод, что наше охранение в высоту должно быть по крайней мере двухэтажным: первый этаж где-нибудь на высоте 1 500—2 000 м, второй – на высоте 3 000—4 000 м.
Далее. Из устава известно, что патруль в состоянии успешно охранить пространство в 10–12 км. Длина нашей колонны составляет около 18–20 км и, следовательно, должна быть разделена для целей охранения на два отрезка.
Теперь рассчитаем, сколько нужно полетов, чтобы обеспечить этот переход в 20 км.
2 отрезка по 2 патруля по 3 самолета по 2 этажа —12 самолето-полетов в течение 2 часов.
В течение 12 часов нужно выполнить 72 самолето-полета, что представляет собой дневную работу 1½—2 истребительных дивизионов.
Теперь ясно, чего стоит такое обеспечение марша и можем ли мы его себе позволить.
Если бы мы захотели обеспечить переход этой дивизии от воздушного нападения, численность истребительной авиации, потребная для этого рода операции, возросла бы непомерно. Ведь ясно, что если противник решит произвести нападение днем, он применит крупные силы авиации. Чтобы успешно противостоять крупным силам, необходимо иметь в воздухе тоже крупные силы. Поэтому нужно охранять себя на нескольких этажах и не патрулями по 3 самолета, а значительно более крупными группами. Этого мы также не можем себе позволить.
Из этого, казалось бы, следует, что здесь мы расходимся с уставом, но это не так. Устав говорит об выполнении, о тактике, тогда как я ввожу оперативные факторы: потребность и возможность, о которых мы и будем говорить.
Вернемся еще раз к вопросу об обеспечении от разведки (особенно об обеспечении маршей). В наших условиях это невозможно. У нас для этого нет достаточных средств. К тому же, это обеспечение мало действительно. Трудно помешать самолету противника проникнуть в наше расположение. Охранение маршей от разведки и, следовательно, соблюдение тайны, должно в наших условиях осуществляться иначе: или командование предписывает ночные марши, или марш совершается расчлененно, или выбираются дороги подлиннее, но лучше укрытые (леса, населенные пункты, дороги, усаженные деревьями). Если все это невозможно, нужно считаться с тем, что тайна марша соблюдена не будет. И в наших условиях ничего тут не поделаешь. У нас слишком мало сил; они найдут лучшее применение на поле боя.
Но хороший штабной работник всегда должен найти наиболее выгодное решение. Если для перехода всего соединения ночи нехватает, т. е. если на рассвете будет еще виден хвост подтягивающейся колонны, переход этого хвоста можно обеспечить на короткое время его подтягивания. С этим мы справиться сможем. Можно, наконец, распорядиться, чтобы переход был начат раньше, еще до сумерек, и организовать охранение в течение короткого промежутка времени до наступления темноты [22]22
Всегда, однако, лучше выступить в сумерки и подтянуться к утру. Авиация обыкновенно вечером занимается определением вечернего положения, а утром на рассвете ее разведка затруднена туманом.
[Закрыть]. Могут быть, конечно, такие исключительные положения, когда командование будет заинтересовано в сохранении тайны перехода во что бы то ни стало и не будет жалеть сил истребителей. В этом случае истребительная авиация должна будет дать максимум усилий. Но такой исключительный случай не следует обобщать. Понимая, с какими усилиями это сопряжено, нужно уметь обходиться без охранения истребительной авиацией.
Несколько иначе представляется дело, когда речь идет об охранении от нападения с воздуха. Здесь дело идет уже не о соблюдении тайны, а о сохранении боеспособности войск. Эту задачу необходимо признать важнейшей.
Но и тут мы встречаемся с той же трудностью – с недостатком средств. Приходится поэтому находить известный компромисс между потребностью и возможностью. Таким компромиссом будет применение противовоздушной обороны войсковых частей в те моменты, когда эти части оказываются в наиболее опасном положении, например, во время движения по мостам, во время движения по длинным и открытым гатям и вообще во время движения через всевозможные узости и т. д. Эти движения будут не очень продолжительны, и потому обеспечение их от воздушных нападений будет возможно. В других случаях охранять войска истребительная авиация не в состоянии. Они должны сами себя охранять либо путем расчленения, либо путем маскировки, либо соответствующими средствами противовоздушной обороны, либо, наконец, с помощью ночных маршей, маршей в лесу и т. д.
Для того чтобы исчерпать этот вопрос, остается упомянуть еще об одной возможности охранения войсковых частей. То, о чем я говорил до сих пор, касается того случая, когда авиация непосредственно охраняет марши, т. е. когда во время движения войск она находится в воздухе над охраняемыми частями или вблизи них. Но можно еще применять и другой способ – способ вылета по тревоге. Он состоит в том, что авиация не находится в воздухе, а в полной готовности выжидает на ближайшем аэродроме. Как только она получает сообщение, что неприятельская авиация перелетела фронт, она немедленно поднимается в воздух и направляется к тем частям, которые подвергаются опасности нападения. Этот способ охранения является значительно более экономным, поскольку здесь авиация не тратит времени и сил на пассивное ожидание противника, который может появиться, а вылетает лишь тогда, когда угроза со стороны противника становится действительной. Кроме того, в данном случае истребительная авиация может одновременно противопоставить, противнику значительно большие силы.
Со всей, однако, силой подчеркиваю, что этот способ охранения с вылетом по тревоге возможен лишь в следующих случаях:
– когда аэродром истребительной авиации находится близко от охраняемых частей (не далее 20 км);
– конца имеется специальная сеть связи, т. е. имеется сеть постов для наблюдения и предупреждения на фронте и непосредственная связь с истребительной авиацией;
– когда марши охраняемых частей выполняются на расстоянии по крайней мере 40–50 км от линии фронта, так как в противном случае авиация противника очутится над ними прежде, чем собственная истребительная авиация [23]23
Положительные результаты может дать применение засад.
[Закрыть].
Такие условия возможны исключительно на участках прочно установившегося фронта. В маневренной войне о подобных условиях не может быть и речи. Не следует поэтому заблуждаться насчет того, когда можно применять этот способ охранения с вылетом по тревоге.
Вообще следует помнить, что охранение маршей, районов сосредоточения и т. п. от разведки противника для нас почти неосуществимо. Охранение же войск от воздушных нападений иногда возможно, но его нужно ограничить в отношении времени и пространства. Мы сможем охранять войска от воздушных нападений только в самые опасные моменты, длящиеся недолго (до 3–4 часов).
ГЛАВА VIII
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ БОМБАРДИРОВОЧНОЙ АВИАЦИИ
Бомбардировочная авиация является средством высших ступеней командования (главнокомандующий и командующий армией) и, согласно нашему уставу, предназначается для выполнения своих заданий в основном ночью.
Современные военные авторитеты придают огромное значение действиям бомбардировочной авиации. Память о мировой войне еще достаточно свежа, а развитие этого рода авиации слишком мощно, чтобы, с одной стороны, не стремиться обеспечить себя от последствий бомбардировочных налетов (отсюда возникновение противовоздушной обороны), а с другой – не искать способов наиболее рационального ее применения.
Желая дать в самом начале определение этого рода авиации, мы должны были бы назвать ее оружием преимущественно наступательным. Это как бы дальнобойная артиллерия усиления.
Располагая столь могущественным средством, высшее командование должно уметь пользоваться им целесообразно. Роль командования при применении бомбардировочной авиации очень велика, и может быть именно в отношении бомбардировочной авиации роль эта проявляется наиболее сильно и наиболее явственно.
Теперь о разделении труда: командование должно определить задачу, указать цели, поставить требования; работа же летчика сводится к проведению расчетов, подготовки и исполнения. Гибкость в применении бомбардировочной авиации особенно очевидна: только конкретное положение может продиктовать конкретное решение. Это обстоятельство значительно затрудняет работу командования, а также повышает ответственность за принятое решение. Поэтому, принимая во внимание эту «гибкость», следует умело пользоваться уставом, который, наряду с сухим перечислением способов и целей бомбардирования, предоставляет довольно большую свободу как ставящим задания (командованию), так и исполнителям (летчикам).
***
Бомбардировочная авиация есть средство уничтожения. Ею можно пользоваться в различных случаях. Для того чтобы обеспечить подлинно рациональное ее использование, необходимо прежде всего поставить перед собой задачу. Поскольку речь идет об общих принципах, с точки зрения высшей ступени командования (главнокомандующего), задачи могут быть двоякого рода:
1) политические (в основном моральные),
2) военные (в основном материальные).
Хотя я не буду заниматься вопросом применения авиации главнокомандующим, тем не менее не будет неуместным упомянуть для сведения, каких больших политических (моральных) результатов можно добиться воздушной бомбардировкой.
До 1914 г. фронт и тыл размежевывались довольно точно. На фронте лилась кровь, а в тылу жизнь шла нормально. Бомбардировочная авиация выключила понятие линии фронта, создала угрозу тылу, стала угрожать жизни и работе гражданского населения, непривычного, неподготовленного, беспомощного, наконец, панически настроенного перед лицом возможной опасности для жизни.
Паника же является разрушительницей всякой организации труда. Мы знаем, каких больших усилий придется требовать от тылов в современных условиях; мы знаем, что ведение войны требует большой производительности и четкой работы транспортных и снабженческих органов.
Дезорганизация работы в тылу приводит прежде всего к материальной и моральной дезорганизации. Обмен впечатлений между «тылом» и «фронтом» переносит панику и упадок духа на фронт.
Поэтому независимо от того, какую цель поставило перед собой командование при бомбардировании, политическую или военную, т. е. моральное подавление населения или уничтожение объектов, факт бомбардирования гражданского населения в тылу приводит к весьма важным последствиям.
Это вопросы не новые. В настоящее время, в связи с воздушной угрозой для гражданского населения, проблема противовоздушной обороны стала актуальной. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы сделать несколько замечаний. Не каждое государство имеет «право» начать бомбардирование гражданского населения! Существует возмездие. Если кто-нибудь чувствует себя настолько сильным, что не боится возмездия, если он в состоянии неоднократно отомстить за него, тот может себе позволить бомбардирование тылов, имея в виду политико-моральные цели.
В 1917 г. тайный советник профессор Габер предложил ген. Людендорфу ввести новый газ «желтый крест», но при условии, что война закончится в течение одного года. Он полагал, что если бы война продлилась дольше, немцы, введя «желтый крест» (иприт), должны были бы, безусловно, проиграть, так как, вероятно, по истечении года противнику удалось бы воспроизвести этот газ. «Вводя «желтый крест», Людендорф рисковал поэтому многим…», – говорит ген. Гофманн.
Здесь говорила боязнь возмездия. А вот пример уже из области авиации, заимствованный из сочинения ген. фон-Гепнера, командовавшего германскими воздушными силами во время мировой войны:
«…Как раз в это время (1918 г.) столица Англии ощутила результаты действия бомбы в 1000 кг …»
«…Англичане и французы различно реагировали на бомбардирование с воздуха. Английская печать высказалась за мощное возмездие со стороны англичан. Париж, острее ощущавший последствия бомбардирования, чем Лондон, стоит за соглашение с Германией в вопросе о бомбардировочных налетах. В парламенте социалистические депутаты предложили правительству вступить с Германией в переговоры, чтобы ограничить бомбардирование».
«…21 марта 1918 г. верховное командование германской армии было уведомлено рейхстагом о необходимости сокращения воздушных налетов на тылы союзников, так как население южной и юго-западной частей империи подвергается опасности постоянного бомбардирования союзниками, находится в ужасном положении и взывает о помощи».
Цитированные места ясно показывают, что возмездие иногда сильнее по своим последствиям, чем сам налет.
На этом мы закончим замечания о «политических целях» бомбардирования и перейдем к нашей теме, т. е, к разбору вопроса о «военных целях» в масштабе армии.
***
Как я уже упоминал, рациональное применение бомбардировочной авиации зависит исключительно от высшего командования. Правильно выбранная цель, правильно определенное «время» обеспечивают по крайней мере одну треть успеха. Следующая треть приходится на долю летчиков. Это расчет сил и средств, четкая подготовка и исполнение, Последняя же треть зависит от атмосферных условий, от противовоздушной обороны противника и т. п.
Рациональное применение бомбардировочной авиации зависит от умения дать верный ответ на вопросы:
Что, когда, как и чем бомбардировать?
Эти четыре вопроса делятся на две группы. Первая группа: «Что и когда?» – дело исключительно штабов с учетом совета авиационного командира. Другая группа: «Как и чем?» – дело исключительно авиационного командира с учетом совета штаба.
Что и когда бомбардировать?
Человеческая натура весьма широка, а потому на этот вопрос можно получить ответ: «Погуще и почаще». Устав это предвидел и ограничил объекты. Вот уставные слова (§ 213):
«Объектами ночного бомбардирования являются цели, расположенные в глубоком тылу противника, как-то: железнодорожные станции, особенно узловые, аэродромы, магазины, склады военных материалов, центры военной промышленности и т. д.»
Как видим, это «ограничение» совершенно недостаточно. Оно, является ограничением объектов только в отношении их назначения, работы, названия, но не в отношении их количества. Если представить себе непосредственно интересующие нас тылы неприятельской армии, нетрудно уяснить себе, что:
– железнодорожных станций очень много;
– аэродромов по крайней мере несколько и притом для различных видов авиации;
– магазинов, складов по меньшей мере несколько десятков;
– центров военной промышленности в прифронтовой полосе обыкновенно нет;
– наконец, «и т. д.» оставляет широкое поле деятельности для бомбардировочной авиации.
Наиболее характерным в этом перечислении объектов является то, что устав не упоминает о целях на поле боя, исходя из того, что объектами для бомбардировочной авиации ночью могут быть только такие цели, которых нельзя будет поражать артиллерией.
Из этой бездны объектов командование должно точно указать важнейшие для него цели. Чем же ему здесь руководствоваться?
Анализ обстановки, т. е. разбор собственных намерений и положения противника в данный момент, – вот единственные предпосылки, которые позволят командованию дать правильный ответ на вопрос: «что и когда?»
Расчет сил и средств, оценка противодействия противника – вот предпосылки, которых нужно требовать от летчика в ответ на вопрос: «чем и как?»
***
Прежде чем продолжать этот разбор, следовало бы еще поговорить об обыкновенно спорном понятии «уничтожения» чего-нибудь. Что значит уничтожить? Совершенно разрушить – так, как это может сделать артиллерия? Парализовать? Если да, то на какое время? Повредить? Но что этим будет достигнуто?
При оценке наших возможностей (количество и качество средств и целей) нужно быть осторожным и осмотрительным. Полное разрушение, в особенности большого, прочного объекта, для авиации вообще почти неосуществимо. Типичным заданием для бомбардировочной авиации будет парализование данного объекта на более или менее продолжительное время. Чем больше сил будет применено, чем меньше объект; чем менее он прочен (как постройка) и чувствителен, тем дольше будет период парализованности. Объем предназначенного для бомбардирования объекта имеет пределы: в объект очень небольших размеров попасть (ночью) так трудно, что его не стоит бомбардировать. Поэтому наш устав правильно умолчал о мостах, бомбардирование которых так наруку командованию, особенно в военных играх.
Расчеты нужно поэтому строить на понятии парализования объекта на определенное время. В тех случаях, когда бомбардируются постоянные, крупные, неподвижные цели (например, железнодорожные сооружения, склады, аэродромы), парализование их будет связано с повреждениями, которые, будучи значительными, приведут к необходимости переоборудования или ремонта, что иногда требует большого времени и большой работы.
Возможно, что командование будет заинтересовано в том, чтобы затруднить нормальное действие того или иного объекта путем его бомбардирования через определенные нерегулярные промежутки времени.
Наш устав предусматривает подобную возможность, определяя такие действия словом «беспокоить». Вообще говоря, понятие «беспокоить» означает производить моральное впечатление.
«Беспокоящие» действия бомбардировочной авиации могут быть очень целесообразны. Требуя расхода значительно меньших сил, они во многих случаях приводят к серьезным последствиям. Следовало бы, однако, подчеркнуть, что постоянное применение действий, исключительно беспокоящих, дает небольшие результаты. До этого противнику необходимо дать почувствовать настоящее бомбардирование, проведенное с большой силой и причинившее серьезные потери. Только тогда, когда противник ощутил и помнит тяжелые последствия мощного налета, дальнейшие, пусть даже мелкие, налеты на этот же объект, проводимые уже преимущественно для того, чтобы вызвать панику, чтобы «затруднить нормальную деятельность того или иного объекта», дадут немаловажные результаты.
Собственно говоря, каждое бомбардирование должно в ближайшее же время, т. е. в следующую же ночь, сопровождаться беспокоящими действиями. Это представляется целесообразным хотя бы потому, что вызванные бомбардированием разрушения будут тотчас исправляться. Поэтому организация нового бомбардирования (беспокоящего характера), когда кипит работа над восстановлением объекта, неминуемо вызовет панику и перерыв в работе по крайней мере на ночное время.
Наиболее подходящими для беспокоящих действий являются те объекты, которые должны выполнять регулярную работу ночью, как, например, железнодорожные узлы, распределительные станции, иногда разгрузочные станции, штабы. Но еще раз подчеркиваю: беспокоить хорошо тогда, когда предварительно было выполнено настоящее бомбардирование.
Если речь идет о приближенном расчете сил для бомбардирования, нужно помнить, что всякий налет бомбардировочной авиации с целью уничтожения (парализования или причинения серьезных повреждений) будет действителен только в случае, если он осуществляется крупными силами.
Обстоятельное ознакомление с работой летчика, т. е. с расчетами сил и средств для бомбардирования того или иного объекта, завело бы нас слишком далеко. Во-первых, это – весьма относительные расчеты, зависящие от наличной материальной части, от удаленности цели, от состояния погоды, от характера цели, от видимости, особенно ночью, и т. д. Каждая цель требует особых расчетов. Во-вторых, нужно признать, что эти расчеты еще недостаточно разработаны (не только у нас).
При исчислении необходимых средств, вообще говоря, мы не сделаем ошибки, если применим «штабной» принцип, гласящий так: желая достигнуть уничтожения или серьезного повреждения, нужно на один объект направить по крайней мере бомбардировочный дивизион. Дивизион представляет собой мощную огневую силу; он может выполнить требования, предъявляемые командованием.
Но в работе штабов будут трудности, обусловленные количеством бомбардировочной авиации, имеющейся в распоряжения. В армии будет находиться один дивизион и лишь в исключительных случаях – два; это будет уже вводом в дело резерва главнокомандующего. Имея только один дивизион и много целей для бомбардирования, необходимо поистине глубоко проработать и продумать выбор цели, «наиболее важной» в условиях данной обстановки. Дальше мы покажем, что объекты, бывшие еще утром «наиболее важными», уже по истечении нескольких часов, в связи с изменившейся обстановкой, могут отойти на задний план.
Что касается расчета сил, необходимых для «беспокоящих» действий, то, как я уже говорил выше, эти действия будут требовать меньших сил и средств. Нельзя наперед определить характер беспокоящих действий; в одном случае достаточно будет в течение ночи выслать только несколько самолетов через промежутки времени в 2–4 часа, в других же случаях обстановка потребует большей частоты беспокоящих действий. Сила и частота налетов для беспокоящих действий будут зависеть от интенсивности ночной работы данного объекта, от того, кто работает, войска или гражданское население, от последствий ранее проведенного бомбардирования и т. д.
***
Эти общие предпосылки позволят приступить к рассмотрению нескольких примеров бомбардирования в масштабе армии. В каждом, однако, отдельном случае всегда нужно начинать с вопроса:
– что в данном случае требуется командованию?
Возьмем в качестве примера период сосредоточения.
Допустим, что у противника началась мобилизация.
Что требуется нам? Быстрое проведение собственной мобилизации и начало собственного сосредоточения. Кроме того, хорошо было бы помешать мобилизации противника.
Возможно ли это? Повидимому, нет. Слишком велико количество гарнизонов, в которых проводится мобилизация, слишком различны мобилизационные сроки и, кроме того, слишком малы цели. Приграничные гарнизоны, находящиеся близко и потому легко достигаемые, мобилизуются быстро. Войсковые части выступают из них тотчас. Поэтому есть риск, что, совершая на них налет, попадешь в пустоту или будешь иметь дело с оставшимися, сравнительно слабыми зачатками новых формирований. Не направиться ли лучше на железнодорожные узлы? В этом нужно разобраться.
Железнодорожное движение мобилизационного характера сравнительно слабо, так как, помимо немногочисленных поездов, перевозящих призванных, это движение заключается в стягивании в глубь страны пустых составов. Если бомбардирование железнодорожных узлов начать уже теперь (рассчитывая на парализование их на период сосредоточения), это будет ошибкой, ибо, если они будут серьезно повреждены, противник имеет возможность:








