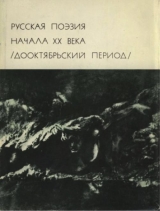
Текст книги "Русская поэзия начала ХХ века (Дооктябрьский период)"
Автор книги: Максим Горький
Соавторы: Алексей Толстой,Анна Ахматова,Борис Пастернак,Марина Цветаева,Валерий Брюсов,Федор Сологуб,Константин Бальмонт,Илья Эренбург,Осип Мандельштам,Саша Черный
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
(дооктябрьский период)
Вступительная статья и составление: Евг. Осетрова.
Примечания: В. Куприянов, Е. Плотникова (к иллюстрациям).
Е. Осетров. НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В последние годы явственно обозначился повышенный читательский интерес к русской классической поэзии, а также к поэзии начала двадцатого века. Проявлению напряженного внимания способствовали серьезные причины, в числе их не последнее место занимает желание нового, обогащенного современностью, прочтения Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Баратынского, Тютчева, Фета, а также Блока, Маяковского, Бунина, Есенина, Брюсова… Выросли и новые поколения читателей, жаждущие составить собственное представление о таких неоднозначных поэтических фигурах, как Иннокентий Анненский, Андрей Белый, Велимир Хлебников, Марина Цветаева, Федор Сологуб, Максимилиан Волошин, Константин Бальмонт… Надо отметить, что наука сделала в последнюю пору немало, чтобы разобраться в сложном литературном мире начала столетия, отбросить мифы и наслоения, полемические гиперболы, произносившиеся в пылу споров, перекочевавшие позднее на страницы учебных пособий. Дурную услугу оказали зарубежные издания, где наряду с серьезными и глубокими работами знатоков-русистов (интерес к нашей культуре огромен и растет во всем мире!) появлялись всевозможные исторические сенсации, отдающие пресловутой «развесистой клюквой», а иногда и откровенным политиканством.
Конец девятнадцатого века и первые семнадцать лет – до Октября – пролетарский этап освободительной борьбы, становление ленинской партии – время трех революций. Октябрь потряс мир. Произошла смена всемирно-исторических формаций. В борьбе и муках рождалась новая социальная система, еще никогда не виданная в истории человечества. Поэзия, всегда бывшая в России чутким эхом действительности, не могла не испытать глубину и силу социальных катаклизмов, расколовших планету, ощутимых едва ли не во всех краях света. Можно сказать, что век двадцатый – «поистине железный век» – вступил в права под звуки пламенного революционного призыва, прозвучавшего на всю страну: «Пусть сильнее грянет буря!» Свидетели и участники незабываемых событий, вдохновенно певшие «Интернационал» и «Варшавянку», отмечали, что тогда стихи с революционным содержанием становились прокламациями, а прокламации писались, как стихи. Литература запечатлела на своих страницах такой важнейший исторический этап, как перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, перегруппировку сил на мировой арене, когда Россия стала центром мирового революционного движения.
«Дистанция времени» дает возможность провести четкий водораздел между литературно-общественными течениями, – его в начале века замечали лишь наиболее дальновидные. Охранительной поэзии как таковой тогда просто-напросто не существовало, ибо нельзя же считать стихами бездарные вирши, время от времени появлявшиеся на страницах консервативных изданий, которые не принимались всерьез. Политические потрясения и революции не могли не оказывать влияния даже на тех поэтов, которые почитали себя жрецами «чистого искусства» и проповедовали бегство от действительности, видя в удалении от жизни панацею от всех бед современности. Молодая пролетарская поэзия, звавшая на борьбу, проникала в сознание разнообразными путями, преодолевая эстетское пренебрежение к себе, гремя во весь голос на улицах, площадях, на летучих собраниях и маевках. Особенно большую действенную силу несло песенное слово, имевшее полуфольклорное-полукнижное происхождение. «Смело, товарищи, в ногу…» и «Мы кузнецы…» были для манифестантов оружием, своего рода – «булыжником пролетариата». Романтические образы молодого Максима Горького, нарисованные им в «Песне о Соколе» и в «Песне о Буревестнике», пронизанные пафосом «безумства храбрых», воспринимались как непосредственный призыв к революционному действию. Горький, который первым увидел, по ленинскому определению, «человека будущего в России», и его окружение – поэты «Звезды» и «Правды», молодые пролетарские стихотворцы – создавали литературу действия, которая говорила о том, «как надо жить и действовать», бывшую прообразом литературы, заявившей о себе на весь мир после семнадцатого года.
Под воздействием большевистской печати вызревал и формировался отмеченный народностью талант Демьяна Бедного, принимавшего активное участие в работе редакции «Звезды», а затем и «Правды». Популярность получили его басни, в создании которых он опирался на основательно забытые к началу века в литературе традиции Ивана Крылова. Эзопов язык притч-сатир Демьяна Бедного пришелся по душе демократическому, скорее даже революционному читателю, ибо обращался к его ироническому складу ума, умеющего уловить политический намек, понять соль шутки, когда вместо обещанной «сотенной свечи» предлагался «копеечный огарок». Ненавистью к «господину Купону» были отмечены ранние стихи Маяковского.
Несмотря на песенную громогласность, распространение пролетарской поэзии, олицетворяемой именами Шкулева, Нечаева, Благова, Тарасова, Гастева, множеством других, было сильно затруднено, связано с многими цензурными и иными мытарствами, что и приводило к частой анонимности ее бытования. Многие книги не каждому попадали в руки, и подпольные стихи были укрыты от власть имущих, как шубой, – по образному выражению Николая Асеева, – сочувствием масс. Высоким примером для молодых пролетарских поэтов служили гордые образы Максима Горького. В целом же поэзия трепетно ощущала «подземные толчки» истории, приближение времени, когда произойдут «неслыханные перемены, невиданные мятежи».
В период нарастания революционных событий 1905–1907 годов Ленин разработал великий принцип партийности литературы, значение которого оказалось огромным, универсально-всеобъемлющим не только для современности, но для будущего. «Литература должна стать партийной, – писал Ленин. – В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, – социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме»[1]1
В. И. Ленин. Полн. собр., соч., т. 12, с. 100.
[Закрыть].
Рубеж столетия – знаменательная страница в жизни литературы, связанная с великими именами. Был жив, творил, проповедовал автор «Войны и мира». Событием, выходящим далеко за национальные пределы, вызвавшим отклики во всем мире, был уход Льва Толстого из Ясной Поляны и смерть его. Создатель величайших эпических произведений, гневный обличитель зла и насилия, Толстой олицетворял в глазах современников традицию классического реализма. Ему следовали, подражали, учились, старались продолжить и углубить… Рядом с романтическими героями Максима Горького – бунтарями, подвижниками, революционерами – действовали герои Чехова, Бунина, Куприна, Сергеева-Ценского, Алексея Толстого, Александра Серафимовича, нарисованные с реалистической достоверностью. Горьковская «Мать» – ею восхищался Ленин – была воспринята наиболее проницательными из читателей как учебник жизни, как революционное вторжение реалистического искусства в действительность, как революционный манифест рабочего класса. Маяковский и Блок искали сближения с «безъязыкой улицей».
Ивана Бунина, преемника реалистических традиций русской классической литературы, читающая публика ценила как блистательного стилиста, возведшего прозу в степень поэзии. В его творчестве стихи, выделявшиеся чистотой и точностью чеканки, соседствовали с прозой на протяжении всего жизненного пути. Долгое время бытовало представление о Бунине-поэте как холодноватом пейзажисте, интересующемся скорее красками и пластической гармонией, нежели живой жизнью. Автор «Листопада», чей талант Горький сравнивал с матовым серебром, решительно опровергал умозрительный подход к его стихам, утверждая: «Нет, не пейзаж влечет меня, // Не краски жадный взор подметит, // А то, что в этих красках светит: // Любовь и радость бытия».
Любовью и радостью бытия пронизаны и стихотворные опыты такого «надежного реалиста», как Алексей Толстой, воспроизводившего мотивы фольклора, не лишенные стилизации, но сохранившие до наших дней прелесть притягательного обаяния. Фольклорная струя была довольно сильной: в творчестве Николая Клюева, Сергея Клычкова, Петра Орешина, составивших позднее, в двадцатых годах, окружение Есенина. Частым было обращение к старой, допетровской книжности. Так, например, «для Клюева, – пишет В. Г. Базанов, – Аввакум был великим писателем, защитником «красоты народной», хранителем художественного наследия Древней Руси. Аввакум выступал против разрушения тех эстетических и духовных ценностей, которые были созданы в эпоху Древней Руси самим народом без вмешательства официальной церковной олигархии»[2]2
«Культурное наследие Древней Руси». М., «Наука», 1976, с. 343.
[Закрыть].
Рядом с великой реалистической традицией и пролетарской поэзией существовал декаданс – детище последних десятилетий девятнадцатого столетия. «Под декадансом, – писал А. В. Луначарский, – согласно определению талантливейших декадентов, надо понимать сознательное устремление от ценностей расцвета жизни – здоровья, силы, светлого разума, победоносной воли, мощной страсти… чувства солидарности с сочеловеками, восторга перед жизнью, творческого восхищения перед природой – к ценностям, или, вернее, минус-ценностям жизненного упадка, т. е. красоте угасания, красоте, черпающей свое обаяние в баюкающей силе вялых ритмов, бледных образов, получувств, в очаровании, каким обладают для усталой души настроения покорности и забвения, и все, что их навевает»[3]3
А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 5. М., 1965, с. 281.
[Закрыть]. Признаки декадентства, чье явление было связано с кризисными явлениями буржуазной культуры, – сознательный отказ от реалистического восприятия мира, проповедь индивидуализма, антиобщественный подход к социальной действительности, воспевание «цветов зла» – антигуманистических и антидемократических настроений. Нередко рассматривая себя как метафору романтизма, декадентство металось в страхе перед жизнью и ужасом перед смертью.
Виднейшим направлением рубежа века был символизм, явление многогранное, не вмещающееся в рамки «чистой» доктрины. Его отечественные представители долго не желали называть себя декадентами (термин этот употреблялся критикой обычно в отрицательном смысле), но в конечном итоге они вошли в историю литературы – хотели этого или не хотели – как декаденты. Краеугольный камень направления – Символ, долженствующий заменить собой образ, – объединяющий платоновское царство идей с миром внутреннего опыта художника. Среди виднейших западных представителей символизма или тесно связанных с ним мы видим такие крупные имена, как Малларме, Рембо, Верлен, Верхарн, Метерлинк, Рильке…
Опираясь на философские идеи – от Канта до Шопенгауэра, от Ницше до Владимира Соловьева, – русские символисты любимейшим афоризмом своим почитали тютчевскую строку: «Мысль изреченная есть ложь». Генерализируя подтекст, Мережковский утверждал: «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя». Но при этом упускалось, что подтекст «работает», как правило, только при наличии глубокого поэтического текста.
Символисты, как первого, так и второго призывов, ставили перед новым направлением глобальные задачи, рассчитывая, что «идеальные порывы духа» не только вознесут их над покровами повседневности, обнажат трансцендентную сущность бытия, но и сокрушат также «крайний материализм», равнозначный «титаническому мещанству». Красота рассматривалась как ключ к тайнам природы, идее Добра и всего мироздания, дающий возможность проникновения в область запредельного, как знак инобытия, поддающийся расшифровке в искусстве. Отсюда – представление о художнике, как о демиурге, творце и повелителе. Поэзии же отводилась роль религии, приобщение к которой дает возможность увидеть «незримыми очами» иррациональный мир, метафизически выступающий как «очевидная красота». Становится понятным, почему, скажем, вновь найденной своеобразной рифме придавалось значение огромного открытия, далеко выходящего за пределы технических средств письма.
Отвлеченность и конкретность необходимо легко и естественно слить в поэтическом символе, мечтал Бальмонт, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом. Эстетика старших символистов, согласно их манифестам, покоилась на трех китах: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Бальмонт так обозначил индивидуалистический идеал декадентского искусства: «Я ненавижу человечество, // я от него бегу спеша. // Мое единое отечество – // Моя пустынная душа».
Начало столетия ознаменовалось возникновением новой волны символизма, обозначаемой такими именами, как Анненский, Белый, Блок, Вячеслав Иванов, Эллис, Сергей Соловьев… Они настойчиво и решительно выдвигали на первый план философско-мистические вопросы, рожденные трагическим мировосприятием, предчувствием социальных катастроф. Страстное стремление проникнуть в возможности, лежащие «по ту сторону добра и зла», приводило в творческой практике к изощренным философским, религиозным или филологическим исканиям, диктовавшим – в свой черед – необычную поэтику. Поэт выступал в роли жреца Диониса, теурга, языческого прорицателя, шамана, вместителя провидческой интуиции.
Многое в символизме было связано и с непосредственным состоянием отечественной поэзии эпохи безвременья, когда завоевания классического стиха, его золотая пора были далеко позади. Это сознавали многие. Константин Случевский горько сетовал: «Конечно, пушкинской весною // Вторично внукам, нам, не жить…» И давалась оценка современному состоянию: «Переживая злые годы // Всех извращений красоты – // Наш стих, как смысл людской природы, // Обезобразишься и ты…» Не последнюю роль сыграло стремление преодолеть плоский утилитаризм, провозгласивший еще в прошлом веке: «Сапоги выше Шекспира», Поэтому появление манифестов, суливших прорывание «в область нетленного дня», взгляд на природу и явления, как на своего рода иероглифы, на первых порах встречались как откровение, которое следует постичь во всей его запредельной глубине. На западный манер – правда, с некоторым опозданием – стали модными – анализ жизни и бегство от жизни.
Творчество крупного художника любой эпохи невозможно вместить в прокрустово ложе эстетических или философских деклараций. Было бы очевидным упрощением сводить символизм к доктрине. В наши дни это особенно очевидно. Когда листаешь разнообразные издания, выходившие в «Скорпионе», «Грифе», «Мусагете», такие респектабельные журналы, как «Весы», «Золотое руно», «Мир искусства», то со всей наглядностью осознаешь, что имеешь дело с отечественным «александрийством», рассчитанным на рафинированных представителей стилизованной культуры.
Необходимо также помнить, что символизм нельзя воспринимать как нечто внутренне целостное, что он объединял художников, искавших нередко в противоположных или во многих случаях в далеко отстоящих направлениях. Например, Андрей Белый писал, что ему казалось, что Мережковский и Брюсов тянут его за руки в разные стороны. Мережковский предупреждал Белого: «… бойся Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его»; Брюсов же, вспоминал Белый в «Начале века», откровенно глумился над «жалкостями беспринципных «пророков», то есть над Мережковским и Гиппиус. Далее, Белый, подводя итог спорам, в «Начале века» отмечал, что Мережковский «пугался меня в девятьсот уже пятом», а Брюсов «стал не на словах, а на деле действительно левым».
В конце первого десятилетия, когда напряженно осмысливался опыт революции пятого года, Александр Блок писал: «Словами «декадентство», «символизм» и т. д. было принято (а пожалуй, принято и до сих пор) соединять людей, крайне различных между собою… Самое время показало с достаточной очевидностью, что многие школьные и направленческие цепи, казавшиеся ночью верными и крепкими, оказались при свете утра только тоненькими цепочками, на которых можно и следует держать щенков, но смешно держать взрослого пса».
К десятым годам символизм – после закрытия журнала «Весы» – внутренне исчерпал себя как целостное течение, оставив, как я уже сказал, глубокий след в различных сферах культуры. Влияние крупнейших поэтов, связанных с символизмом, еще долго ощущалось и, пожалуй, полностью не исчерпало себя до сих пор. Я имею в виду не только Блока, но и Анненского, Брюсова, Белого, Бальмонта, Сологуба… При всем своем различии символистам – с их эмоциональной напряженностью и музыкальностью – был присущ культ формы, стремление к демонстрации глубоких познаний в различных областях – от историко-географической экзотики до философских и лингвистических тонкостей. Не случайно Максим Горький называл Валерия Брюсова самым культурным писателем на Руси. Вместе с тем духовный аристократизм и эстетство, бывшие своеобразным бегством от действительности, отделяли поэтов-символистов от народа почти непроницаемой стеной, которую они тщетно жаждали устранить. Уже в двадцатых годах Брюсов, пришедший к революции, писал: «Из любого явления прошлого, вычитанного в книге, символисты делали поэму, и любую поэму украшали ссылками на события иных времен, щеголяя выискиванием малоизвестных имен и намеками на факты, ведомые лишь специалистам-историкам. Эллада и Рим, Ассирия и Египет, сказания Эдды и мифология полинезийских дикарей, мифическая Атлантида и средневековые бредни – все равно шло в дело. Поэзия превращалась в какой-то гербарий прошлых веков, в ряд упражнений на исторические и мифологические темы». Что и говорить, довольно красноречивое признание. Оно особенно интересно тем, что непосредственно исходит от одного из тех, кто был долгое время признанным и глубоко почитаемым вождем символизма.
Примечательны и другие литературные судьбы.
На рубеже столетия поэтическая деятельность Дмитрия Мережковского, начинавшего с народнических настроений, пришедшего в середине девяностых годов к декадансу, была, по сути дела, позади. Его скорее знали как автора исторических романов и эстетических деклараций, занятого пересмотром догм «исторического христианства» и увлекающегося поисками «святой плоти». Зинаиду Гиппиус современная ей критика характеризовала как создателя «высокомерно-умных стихов», утверждавших ницшеанские мотивы: «Люблю я себя, как бога». Самым значительным из старших символистов был, пожалуй, Федор Сологуб. Его стихи заслонял роман «Мелкий бес», имевший шумный успех, в герое которого – Передонове – читатели видели новоявленного провинциального Смердякова, мелкого и опустившегося пакостника, клеветника и доносчика. Стихи Сологуба были отмечены строгой серьезностью содержания. Гармоничность и мелодичность выделяют его среди других «мастеровитых» символистов крупными художественными достоинствами. Его холодные иносказания афористичны; изысканность стиха доступна лишь зоркому взгляду. Исследователи обращала внимание на то, что стихи Сологуба необычайно близки музыке. Андрей Белый в своем обширном труде «Символизм» писал: «Ритм Сологуба представляет собою сложное видоизменение ритмов Фета и Баратынского, с примесью некоторого влияния Лермонтова, Пушкина и Тютчева. Но родственность напевности Сологуба с напевностью Фета и Баратынского резко подчеркнута». Надо также обратить внимание на смелость эпитетов Сологуба. О солнце он, например, говорит – «безответное светило». Максим Горький, многократно и иронично критиковавший безысходный пессимизм Сологуба, отмечал, что его стихотворный сборник «Пламенный круг» – «книга удивительная и – надолго».
Константин Бальмонт слыл среди самых строгих ценителей «поэтом божьей милостью». О себе он имел право (будем справедливыми!) сказать: «Я – изысканность русской медлительной речи…» Но далее в этом же стихотворении вполне очевиден авторский, рожденный самовлюбленностью, гиперболизм: «Предо мною другие поэты – предтечи». Изысканность – великолепное свойство, но она часто оборачивается самой заурядной манерностью, подменой красоты красивостью, самовлюбленностью. Поэтому-то и повисает в воздухе, не подкрепленное творчеством, важнейшее положение символизма, провозглашенное Бальмонтом: «Поэты-символисты дают нам в своих созданьях магическое кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас к чему-то еще, мы чувствуем близость неизвестного нам, нового, и, глядя на талисман, идем, уходим куда-то дальше, все дальше и дальше». Обращают внимание на обороты, отличающиеся неопределенностью: «зовет нас к чему-то», «уходит куда-то»… Самая сильная сторона Бальмонта – «певучая сила», ритмическое разнообразие. Говорят, что в русской поэзии нет размеров, которых бы ни испробовал Бальмонт. Недаром о нем писали, что он – поэт-эхо, отражающий все звуки, которые к нему долетают. Но и ритмическая виртуозность требует чувства меры, а его-то и не хватало поэту, служителю «культа мимолетностей», умевшему «вместить мгновение в предел нескольких размеренных строю». Крупнейшее техническое достижение Бальмонта – звукоподражание, аллитерации, мастерское владение внутренней рифмой, символический фонетизм.
Нет обмана страшнее, чем самообман, а именно ему-то с демонической самоуглубленностью и предавались символисты, искавшие в своем внутреннем мире иррационально-магическую силу поэтического слова. Они полагали, что творят религию-искусство; последнее метафорически рисовалось им в образе Мистических Ключей, растворяющих человечеству двери на свободу из его «голубой тюрьмы», – этим фетовским определением характеризовался мир рациональных представлений. Что магам до бедной жизни, когда их взору открываются дали сверхвременной, трансцендентной Красоты…
В стихах тех лет мы часто встречаем эсхатологические образы и метафоры, аллегории и символы из Апокалипсиса («И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть»), но и поэты и читатели воспринимали их скорее как жутковатую, но захватывающую игру в одиночество, мистерию-пророчество, которое едва ли когда сбудется. Нельзя же было всерьез воспринимать, когда поэт с веселым самодовольством («Я ненавижу человечество…») объявлял, что он славит «чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», что он, автор, приветствует, как брата, Нерона, жестокого тирана-позера. И – одновременно – декларации о прорыве в другой мир, «от реальностей к более реальному», от земных корней к мистически прозреваемой сущности, к соответствиям и аналогиям.
Символисты напряженно стремились существовать в двух планах – реальном и мистическом. В творческой практике это вело к лирико-стихотворному иллюзионизму. Подлинная же роль модернистов напоминала роль средневековых алхимиков, которые так и не нашли золота, в мечтах слепившего им глаза.
Искусство искало самоценную содержательность формы, где звуки говорят не меньше слов, где слово отличается многозначностью, где символ – эстетическое воплощение бесчисленных связей, существующих в живой жизни. Символ потеснил натурализм, расширил фонд образов, интонаций и экспрессий, выиграл бой с фотографическим бытовизмом, достиг вершин музыкальности, но обещанных «торжествующих созвучий», идущих от зыбких таинственных запредельностей, читатель так и не услышал, как не постигли их и авторы. Это привело символистов в идейный и художественный тупик, обнаружило полуусловную стилизованность их поэтического слова, а затем и взорвало движение изнутри, ибо оно не могло дать ответов на животрепещущие вопросы дня. А именно ими и жила страна, готовившаяся к «неслыханным переменам».
… Анна Ахматова говорила пишущему эти строки о том, что ее литературное поколение – из Иннокентия Анненского, и не потому что подражала автору «Кипарисового ларца», ибо, как она сказала, «мы содержались в нем».
Действительно, Иннокентию Анненскому выпала почетная, хотя и не очень громкая, участь стать крупнейшим «поэтом для поэтов». Анна Андреевна продемонстрировала примеры, подтверждающие ее высокую оценку Анненского. В интонациях, ритмическом рисунке, лексике, строфике, парафразах Анненского «обнаруживались» и Ахматова, и Гумилев, и Мандельштам, и Есенин, и Хлебников, и Цветаева, и Маяковский, и Пастернак… При жизни Анненского читатель его не знал – известность ограничивалась узким кружком, группировавшимся вокруг журнала «Аполлон», начавшего выходить в свет в год смерти поэта.
Единственный прижизненный сборник «Тихие песни» (1904) Анненский выпустил под псевдонимом – «Никто». Посмертная слава Анненского началась с выходом сборника «Кипарисовый ларец» (1910), стихи в котором выделялась совершенством, доведенным до изысканности. Культ формы, музыкальность, превращение слова в «мелодический дождь символов», выражающих в тысячах переходов, переливов и оттенков постоянное «желание уничтожиться и боязнь умереть». Особенно удавались Анненскому выражения настроения «городской, отчасти каменной, музейной души», которую, как он сам считал, «пытали Достоевским».
Если приверженцы реалистической эстетики ценили и ценят верность жизненным наблюдениям, то для поэтики декаданса характерно умение быть «потусторонним», улавливающим «эхо иных звуков, о которых мы не знаем – откуда они приходят и куда уходят».
Иннокентий Анненский стремился от «безнадежной разоренности своего пошлого мира уйти в «сладостный гашиш» поэзии.
Тогдашний опытный читатель считал Александра Блока «потустороннейшим из певцов» и наслаждался своим умением истолковывать-расшифровывать стихи-ребусы.
Вячеслав Иванов, стремившийся возвысить до мифа, знаменующего высшую – «космическую» – реальность, жизнь человеческого духа, любил в стихах согласные звуки, затруднявшие и замедлявшие чтение, располагавшие к размышлениям над смысловой полнотой слова. Это и дало повод (ведь его предшественники апологизировали гласные) к ироническому сравнению Вячеслава Иванова с Тредиаковским, почитавшимся предельно неуклюжим. Невозможно, думается, отрицать умозрительность поэзии Вяч. Иванова – она была и нарочитой и преднамеренной.
«Как у лейбницевой монады, – пишет современный исследователь Сергей Аверинцев, – у слова в стихах Иванова «нет окна»: оно замкнулось в себе и самовластно держит всю полноту своего исторически сложившегося значения».
Мечтая об искусстве, полном жизни, всенародном, торжественно-декламационном, приближенном по стилю к дифирамбам и гимнам, Вячеслав Иванов, увлеченный своей религиозно-философской концепцией, насыщал стихи тяжеловесными архаизмами (вроде – зрак, девий, пря, мрежа) и неологизмами, отдающими преднамеренной стилизацией под средневековую старину. Стихи его – сложные и двусмысленные – были доступны лишь читательскому кругу, способному понимать сугубо условный религиозно-философский язык. Намеренная запутанность стиха вела к утрате его живой непосредственности. Виртуозность же отдавала литературным салоном, где нежные напевы принимались и перетолковывались как глубокие мысли. Стремление «пить из всех рек» – от Нила, Ганга и Евфрата до Волги, Невы и Фонтанки – вело к всеядности. В конечном итоге поэзия утрачивала издавна присущий ей демократизм, ориентируясь на высоколобого читателя, занимающего элитарное положение в духовном мире. Символисты это болезненно ощущали.
Сборник «Пепел» (1909) – лучшая поэтическая книга Андрея Белого – попытка вернуться к некрасовским мотивам, страстное желание стать не только поэтом, но и гражданином. Позднее Андрей Белый, некогда объявлявший искусство религией религий, горестно признается: «Сердцем века измерил, а жизнь прожить не сумел». Думаю, что под этими словами мог подписаться не один Андрей Белый. Художественным открытием Белого – поэта и романиста – считалось осознание того, что фонетический и буквальный смысл слов слиты, – он постигается во внутреннем ритме стиха.
К десятым годам в общественно-литературной жизни созрел эстетический бунт. Главный удар наносился символизму, – на него шли в атаку недруги с прямо противоположных сторон. Кроме последовательных реалистов, всегда рассматривавших символистов как декадентов, важнейшими из противников являлась акмеисты и футуристы. Союз или даже временное соглашение между новыми течениями были совершенно невозможны. Не сговариваясь, противники пошли в атаку на одряхлевшую твердыню мистиков, переманивая на свою сторону неустойчивых стражей крепости Символа.
Провозглашая положительную программу, акмеисты с внешней сыновней почтительностью и – одновременно – с молодой внутренней беспощадностью обличали пороки символизма, зорко рассмотрев его болевые места.
Акмеизм – производная от «акме» – цвет, цветущая пора, сила, высшая степень. Акмеисты, выступив против символистских уходов в «миры иные», именовали свое направление еще и адамизмом, связывая с библейским Адамом представление о мужестве и ясном, твердом и непосредственном взгляде на жизнь.
Адамисты, объявив символизм своим отцом, прокламировали внимание к миру человека, мудрую физиологичность (тело и его радости), внимание к жизни во всей ее полноте, не сомневающуюся в себе самой, с ее радостями и пороками и, наконец, обещали найти для выражения всего этого в искусстве «достойные одежды безупречных форм». Последнее было воспринято как возврат к ясному и гармоничному пушкинскому началу, хотя критика тут же отметила, что в акмеистских стихах больше дано глазу, чем слуху. Акмеисты были против того, чтобы направлять главные силы в область неведомого, уличали символистов в братании с мистикой, теософией и оккультизмом.
Возводя в культ любование вещами, акмеисты возвестили миру, что к работе приступил Цех поэтов. Их трибуной был журнал «Аполлон». С юношеской зоркостью новый Адам заметил, как вокруг «ожили камни и металлы», как отовсюду хлынули звери, как радостно засверкал мир, избавившись от символистских туманов. На глазах у изумленных читателей возникла страна-остров, расположенный за клокочущими пенами океана. Там горные озера, пальмовые рощи, там бродят царственные барсы, блуждающие пантеры, слоны-пустынники… Там действуют заблудившиеся конквистадоры и старые капитаны в ботфортах, с пистолетами за поясом… Там девушки-колдуньи, девы-воины, царицы, обладающие чарами невиданной красоты и над всем этим таинственный скиталец – «Летучий Голландец». Вся эта экзотика должна была повествовать о красоте, открывающейся ясному и мужественному взгляду. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, – провозглашали сторонники нового направления, – своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще.







