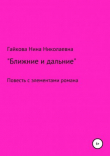Текст книги "Соавтор (СИ)"
Автор книги: Максим Далин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Я вижу лужайку перед крепостью, поросшую мелкой травой. По траве бродят вороны, черные и тяжелые крепостные трупоеды. Они сыты сегодня. На кольях – голые, скорчившиеся тела. Лица казненных искажены, но я узнаю всех: я слишком хорошо их знал. Королевские Георгины. Их убили, как отравителей: Дерека, нашедшего средство спасать больных болотной язвой, Ронна, написавшего книгу «Благо паутины и грибных спор в пользовании открытых ран», Нодара, который открыл замирательные капли – их прикосновение замораживало больное место на несколько часов…
Я вижу воочию: королевской Оранжерее пришел конец. Судорога сжимает мне горло.
– Торопись, государь, – бросает стражник. – Твой черед еще придет.
Поп подносит Священную Книгу к моему лицу – и я отстраняюсь от ее жара. Ничто не поможет. Никто не спасется.
– Держитесь, государь, – шепчет Ленора.
Я держусь. Ради чего?
Одна только королевская честь. Одна только свинцовая тяжесть венца – но она никогда не тянула моей головы вниз. Ничего в истории людей не бывает навсегда… кроме, быть может, бесчеловечности.
Я стою перед теми, кто считает себя моими судьями. Это уморительно смешное зрелище.
Мой двоюродный племянник изображает Милосердие и Беспристрастность, но его лицо дергается от злорадства. Великий Инквизитор смотрит на меня, как мужик – на сырое мясо; его восхищает мысль, что меня можно поджарить, мечта его жизни сбылась. Герцог Огли торжествует. Герцогу Уорвину стыдно поднять на меня глаза. Герцог Хитт перепуган так, что у него мелко дрожит челюсть – ему хочется сбежать, но никак нельзя. Он боится меня, скованного серебряными цепями по рукам и ногам, умирающего от голода, преданного сторонниками – по нему страх заметнее, чем по прочим особам чистейшей крови.
Безродный Сенат трясет почти поголовно. Эти боятся еще и потому, что смутно осознают собственную преступность. Вдобавок им тяжело смотреть на Ленору – и они прижимают к губам надушенные платки.
– Церл, – обращается ко мне Великий Инквизитор, – у тебя есть возможность отчасти искупить вину, покаявшись и подписав отречение от короны.
– Каяться – не стану, – говорю я. – Не отрекусь. Убивайте короля.
– Ты – чернокнижник! – срывается племянничек Нормад, и герцог Огли успокаивает его, что-то шепча на ухо. Напоминает о процедуре. Трогательно. – Ваше преподобие, – говорит Норм Инквизитору, – зачитайте пункты обвинения. Пусть низложенный тиран, называющий себя королем Церлом, на них ответит.
– Преступления Церла Нод Эрина, в течение пятидесяти пяти лет называвшего себя королем! – радостно возглашает Инквизитор. – Первое из них: вышеназванный Церл, презрев естество, продал душу темной силе, получив взамен вечную молодость и способность сеять зло посредством грязной магии.
– Души не продавал, – говорю я. – Продал возможность иметь наследника по прямой. Но у меня его все равно не было бы. Вас раздражает, что я не похож на восьмидесятилетнего старца?
– Упомянутый Церл, – продолжает Инквизитор, досадливо мотнув головой, – нарушил волю своего отца, лишив лордов Сената причитающихся им прав. Таким образом, он встал на путь тирании.
– Лорды Сената – разожравшиеся твари, имеющие достаточно денег на подкуп граждан, – говорю я. – Вы все знаете: место в Сенате дает возможность набивать карман, пока он не треснет. Их интересует только карман – за полный карман любой из них пойдет на клятвопреступление и убийство. Когда я королевским эдиктом отменил решение Сената о повышении налогов с провинций, люди лорда Инга, ныне, разумеется, покойного, отравили мою королеву. Это нарушило взаимопонимание на долгие годы. Я знаю лордов, как облупленных: они дружно тянули назад то, что я толкал вперед. Впрочем, это тут никому не интересно.
Лорды не смотрят на меня. Нормад лупит кулаком по столу.
– Государь Церл! – не выдерживает Уорвин. Он чуть не плачет. – Я умоляю вас, покайтесь! Вы станете монахом, вас отправят на Остров…
– Страшно подписывать приговор своему государю? – усмехаюсь я. – Уорвин, имей мужество хотя бы довести предательство до конца. Я не стану монахом – ад поглотит меня во время обряда. Пусть все идет, как идет. Что там у вас дальше?
– Ваша противоестественная страсть… – начинает Инквизитор и спохватывается. – Твоя противоестественная страсть, Церл, стоила жизни тридцати, по крайней мере, невинным девам! Ты наслаждался трупами, как кладбищенский пес!
– Никогда не страдал безумием этого сорта, – говорю я. – Я любил и люблю лишь одну даму. Верен ей, как велит супружеская клятва. На любое другое женское тело я глядел, как на роскошное платье для моей бесценной королевы. Некоторые из них я забирал. Для нее. Но будь моя подруга жива – разве мне понадобилось бы искать для нее пристанища в трупах дочек наших поганых лордов?
Хартер, отец последней девки, выкрикивает:
– Ты мог бы развлекаться простолюдинками! Никто не сказал бы слова! Но нет, тебе нужны были только леди! Убил мою дочь, сделал из нее ходячего мертвеца, могильный червь! Разве вокруг мало безродных девок, о которых никто не пожалел бы?!
– Тела простолюдинок слишком грубы для моей Леноры, – говорю я. – А твои слова объясняют, за что я ненавижу людей твоего круга, лорд Хартер. Если бы я убивал простолюдинок, это было бы в порядке вещей, потому что их вы за людей не считаете. Если бы я обворовывал страну на нужды двора, я по-прежнему был бы любимым королем, как когда-то, когда я был юн и глуп. Если бы я слушал вас, все было бы мирно, чинно и гладко – плебс кормил бы тех, кто жиреет, болото стояло бы, не шелохнувшись, и все были бы спокойны и довольны жизнью.
– Ты сокращал налоги на нужды двора, – говорит Инквизитор, и Нормад кивает, – зато тратил горы золота на Оранжерею. Королевские Цветы – это исчадья ада, собранные тобой по всей стране. Ведьмы, безумцы, чернокнижники, извращенцы, комедианты и прочие прислужники похоти – вот куда шли деньги народа!
– Да, – говорю я, и Ленора прижимается ко мне. – Я давал приют любому, кто казался ведьмаком или безумцем, умея творить чудесное. Лекарям. Механикам. Менестрелям. Живописцам. Глупо было надеялся, что их разум и руки смогут что-нибудь изменить. Я построил Оранжерею, где надеялся уберечь от человеческой злобы ростки будущего… но кому из вас оно нужно, будущее?!
– Ложь! – вопит Инквизитор. – Эти королевские так называемые Цветы были твоими сообщниками в Темной Науке! Георгины и Пионы, как и ты сам, оскверняли могилы и вызывали демонов, а эти Розы и Камелии – развратничали в твою честь! Блудили с этими демонами!
Ледяная ярость заставляет меня сжать кулаки. Я огрызаюсь, вдруг одержимый нелепой надеждой, что сейчас удастся кого-нибудь оправдать или спасти.
– Я изучал Темное Искусство шутки ради! – кричу я. – Уверовал по-настоящему и заключил сделку с Тьмой только ради того, чтобы удержать подле себя бесценную душу любимой жены! Да, это мой грех… Но Цветы – они невинны, никто из них не чернокнижник! Они пытались проникнуть в тайны естества, чтобы…
– Это и есть чернокнижие, – обрывает Инквизитор. Нормад смеется.
– Я видел эти книжки, – говорит он снисходительно. – Еще я видел, как жгли рукотворного дракона, на котором они собирались поднять тебя в небо. Ты отравил чернокнижием их всех – как чума…
– Но певицы, поэты, художники! – я еще надеюсь. – Они-то в чем провинились? В том, что пытались сделать жизнь прекраснее?
Мне кажется, что кое-кто из лордов Сената согласен со мной. Уорвин умоляюще говорит Нормаду и Инквизитору:
– Эта бедная девка, эта Фрезия, она так пела в театре Оранжереи, что у меня слезы наворачивались на глаза… Госу… Церл прав, мне кажется…
– Хвастаетесь, что были околдованы ведьмой? – ухмыляется Инквизитор. – Сгорела уже ваша Фрезия. Вместе с другими суккубами Церла издохла, и не думайте жалеть о ней – все это дрянь, противоестественные мерзости! Эти голоса, отнимающие разум и околдовывающие, эти тела у его танцорок, гибкие, как бы бескостные, навевающие грязные мысли!
– Да, Церл, чем тебе не годились для мертвой королевы твои танцорки? – ехидно вставляет Хартер. – Их тела были прекрасны, не хуже, чем у леди! Ну, что скажешь?
– Тем, что в, отличие от леди, у моих комедианток и певиц были души! – рявкаю я.
– Вот чем ты всегда грешил! – гремит Инквизитор. – Все эти голоса – они смеялись над ангельским пением, а картинки и статуи – насмешка над актом творения, вызов Творцу!
– Вы сожгли и картины? – спрашиваю я безнадежно. Я понял, что проиграл все. – Чем же виноваты картины? Чем плоха страсть украсить жизнь?
Лорды шушукаются. Мне кажется, что некоторые мои сокровища украдены и спрятаны – дивные вещи, сделанные Цветами, то, что дороже золота…Я был бы рад и этому, но сами творцы… допустим, это правда – вызов Творцу небесному, но я не верю, что Он так глуп, чтобы ревновать к славе своей.
– А вы видели тех, кто это малевал? – вопрошает Инквизитор. У Номада в глазах – злые огни. – Стража! Одержимого – сюда!
Они втаскивают его в зал на цепи, как пса. Маленький Уркас, королевская Маргаритка, мой несчастный любимец – он скулит и озирается, от его придворного костюма остались окровавленные лохмотья. Взгляд дикий. Я уверен, что он не узнает меня или перепугается Леноры – но он визжит и кидается ко мне, чуть не удушив себя цепью.
– Полюбуйтесь на это существо! – возглашает Инквизитор. – Это же идиот, урод! Он не понимает человеческой речи! Припадочный! Как он мог рисовать те картины лазурью и золотом, тех птиц, химер, позлащенных демониц, увитых розами? Это демоны водили его рукой!
Ленора всхлипывает без слез на моем плече. Уркас хнычет и тянется ко мне. Его пальцы посинели и в крови. Он не способен понять, за что ему причиняли боль, мой бедный дурачок – он неважно понимает суть сложных вещей. Творец лишил его дара речи, но дал взамен способность видеть красоту и воспроизводить ее. Уркаса хотели сжечь пять лет назад, когда он разрисовал углем выбеленную стену храма; я восхитился его черными розами и забрал его в Оранжерею. Пять лет он был нашей Маргариткой, больным ребенком, общей потехой и восторгом, пять лет с ним возились мои Георгины, а он рисовал свои грезы, золотые, голубые и алые, наш Уркас с душой младенца в свои двадцать…
Да, он припадочный. Правда, я думал, Оранжерея и рисунки навсегда излечили его от припадков. Он ведь научился смеяться – Олфин полагал даже, что Уркаса можно научить говорить простые слова…Все ушло впустую: Олфина посадили на кол, Уркас превращен в затравленную зверушку. Надо думать, его прекрасные картины, не похожие ни на чьи другие, украл кто-то из дознавателей или лордов…
– Отпустите дурачка, – говорю я. – Он совершенно безопасен. Как же вы могли отдать палачам жалкое создание, никогда и никому не делавшее зла? Георгины-лекари полагали, что это болезнь, а не нечистая сила убила в нем речь и разум – но душа великого художника как-то уцелела. Это – светлое чудо.
– Это ложь! – режет Инквизитор.
Я смертельно устал. Я понимаю, насколько безнадежны попытки что-то доказать. Никто не придет на помощь; плебс обожал меня, теперь возненавидит и будет улюлюкать и свистеть, когда меня сожгут – и кто осудит плебс? Каковы бы ни были сильные мира сего – плебеям они враги…
– А дворцы, построенные Цветами за эти пятьдесят лет, вы снесете? – говорю я. – Мосты? Крепости? Потопите корабли? Переплавите колокола? Убьете людей, которых они успели исцелить? Ну, что ж вы заткнулись? Ты уже приказал ломать храм Доброго Взгляда, Нормад? Или Инквизитор хватал тебя за руки?
Нормад наливается темной кровью. Инквизитор бледнеет. Лорды вжимаются в кресла.
– Увести эту нечисть! – отрывисто бросает Нормад. – На костер ведьмака! Все убедились, лорды?
Лорды молчат и смотрят вниз. Стража Нормада подходит к нам с Ленорой – и я вдруг вижу столб белого света, пробивший потолок в шаге от меня. Я понимаю, что могу войти в этот свет и оказаться где-то бесконечно далеко отсюда, живой, свободный – но это убьет Ленору, а Уркас, смотрящий на меня, как на последнюю надежду, останется в руках палачей, один…
Я обнимаю свою прекрасную даму, я улыбаюсь Уркасу. Я поворачиваюсь к страже.
Я остаюсь.
* * *
Я кашляю, кашляю и кашляю. Меня рвет и я снова кашляю. Мне не вдохнуть – и тело, особенно ноги, еще горит до самых костей. Я почти слеп от дыма.
Чьи-то нереальные руки поднимают мою голову, на губах – холод и влага, я делаю несколько судорожных глотков и еле удерживаю воду в себе. Приваливаюсь к плечу того, кто…
Андрея.
Дымом не пахнет. Все в прошлом. Мы в кухне, я – на полу, на коленях, сложившись втрое; он рядом со мной, со стаканом воды в руке. По полу размазана вода вперемешку с желчью и копотью.
Андрей качает головой.
– Ну ты даешь… Я же звал тебя назад, когда еще можно было уйти спокойно! Что тебя на костер понесло?
– Он меня не отпустил, – говорю я сипло. – Хочешь – верь, хочешь – нет. И я как-то… короче, я вообще не осознавал себя внутри этого короля-расстриги. Он меня сожрал, впитал в себя. Хватка разжалась, только когда он умер. Что я мог сделать?
Андрей улыбается – несколько обеспокоенно.
– Попей еще. На тебе лица нет. Сколько раз тебе повторять – не отождествляй.
Я допиваю воду одним глотком. Встаю. Смотрю в узенькое зеркальце над раковиной – на свою осунувшуюся бледную физиономию. Лицо есть. И даже – мое. Я, кажется, не его ожидал увидеть – ух, какое лицо было у Церла… По моей спине пробегает озноб.
– Из палача удрал, – говорит Андрей, – а в этом кромешном кошмаре задержался до смертной казни включительно… Ну у тебя и выбор!
– Он – не кошмар! – огрызаюсь я. – И, кстати, почему это ты в такой великолепной форме? Я понимаю, что ты умираешь легче, но не на медленном же огне?
Андрей улыбается.
– Ты только не убивай меня сразу… в Леноре была только половина, свинья он бестрепетная, твой Церл – дамский любимчик! Заставил бедную девочку полвека таскаться за собой из трупа в труп, некрофил несчастный… Фарфоровые статуэточки из настоящих мертвецов, ваши пальцы пахнут ладаном… Что терпела – жуть, не постигаю! Любила… женщины такие привязчивые, а он увлекательный был крендель. Великий и ужасный…
– Короче! – обрываю я. – Закрой фонтан и скажи, в ком еще.
– В Великом Инквизиторе, – усмехается Андрей. – Ух ты, какие глаза! Картина называется «Не ждали»…
Я хватаю его за грудки.
– Какого черта?! Как ты мог, вообще, сволота?! Ну ладно, Церл был тот еще маньяк, пусть будет – чернокнижник, некрофил, кто там еще… Но его Оранжерея?! Дурачок этот с его картинками?! Ты хоть представляешь, как он рисовал?
Андрей мягко отстраняет мои руки.
– Рисовал круто, – говорит он печально. – Что самое дикое – интуитивно, совершенно без школы, без представления о композиции, пропорциях, технике… будто обводил что-то, что уже и так нарисовано. Мог начать фигуру человека с пальца ноги, орнамент из цветов – с лепестка или усика какого-нибудь. Очень ярко и нежно. Наивные детские грезы о рае – ангелы, золотые с голубым, легонькие, полупрозрачные, бесполые и бесплотные, облака, ветки цветущих роз…
– И ты приказал переломать ему пальцы, а потом – на костер?
Андрей качает головой.
– Да я-то тут при чем, щелкопер? Меня там вообще не было – был Его Преподобие Шергон, с его подагрой, норовом и взглядом на вещи. Я сейчас не его – свои впечатления излагаю, а Шергону вообще плевать на все эти красоты, понимаешь? Он в живописи не шарит, он ее не чувствует. Ему хоть шедевры этих ребят из Оранжереи показывай, хоть этикетки от туалетной бумаги – пофиг ему! Когда Оранжерею громили, у него даже не зачесалось украсть что-то, кроме золотишка и камешков, да и те – не оттого, что из них какой-нибудь Церлов Цветок эти украшения запредельные ваял, а потому что золото есть золото. На вес.
– Но ты же был у него внутри, – говорю я безнадежно.
– А что я мог сделать? Ты, когда мы в другом мире, вообще себя осознаешь? Не говоря уж об – изменить поведение роли твоей, персонажа? Нельзя, друг ситный, свою душу в другого человека засунуть, как руку в перчатку – по крайней мере, я не могу. Да судя по тому, что я вокруг слышу и вижу, никто не может.
– Слушай, – спрашиваю я, – а хоть кто-нибудь спасся? Или доблестные солдаты Нормада извели всех под корень?
– Кого не они, того – толпа, – говорит Андрей, и его лицо каменеет. – Видал бы ты, как благодарный народ громил обсерваторию! Как склянки алхимические били о камни, как книги потрошили… любо-дорого. Это потом, когда Церла жгли с его королевой и дурачком, его народу было не по себе… но Церл с костра и врезал хорошо.
– Радуетесь, что избавились от всех чудес, до каких дотянулись? – бормочу я. – Злые чудеса от добрых отличить тяжело – а боялись-то вы всех… что ж, живите в мире без чудес, пока не найдутся новые кандидаты на плаху и костер – может, они до казни успеют сделать вашу поганую жизнь хоть чуточку лучше…
– Не заводись, – говорит Андрей. – И не отождествляй. Ты понимаешь, что так и самому умереть можно? Как ты не задохнулся дымом, не понимаю – а все оттого, что совсем забываешь о себе. Тебе пожрать приготовить? Ты ж не жрал ничего чуть не месяц… хорошо еще, что Церл оказался живучий, нечистая сила. Между прочим, Нормад распорядился его кормить.
– Баландой, – говорю я с ядом. От разговоров о еде у меня случается мгновенный спазм желудка. – Поджарь хоть яичницу, пособник палачей…
– А он рассчитывал, что его будут человечиной кормить? – хмыкает Андрей, вытаскивая яйца из холодильника. – С колбасой жарить?
– Да. Он не ел человечину. И не ехидничай – Ленора это знала. У него обмен веществ, наверное, поменялся, когда он перешел на Темную Сторону: он мог есть только сырое мясо. С кровью. Так что скажи, что Нормад приказал пытать его голодом.
От запаха жареной колбасы у меня кружится голова.
– Нормад тоже тот еще тип, – говорит Андрей. – Дай мне нож. Он беспринципен, как правильному политику положено, а на всякие идеалы – плевал с отхарком. Изменил присяге – и нигде не ёкнуло. Вообще, много там всего говорилось – а упирается плотно в деньги. И в статус. И все. Это Церл был чокнутый, остальные – нормальные. Нормальные политики.
– Церл убивал девчонок из высшего света, – говорю я задумчиво.
– Ты можешь представить себе политика, который никого не убил? Разве что – обычно чужими руками…
После Церла у меня вообще пропадают тормоза. Исчезает страх.
Я вхожу куда угодно – и остаюсь там до самого жестокого экстрима. Я больше не выбираю повкуснее, я закопался по уши – я вижу все. Мой возраст приближается годам к пятистам. В очередной мир я вхожу вампиром – и меня совершенно не ужасает. Я прохожу сквозь посмертие. Он – хищник, Харон, облеченный сомнительной плотью из человеческих жутких фантазий, существо без пола, но исполненное странной энергии, пожалуй, схожей с сексуальной. Я чую запахи всего на свете и брожу по чужим снам, видя самые сокровенные тайны. Я начинаю понимать, насколько желанной может быть смерть. Мироощущение вампира лишает меня всех оставшихся клочков морали. Я вижу в любой душе свет и тень – их соотношение колеблется, чаши весов никогда не останавливаются в равновесии, но фишка в том, что свет всегда есть.
Вот что. Свет всегда есть. Иногда я вспоминаю чужой памятью, как этот свет пытались погасить, как его затаптывали, как заплевывали тлеющие искры – и как все равно находилось что-то, за что можно уцепиться в поисках живого и доброго. Я больше не боюсь души палача.
Я перестаю верить в зло.
Я вижу только совершенство человеческих душ, – каждой души, – их неповторимость, их уязвимость и холодную жестокость обстоятельств. Я живу в волке, терзающем олениху, и в оленихе одновременно: я ощущаю страшную боль и смертный страх жертвы, но не могу ненавидеть убийцу – его ведет его предназначение, иначе быть не может.
В столкновении стихий, в вечной борьбе – цель и смысл жизни. У каждого живого существа в бесконечной Вселенной – своя правда; останови смертельную битву – остановится бытие, наступит могильный покой абсолютного распада.
Волк и олениха поддерживают бытие друг друга. Я вижу тот же смысл в смертной схватке тирана с борцом за свободу; они оба правы и оба неправы, раскачивая эти качели добра и зла, поддерживающие жизнь. Из навоза росток возник, из угля родятся алмазы; чтобы это увидеть, надо проследить, как росток становится вековым деревом, как один и тот же человеческий поступок, вырастая в веках в легенду, видится потомкам то чистейшей святостью, то чернейшей мерзостью…
И, кроме каждой из человеческих душ, нет больше ничего ценного. Никто не живет и не умирает зря, даже если сторонний взгляд видит нелепую смерть. Я вижу, как тасуется колода – джокер в ней не менее необходим, чем червовый туз.
Видимо, это понимание было необходимо, чтобы я вошел в ту комнату – мило обставленный будуарчик леди из недалекого будущего, бонбоньерка в стиле хай-тек, из которой почему-то несло большей несвободой, чем из каменного мешка Церла.
* * *
Я смотрю на свою ладонь. На пальцы – сгибаю-разгибаю, поражаюсь утонченной сложности механизма. Ощущаю вибрацию сервомоторов внутри тела, но работают они совершенно беззвучно. Под латексной плотью движутся металлические косточки.
Из старой, когда-то любимой книжки: «Лежали роботы – взрослые без воспоминаний детства, в гробах для не живых и не мертвых, в оцепенении, которое не назовешь смертью, ибо ему не предшествовала жизнь…» Кажется, так?
Взрослые – без воспоминаний детства. Счастливые роботы.
Касаюсь ладонью ладони. Ощущения странные – словно сквозь пять резиновых перчаток – смутные, смытые. Бегущая строка текстовых характеристик поверхности на периферии зрения – не для меня, для механика – «анализ состояния поверхности: гладкая, сухая, упругая, температура 36,6 градусов С; предположительно – латекс, биоморф». Касаюсь стола. «Анализ состояния поверхности: гладкая, твердая, температура 33,7 градусов С; предположительно – лакированное дерево».
Анализ состояния. Гладкое, мягкое, влажное, температура около 36,8. Предположительно – женское тело во время полового акта.
Мне хочется вздохнуть. Вот что меня гложет больше всего – мне хочется дышать. Мои ноздри – имитация. В них – газоанализаторы. Время от времени с боков моего зрительного поля всплывают зеленоватые сообщения об изменении состава воздуха. По идее, отравляющие вещества в воздухе должны замыкать цепь сигнала тревоги; по факту я читаю о бензольных соединениях, являющихся духами, туалетной водой и дезодорантом.
Духи «Снова влюблен». Духи «Снова продан». Духи «Снова предан».
Вокруг меня – будуар, пропахший духами. У зеркала – саркофаг из стекла и металла, гроб для не живого и не мертвого. Моя койка.
Из зеркала смотрит печальный эльф.
У него – бледное одухотворенное женственное лицо. Огромные, влажные, темно-синие очи в длинных ресницах. Чувственные губы. Лоб прикрыла темная челка.
Маска, которую я ненавижу. Маска из латекса и биоморфа, которую я не в состоянии изменить – разве что опущу кукольные веки. Моя электронно-механическая тюрьма не настолько совершенна, чтобы дать узнику возможность отражать эмоции невербально.
Впрочем, для вербального отображения чувств возможностей тоже маловато. За пухлыми устами расположен динамик. Голос низкий, сладкий и томный – еще одна моя маска. Я не могу его повысить, я не могу кричать, я не могу даже говорить с напором. Слова «подлая сука» звучат из динамика рискованным комплиментом.
Голос можно отключить дистанционно.
Движком тоже можно управлять дистанционно. С пульта управления можно запустить одну из пятидесяти стандартных двигательных программ. Можно просто зафиксировать позу. Красиво сядь в кресло. Встань у окна. Укрась мою гостиную дивным манекеном, которым восхитятся гости. Ляг на спину. Встань на колени. Встань на четвереньки. Замри. Молчи. Не моргай.
Красивая вещь. Дорогая вещь. Эксклюзивная вещь.
Я одет в невесомую рубаху из черного шелка, не сходящуюся на кукольном торсе, и черные бархатные брюки. На моей шее висит бриллиантовая звезда на черном шнурке. Я бос. Мои стопы не могут анализировать поверхность с той же точностью, что и ладони – только общая информация. Я стою на ровном. Я стою на неровном. Я стою на очень холодном. Я наблюдаю движения собственных пальцев – сервомоторы плечевого пояса вибрируют тихо и нежно, чуть заметная дрожь отдается в металлической трубке, заменившей мне позвоночник. Я делаю три шага, нечеловечески грациозных. Сажусь. Мои руки, совершенные, как восковой слепок с античной бронзы, лежат на коленях.
Моя электронно-механическая тюрьма. Выбирая между тюрьмой и смертью, я ошибся. Сейчас я решил бы иначе – но меня не предупредили, что вышку заменяют бессрочным заключением в вещь из металла, микросхем, латекса, стекла, биоморфа и искусственных волос.
Моего в этой вещи – только память. Я кажусь себе роскошной флешкой, на которую записан жалкий человеческий разум.
Впрочем, в последние минуты человеческая плоть была хуже, чем тюрьмой – камерой пыток. Мой байк – под тяжелой фурой, груженной апельсинами или мерзлыми окороками, я – на асфальте, переломанный в труху и почему-то не отключившийся сразу, я смотрю на кисть руки, из которой торчит белая кость – рука лежит в метре от моего лица, в черном пятне машинного масла. Боль такова, что я не могу понять, почему еще жив, еще вижу эту руку, больше не мою, это черное пятно, этот асфальт, серый, в крупинках, четкий, как на макросъемке, почему слышу гул голосов, вой сирены, чьи-то крики…
Тот, нагнувшийся ко мне – не врач. От взгляда его глаз, серых и ледяных, я осознаю положение. Я умираю. Серый лед – как скальпель.
– Хочешь существовать и мыслить? – спрашивает он беззвучно. – Хочешь двигаться? Хочешь остаться здесь, на земле?
– Да! – ору я не раскрывая рта.
Его оттесняют врачи – «Мешаешь, отойди!» – но в последний миг он…
Он забирает меня из тела. Я вижу в его руке, протянутой ко мне, куклу, очень дорогую и прекрасно сделанную куклу – маленького байкера, рыжего, с насмешливой рожей, плотного, в кожаной безрукавке с черепами на отворотах, в джинсах и тяжелых армейских ботинках – и вдруг осознаю…
Эта кукла – я.
Эта кукла – мое точное подобие. Мой крохотный гротескный портрет. И через миг я гляжу ее стеклянными глазами.
Я вижу свое исковерканное тело, свой байк, смятый тяжеленным колесом, врачей, матерящихся над трупом на чём свет, и лужу крови. Я не могу дышать, я не могу говорить, я не могу шевельнуться – но я существую. Я заперт в куклу, как джинн – в лампу.
Тот, кукольник, гладит мои волосы – почти нежно. Шепчет мне на ухо:
– Ты обманул смерть. Тебе сейчас, наверное, неудобно – но это ненадолго. Будет все, что я обещал. Будет легче.
Он, кукольник, – мерзавец. Не знаю, какое он имеет отношение к моей смерти, но к посмертию – самое прямое. Как бы то ни было, он не обманул меня ни единым словом.
Я получил ровно то, что он обещал. Существовать. Мыслить. Двигаться. Остаться на земле. И – да, внутри андроида легче, чем внутри куклы. Относительно.
Андроид стоит втрое дороже, чем мой байк. Он – роскошная игрушка, которая может быть и сексуальной игрушкой. У него пятьдесят стандартных программ движения плюс можно зафиксировать позу. Он повторяет своим томным медовым голосом те фразы, которые вы хотите ему надиктовать. Он – изумительное украшение интерьера, его можно одевать, раздевать, причесывать, поливать духами, менять ему волосы, глаза, кисти рук, стопы – и член, если это андроид мужского пола.
А еще в него можно – в тайне от широкой публики, по особому VIP-заказу для VIP-персон, за невообразимые, несусветные деньги – вселить человеческую душу. И у вас будет вещь, исключительная в своем роде – человек из металла, стекла, электроники и сложных полимерных соединений, осознающий все, помнящий все и, по определению, позволяющий все.
Потому что с пульта управления можно отключить динамик и зафиксировать движения. И тогда получится именно идеальная женщина для живого мужчины или идеальный мужчина для живой женщины. Подконтрольный. Вот за что они платят, эти VIP-персоны. Никакой великолепный стриптизер или жиголо, никакая фантастическая супермодель столько не стоит – потому что они всего лишь несовершенные живые твари, они могут плакать, орать, сопротивляться, двинуть по морде, подурнеть, состариться, подхватить понос или СПИД, начать шляться по мужикам или бабам…
Сломаться в самый разгар игры.
А если сломать меня – придет механик и починит. И можно все начинать с начала.
Моя нынешняя владелица дрессирует меня, как пса.
Мне много помогает то, что я – флешка. Я не могу дышать – поэтому не могу задохнуться от ярости. У меня не бьется сердце – оно не может начать бешено выламываться из грудной клетки. Рыжий байкер был вспыльчив, глуповат, наверное – каждую минуту готов опустить рога и ринуться вперед. Драчлив. Грубиян. Человеческое сердце, человеческие дурные страсти…Все ушло. Я спокоен, как танк, как машина, как робот. Я не чувствую страха. Я чувствую моральную тошноту, ледяную злость, тихое презрение – это всё. Я научился бить по больным местам, используя приторный голос из динамика, как стилет. Механическое тело изменило меня.
Странно, что мне еще не безразлично, что со мной делают.
Я ненавижу слово «любовь». Они меня любят. Просто удивительно, с какой силой они меня любят! Я жажду их безразличия, мне кажется, что было бы легче, считай они меня вещью – пылесосом, видаком, вибратором – но это недостижимая благодать. Они любят меня – и требуют любви в ответ. Они разорились на андроида, наделенного человеческой душой, чтобы быть уверенными – он способен любить.
Они уверены, я – нет.
Моя первая владелица была уже немолодой, лет за сорок – хотя, конечно, на диво сохранившейся и ухоженной. Она страстно восхищалась и тискала. У нее дух захватывало. Она смотрела на меня – и ее глаза влажнели. Она стискивала меня в объятиях изо всех сил, целовала и с придыханием шептала: «Пуся, прелесть, лапушка, чудо! Боже, боже, боже, какой же ты хорошенький! Кисочка, цыпочка, душка!» Ей до дикого восторга нравилась моя неподвижная маска, мое пластмассовое лицо печального эльфа. Она меняла мои тряпки без конца, ей хотелось менять парики и макияж на моей несчастной кукольной башке, она заменила мои бицепсы на другую модель с татуировками в виде сложного готического орнамента, а уши – на новые – с бриллиантовыми серьгами.
Сперва меня это умиляло. Потом начало раздражать.
– Ты понимаешь, что я был живым мужчиной? – спрашивал я, одержимый абсурдной надеждой на понимание. – То, что тебе говорили в этом твоем клубе – это правда. Я был человеком. Мне не нравится.
Она хохотала и целовала мои латексные щеки.
– Не глупи. Слушайся мамочку. Я тебя обожаю, пупсик – я лучше знаю, что тебе надо.