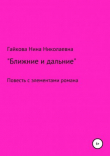Текст книги "Соавтор (СИ)"
Автор книги: Максим Далин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
А я буду думать, что его убили. Уговорили причинить себе смертельный вред, навели порчу не заклятиями, песней и бубном, а обычными лживыми человеческими словами. Может быть, даже получили за это связку дивных песцовых шкурок – кончики волосков тают в воздухе, как морозный туман – или мешочек золотых самородков…
Это я скажу Гнусу, когда увижу его в следующий раз.
В день больших гонок на собачьих упряжках, когда на Волчью Прогалину съезжаются все шаманы и богачи белых земель, я подхожу к Гнусу и говорю: «Кровавые следы ведут из опустевшей типи Искры к твоему дому. Как это вышло?» – а Гнус трясет бубном перед моим лицом, хохочет и выкрикивает, так что вокруг собираются люди: «Облако хочет меня опорочить! Такое оскорбление можно смыть только шаманским поединком! Будем проклинать друг друга до смерти, Облако – люди слышат, ты не можешь отказаться!»
Он убил двоих таким способом – но причиной их смерти был не шаманский поединок. Люди слишком легко верят в шаманские чары, я – дело другое. Многое можно понять, даже не читая следов. Один из его противников, молодой дуралей почти без силы, орал проклятия на морозе, глядя на молчаливо усмехающегося Гнуса – пока холод и вопли не прожгли ему грудь насквозь. Он умирал два дня, кашляя кровью – люди сказали, что духи Гнуса жрут его изнутри. Второй был старик с больной поясницей: Гнус плясал с бубном вокруг него – а ведь все знают, что порчу легче навести со спины… Старик кружился и вертелся до тех пор, пока не задохнулся и не упал; он вскоре умер, и люди сказали, что Гнус его съел… Нет, не шаманская сила, а чужая глупость и чужая немочь… и умные подлые приемы…
«Я не откажусь, – отвечаю я. – Только попросим духов назначить день. Коснись моего бубна, а я коснусь твоего – поглядим, куда приведет след».
Тогда он подозревает подвох. У него дергается щека – а надо мной мягко распахиваются черные крылья. Я глажу обод бубна и вижу душу Гнуса. Он силен, хитер, подл. Он может убить человека его собственными руками. Он знает много примет, разбирается в травах, мясе и камнях. Но в шаманский дар даже не верит всерьез.
«Кто позволит чужому трогать одухотворенный бубен?!» – бросает он, скривившись. Я слышу ложь в его тоне: дело не в бубне, таловом обруче, обтянутом кожей – дело в принципе.
«Я, – говорю я, пожимая плечами. – Если ручные волки шамана – его свита в нижнем мире – не защитят бубна от чужака, то как можно говорить о поединке?»
Нас уже слушают многие. Подходят новые. Смеются женщины. Кивают старики. Снежная Сова смотрит на нас с сияющей вершины своей мудрости, силы и славы, машет рукой: «Да, да. Загляните в глаза судьбе». Гнус недобро усмехается. Я дотрагиваюсь до меток, выжженных на ободе его бубна: это просто зарубки, сделанные раскаленным ножом. Гнус ни о чем не думал, когда царапал обод – вообще ни о чем.
А у Гнуса хватает ума коснуться знака Ворона. Священной метки моего старшего хранителя, того, кто и вправду пил мою кровь и клевал плоть, любимого сына Великого Духа, моего проводника, друга и наставника. Гнус свершает этот безумный поступок только потому, что совершенно не верит.
Но Ворону безразлично. Ворон – дитя Великого Духа, ему не мешает неверие Гнуса. Мой соперник резко отдергивает руку. Не знаю, что он видел – но в его глазах плещутся страх и ярость.
«Я нашел следы подлых мыслей, – говорит он, кривя губы. – Мои духи запрещают мне сражаться сегодня – и раз все призывают прислушаться, я прислушаюсь. Но мое проклятье – на тебе, Облако!»
И я вдруг понимаю, откуда взялась в его душе эта старая злоба без повода. Похоже, ее тоже вскормила зависть. Гнус богат, к нему прислушиваются сильные люди. Его считают сильным шаманом – но то другие, а его собственная душа полна неверия и сомнений. Он может выкручиваться, хитрить и строить козни – его мир плоский, как подошва, плоский и простой, все следы на этой подошве видны – если бы все жили так, Гнус был бы счастлив. Есть Искра, жалкий неудачник. Есть Морошка – ужас заставляет людей ее задабривать. Есть Снежная Сова с его мудростью и опытом, с его спокойной властностью. Все это Гнус может понять – все, кроме Ворона, в которого я верю. Кроме настоящего Ворона, прилетающего из метели. Кроме моей истовой веры – мальчишества, чудачества самого молодого и нищего среди всех шаманов семи белых земель.
Гнус ненавидит меня за Ворона.
Если я умру – все равно как, от пули, зелья, болезни, замерзну – простой мир Гнуса станет незыблем и совершенен.
Не знаю, духи показали мне этот путь, или я сам догадался. Просто вижу. Ко мне подходит Белый Лось, смотрит, как страж: «Все ли в порядке?» – и я ухожу вместе с ним, не оглянувшись через плечо.
А ненависть Гнуса остается. И Белый Лось верит в духов Гнуса сильнее и истовей, чем сам Гнус… Я его не разубеждаю.
За тонкими стенками из оленьих шкур завывает ветер.
– Буря начинается, – говорит Белый Лось. – Мне пора, иначе я не доберусь домой.
Он приподнимает полог, откуда врывается снежный вихрь, словно тоже хочет обогреться – и выходит. Псы радостно визжат; я слышу, как мой друг погоняет упряжку.
Я остаюсь один. Пью остывающий чай. Ем оттаявшее мясо. Слушаю, как снаружи играют духи метели. Мой бубен лежит у огня; отогревающаяся кожа натягивается все туже, на ней проступает силуэт черных распластанных крыльев.
Никто из людей не смеет остаться со мной надолго, даже Белый Лось, мой названный брат, самый отважный из всех. Зато со мной всегда мои духи. Над моей типи кружит священный Ворон, я слышу сквозь вой метели железный свист его крыльев. Я никого не боюсь, но мне мало слышать – я хочу видеть. Мне одиноко – пусть Ворон заполнит меня собой. Я беру бубен и ударяю кончиками пальцев в разогретую кожу. Он отзывается глухим и глубоким темным звоном – и в полосе ослепительного желтого света я вижу выход…
Андрей, маленький и взъерошенный, в своих очках с толстыми стеклами, сидит на хромой табуретке в моей кухне. Перед ним на столе – турка, сахарница и пакет с печеньем.
– Не знаю, где у тебя чашки, – говорит он.
Я подвигаю табурет ногой, сажусь. Я оглушен тем, что произошло.
– Ты, действительно, чего-то стоишь, – говорит Андрей – откуда-то я знаю его имя – а я пытаюсь собрать мысли и заново привыкнуть к своей обычной реальности, к городу, времени, своей кухне, синему цветку газового пламени и запаху кофе.
Они мне не родные.
Мои родные – запах ремней, псины, мокрой оленьей шкуры, застарелого пота. Ужасной, термоядерной крепости, зеленоватой махорки. Кирпичного чая, от которого нужно отковыривать кусочки ножом. Медвежьего жира, который почему-то напоминает мне теперешнему об аптеке. Согретой, туго натянутой кожи.
Я помню вкус вяленой оленины, растертой почти в муку, смешанной с жиром и вялеными же кореньями и ягодами. Вкус сырого струганного мерзлого мяса и костного мозга. Я помню ощущение от мокрой и грубой замши в подушечках пальцев.
Я помню, каково заплетать косы. Помню, как после варварски выполненных наколок болела половина лица – будто на нее плеснули кипятком. Помню прелый ягель под босыми ногами. Помню капкан с застывшим в нем песцом. Помню горячее и блестящее от пота тело девушки.
У нее же, наверное, была пневмония… как она тихо сипло дышала… как я мог вытянуть ее – без антибиотиков, в темном холодном жилище прирожденных кочевников, среди полярной зимы?! Что-то, похожее на гипноз? Чудо?
Помню широкие черные крылья у себя перед глазами. Помню, как взмахиваю руками, и они становятся черными крыльями: я сам – Ворон! Бессмертный Ворон – во мне, а я – в нем! Помню гул бубна, поднимающий душу, и неописуемое ощущение бесплотного и стремительного полета над белой бескрайней равниной…
Я сижу на своей кухне и вспоминаю непрожитую мною – или почти прожитую? – жизнь человека из другого мира. Его безнадежное одиночество. Смесь избранности и обреченности. Его дикарскую открытость и дикарскую же замкнутость. Его откровения. Его веру.
Облако…
– Ты так вывалился, что я среагировать не успел, – говорит Андрей. – Это с непривычки, потом научимся…
– Облако…
– Белый Лось видел сестренку Облака, – продолжает Андрей. – Ей лет двенадцать. По меркам хигамэ она настоящая красавица. По нашим… ну ты понимаешь. Но у нее очень живая мордашка.
Хигамэ, вспоминаю я. Народ Ворона. Родичи Облака. Мои родичи?
– Облако – не ты, – говорит Андрей. – Ты должен это хорошо осознавать.
– Его мысли текут сквозь мои, – говорю я. Достаю чашки, разливаю остывший кофе, ставлю для следующей порции воду на огонь. – Я понял, как это. Я помню его памятью. Это безумие какое-то. Я помню его мать, помню, как он играл с деревянными чертиками – фигурками духов… когда ему было лет пять, не больше. Помню, как старый шаман проверял его… как бы сказать, черт?! На степень одержимости, наверное…
– Это правильно, – кивает Андрей. – Когда ты открыл выход, я уже почти не сомневался. А сейчас точно знаю: у тебя нормальная настройка. Ты ведь почему не мог туда войти, понимаешь?
– Нет, – я пью холодный кофе. У меня горят щеки.
– Ты писатель?
– Лузер я.
– Брось. Ты еще какой писатель. Просто почти все писатели делают одну и ту же фатальную ошибку – они сами туда прутся, понимаешь? Сами – своим телом, своими мозгами, своей душой… Но что бы ни ваяли дешевые писаки, никакой дурак из нашего мира в другой со своей памятью, своими мозгами и своим тщедушным тельцем не попадет.
– А как же я тогда?..
– Ты… ну как объяснить… скажем, у тебя хватило чутья отказаться от себя, – говорит Андрей и засовывает в рот печеньину. – Слушай, а у тебя еще что-нибудь пожрать есть? Так вот. Как только ты перестаешь цепляться за себя, за свою индивидуальность, память, амбиции – так он тут же и пропадает. Барьер. И все.
Я вытаскиваю из холодильника нарезанный сыр в пленке и масленку. Думаю – и вытаскиваю пачку пельменей.
– Не может быть… Так просто?
Андрей улыбается – кривя губы влево, блестя глазами и стеклами очков.
– Просто? Нет, щелкопер, это, знаешь ли, очень непросто. Если бы это было просто – никто бы не мучился, люди разгуливали бы по другим мирам, как по своему дачному участку. Ты пойми: в сущности, у каждого есть только он сам.
– Но я…
– А ты, похоже, действительно, писатель. Ты, между прочим, того… пельмени-то сыпь, вода кипит уже. Знаешь, я чего только не насмотрелся! И психов видел, и жлобов, и на киностудии был, и в куче театров… Все обещают выход. Выход! И почти никто не знает, что это такое. Чем модерновее – тем отстойнее. У всех на уме только слава и бабки. Уроды… Ничего. Я тебя проведу куда угодно.
– Ты писатель? – спрашиваю я, ставя перед ним тарелку.
– Я – актер. Фигу я им буду сниматься в сериалах, фигу! Идут они в сраку со своей рекламой! Я – характерный актер. Мне надо играть тому, кто в чем-то шарит – и выход видеть. Самое главное – видеть выход – тогда я идеально перевоплощаюсь. Так что я буду играть тебе. И за мной ты войдешь куда угодно, потому что у меня своей собственной индивидуальности нет совсем. Я – идеальный проводник.
– Как – нет?!
– А так, – Андрей выкладывает в тарелку с пельменями полстакана сметаны, вытряхивает на сметану пригоршню молотого перца и столько же соли. – Хороший актер – чистый лист. Рисуй, что хочешь. Я в себя впущу любую иномирную сущность – а ты войдешь за мной без проблем. Как домой. А как войдешь – так сразу вспомнишь.
– Вспомню…
– Жизнь, которую ты не прожил. Только не бойся. Правда – в деталях, запоминай детали, потом легче будет записывать.
– Как же слава и бабки? – спрашиваю я, с легким ужасом глядя, как Андрей уписывает соль и перец, слегка разбавленные пельменями.
Он поднимает глаза.
– А ты почему не пишешь для коммерческих проектов? По компьютерным игрушкам? Или по типу «Вовка в Тридевятом царстве», про Янку при дворе царя Гороха? Тебе слава с бабками не нужна?
Я молчу.
– И мне стыдно, – говорит Андрей. – Легче вагоны грузить или холодильники на девятый этаж таскать уважаемым гражданам, чем продаваться за бабки… Хотя, многие со мной и не согласятся…
– Тебе же нужны зрители, – заикаюсь я.
– Меня устроят читатели, – хмыкает он. – Твои читатели. Мне нужны не зрители, а партнеры. И выход. Вот что. Самое главное, что нужно – это выход. А прочее – шлак.
– Андрей, – говорю я нежно, – а давай попробуем еще разок?
– Сейчас доем – и вперед, – отвечает он и улыбается влево.
Мне в кои-то веки повезло.
Андрей живет у меня. Мы почти не спим. В коротком тревожном сне я вижу выходы, которых еще не открывал. Передо мной – бесконечная непостижимая Вселенная; я просыпаюсь в нервном ознобе, со странным чувством смешанного восторга и дикого страха, от которого мутит и встают дыбом волоски на руках. Андрей, который ночует у меня, на полу в спальном мешке, дергается от взгляда, просыпается рывком, взъерошенный, нащупывает очки, надевает, смотрит на меня, еле переводя дыхание.
– Ух… видел глазами летучей мыши. И слышал ее ушами. Сердце не успокоить.
Я предчувствую, что у меня это еще впереди. Я ещё не бывал в теле – или внутри души – какого-нибудь непредставимого создания, но мне и людей из иномирья хватает с избытком. Все чувства во время наших странствий заостренно сильны; каждый раз, готовясь шагнуть в другой мир, я чувствую себя космонавтом, выходящим в открытый космос. От сладкого щемящего ужаса у меня останавливается дыхание и холодеют руки. Я делаю над собой усилие – и ныряю в чужое бытие.
Самое сложное – это удержаться от приступа паники в первые секунды, когда состояние твоего… носителя? персонажа? твоей тени в инобытии? – похоже на амнезию. Барахтаешься в чужом сознании, как в глубокой холодной воде, не вздохнуть – и нет ни верха, ни низа, как в невесомости.
Пока меня выручает Андрей. Какой-то осколок его разума заставляет то, что он называет «ролью», обратиться ко мне по имени и приказать: «Вспоминай!» Стоит начать вспоминать, как тождество с чужаком, чьи тело и душа стали твоими, становится полным.
Ощущения настолько остры, что, вываливаясь в реальность, я несколько минут воспринимаю ее как сквозь вату. Время в разных мирах идет по-разному: иногда уйдешь на четверть часика – а они займут реальные сутки, иногда месяц в чужом мире занимает ночь нашего. Подгадать невозможно. Мы выбираемся в реальность только отдышаться, обсудить и по делу: Андрей уходит на работу, я записываю – я ухожу на работу, Андрей занимается каким-то немыслимым тренингом.
Реальная квартира требует реальных денег на оплату, а наши живые тела – хоть какой-то относительно реальной еды. Мы не можем уйти насовсем; есть какой-то внутренний ресурс, напоминающий, что наш дом – Земля, Питер, кончается нуль-первый, начинается нуль-второй – нулевые годы двадцать первого века.
Я выхожу на улицу, в январскую оттепель, которая пахнет апрельским лесом – и мир ярок, как любой из миров бесконечной Вселенной. У меня случается ослепительный приступ любви к бытию. Я, проживший уже несколько жизней, кажусь себе старым и юным одновременно. Моя собственная личность кажется мне одной из «ролей». Я рассматриваю собственную личность со стороны. Это очень забавно: эскапизм наоборот.
Мой родной мир не из утопических, но среди миров, по которым мы бродим, еще не попался рай. Мой персонаж – писатель, живущий в тяжелое время. Я выхожу назад, на Землю, в Питер, в двадцать первый век – как в любую из самых безумных фантазий. Вялотекущий Апокалипсис, который меня окружает, кажется мне любопытной темой для разработки.
Моя жизнь полна смысла.
Вероятно, правильнее сказать – каждая из моих жизней полна смысла. Меня почти не волнуют драматические расклады; делая записи после путешествия, я не пытаюсь уложить свои впечатления в сюжет. Я всего-навсего обживаюсь в чужих душах. Меня не особенно волнует, хороши или плохи мои «роли» с точки зрения обычной морали – я существую за гранью добра и зла. Я впитываю чужие чувства и чужой опыт, как губка – и какого свойства этот опыт, мне безразлично.
Пока уж слишком сильно не торкнет.
Однажды я открываю тот самый мир, который показывал кандидаткам в воительницы. Андрей влетает в яркое лето – и в первый миг мне кажется, что он остается таким же коротышкой, как и был, даже ниже, пожалуй. В его фигуре и движениях что-то неуловимо меняется.
На нем – темная туника, затасканная кожаная безрукавка, кожаные штаны. Он босой – от постоянной ходьбы босиком кожа на его ступнях задубела, как грязный панцирь. Несет суконный мешок, захлестнутый ремешком; содержимое мешка выпирает острыми углами.
Он оборачивается ко мне, смотрит снизу вверх, как-то скособочась, искоса. Я вижу его лицо, перечеркнутое старым, скверно зажившим шрамом, лоб, полузакрытый длинной сивой челкой с неожиданной проседью; взгляд больших ярких глаз пристальный и испытывающий.
Он – коренастый горбатый карлик.
Я шагаю в чужой июль, как в пропасть.
Спотыкаюсь и чуть не падаю. Что-то голова закружилась.
Усмехаюсь, сплевываю. Дрянь было вино, уксус пополам с овечьей мочой, а не вино… до сих пор во рту привкус этой отравы… но где ж я пил?
Даже останавливаюсь. Не помню. Мгновенный страх полосует, как бичом. С ума схожу, что ли?
Карлик подбегает и заглядывает в глаза снизу вверх.
– Мэтр, вы чего, а?
Потираю лоб.
– Погоди, погоди… жарко что-то…
Дотрагивается до меня скорченной птичьей лапкой, которая служит ему вместо руки. На ней – три пальца, как и полагается птичьей лапке. На месте безымянного и мизинца – шершавые обрубки.
– Не надо б вам было пить, где все, мэтр, – говорит карлик озабоченно. – Не сыпанул ли этот жирный боров в выпивку крысиной отравы? Смотрел-то он как на нас, а? И кружку шваркнул об угол…
Треплю карлика по лохматой голове, как мальчишку. В моем уме начинают появляться какие-то проблески.
– Да зачем ему? Брось, он просто чуть не обоссался от ужаса. А кружку разбил, чтобы не испачкаться… об меня…
– Не пейте больше в трактирах, мэтр, – просит карлик.
Его страх за меня что-то мне напоминает. Я улыбаюсь ему, гляжу в его изуродованное лицо – и шквал воспоминаний вдруг обрушивается на меня, чуть не сбив с ног.
– Бог тебя накажет за заботу о палаче, Муха, – говорю я, скрывая усмешкой неожиданный приступ сентиментальности.
– Меня не вы убивали, мэтр, – обиженно говорит Муха, поправляя мешок на плече. – И пустяков-то не говорите – Бог за заботу не наказывает.
Я корчу серьезную мину, киваю. Ладно, в сущности, у меня никого нет, кроме этого бедолаги. Почему бы и не сказать ему об этом хоть иногда?
Я иду по узкой тропе через Сильфов лес, владения герцога. Муха, задыхаясь от жары и усталости, семенит за мной; мне жаль смотреть, как он тащит мешок, но я не хочу мешать ему играть в моего пажа. Мало кто считает Муху человеком, но даже такой получеловек, как он, иногда рвется почувствовать себя сильным мужчиной. Пускай.
Сильфы порхают над цветами, как пчелы. Они – противные, но почти безобидные создания. Правда, в детстве я как-то поймал такую тварь, и она меня чувствительно куснула – но они не лезут, если их не трогать.
Большинство живых тварей не лезет, если не трогаешь. Только люди, кость им в глотку, к таким не относятся.
– О герцогине думаете, мэтр? – спрашивает Муха.
– Сука она, а не герцогиня, – говорю я, пожимая плечами. – Хуже дешевой девки. Паршивая подстилка, а не дама.
– Вам противно, что она вас снова позвала?
Я молчу. Я не знаю, противно мне или нет. Я вспоминаю ее спину, белую, как молоко, круглые и нежные ягодицы, ямочки над ними, золотистый пушок на хребте… Да ладно, я, в общем, не через «не хочу» к ней иду. И по делу. У герцогини бывают боли в пояснице. Палач справляется лучше, чем придворный костоправ, он отлично разбирается в боли и в том, как устроены людишки – потому госпожа и зовет меня… чтобы я потянул ей спину. Это знает вся дворня. А сам палач знает еще кое-что.
От палача у герцогини и вправду проходят боли в пояснице. Иногда надолго.
Герцог от этой беды, почему-то, слабо помогает. Может, потому что герцог не первой молодости? И какой-то… слащавый, хлипкий, хоть и толстый… Когда я смотрю на герцога, невольно думаю, что его, в случае случившегося случая, не стал бы вздергивать на дыбу или ломать ему кости – может откинуться до конца допроса; таким загоняют иглы под ногти или жгут пятки. Обычно вполне хватает.
Герцог мне противен, а я ему страшен. Он делает вид, будто снисходит до меня – твари презренной и отвратительной, вымазанной в крови и грехе по уши – но я нюхом чую его страх. Интересно, за ним есть что-нибудь такое, чем могла бы заинтересоваться Тайная Канцелярия? Вот умора, если он боится меня, потому что сам – заговорщик или бунтовщик!
Но по большому счету, мне наплевать на герцога. Ему никогда в страшном сне не приснится способ, которым я лечу герцогиню. Мне становится смешно.
– Герцогиня – сука, – говорю я, смеясь, – но задница у нее хороша. Будем смотреть на все с веселой стороны.
Муха тоже смеется, от смеха помолодев лет на десять. Я наблюдаю за ним и думаю: какая сила создала его таким, какой он есть? Бог? Демоны? Бог начал, а демоны вмешались? Как он себя чувствует внутри такой исковерканной, получеловеческой оболочки? При таком убогом тельце у него, похоже, настоящая человеческая душа – как она там умещается?
Люди чувствуют к нему какую-то животную вражду. Если от меня шарахаются из страха, то его пинают от гадливости. Урод, урод… Не знаю. По мне, не такой уж урод – я видел нормально сложенных людей, которые были мне гораздо противнее. А Муха… его подвижная обезьянья мордашка, по-своему, даже симпатична: глаза большие, блестящие, ярко-зеленые, как у кошки, острый носик, крупный рот, детская улыбка… Выбитый резец, жуткий шрам, сухая рука, на которой эти пьяные скоты ломали пальцы, – всего-навсего увечья. Никаких шрамов от рождения не было – это добрые люди удружили, те, что хотели прикончить его просто от пьяного веселья, другие – у которых он просил милостыню…
Я не могу этого понять.
Я – наследственный палач. На мне написано, на мне печать, клеймо, ярлык. Я – палач с рождения, ничего другого у меня быть не могло. Может, поэтому я не женюсь: кажется дикимобрекать своего ребенка на проклятие. У меня довольно противная, грязная, нервная, тяжелая работа. Я служу королю, как обречен и как умею. Но почему иные люди наслаждаются тем, чем я занимаюсь по приказу и за деньги – не постигаю.
Я бы так не смог. Наверное, золотарь похоже недоумевает, если вдруг увидит дурака, радостно измазавшегося дерьмом. Когда люди при мне убивают собаку или кошку для забавы, бьют детей, измываются над уродцем – меня это раздражает. В этом есть что-то более грязное, чем в любом допросе под пыткой или казни. Ведь я допрашиваю врагов короля, они творили зло – а когда казню, стараюсь закончить быстро и эффектно. Я не деревенский свинорез, чтобы рубить голову с трех ударов – у меня есть представление о цеховой чести, если палачей кто-нибудь возьмется считать цехом.
Муха вообще ни в чем не виноват. И я не уговаривал его остаться жить в моем доме – он остался сам, сам захотел быть моим пажом и слугой. Не знаю, сколько ему лет – он уже не ребенок, но еще совсем молод; он жалостлив, добр, сметлив и привязан ко мне. Он никому не делал зла – даже красть не умеет, ему мешает сухая рука. Разве он заслужил постоянное желание горожан причинить ему боль?
Нам навстречу попадаются две поселянки. Смотрят на меня, хихикают – и вдруг одна расширяет глаза:
– Фанни, это же мэтр Лоннар, палач!
Девицы шарахаются с тропы, подхватывают юбки, улепетывают. Узнали, ишь ты…
– Дурочки, – уязвленно бормочет Муха.
– Обычные девицы, – возражаю я. – Им маменьки запретили с палачами пересмеиваться.
Муха фыркает. Тропинка вливается в проезжую дорогу; высокие острые башни замка плывут над деревьями. Почти пришли.
Я иду к воротам. На дороге довольно многолюдно – и все, даже молодой аристократик верхом на сером крапчатом жеребце, косятся на мой черный плащ, застегнутый на плече бронзовым черепом, и уступают дорогу. Правильно делают.
Среди моих… как бы поделикатнее выразиться… клиентов, ха! – бывали и дворяне. Теоретически могут влететь и аристократы королевской крови, столица рядом. Мне плевать на любые регалии – как смерти.
Меня впускает привратник герцога, спесивый сухой тип с желтушными белками. На меня он смотрит, как на бешеную собаку – с отвращением и опаской. Я широко и приветливо ему улыбаюсь, а Муха отвешивает насмешливый поклон.
– Иди-иди, – бурчит привратник. – Тебя герцогиня ждет, и герцог хотел видеть.
– Какой ты, милый, любезный! – восхищаюсь я. – Хорош, хорош – жаль только, что ты – не гусь.
Выпучивается на меня.
– Ошалел, что ли, Лоннар?
– Будь ты гусь, – говорю я, – твоя печенка сгодилась бы на паштет, а так вовсе ни на что не годится. Подохнешь, если будешь так сивуху жрать.
Муха смеется. Привратник зыркает на меня свирепо и испуганно, поджимает губы и делает вид, что поправляет пышный воротник, а сам тискает ладанку под рубахой. Я прохожу.
Что-то мне не нравится нынче у герцога при дворе. Обычно в приемной ошивается толпа баронов, мальчишки, метящие в рыцари, фрейлины герцогини, которые кокетничают с этим сбродом – а сегодня пустовато. И няня герцогини проходит мимо меня с такой миной, будто ее заставили съесть пригоршню зеленой рябины. Зато меня неожиданно встречает сам герцог.
А вот он – в радостной ажитации. То есть, делает угрюмый вид, насильно сдвигает брови, трясет щеками – но глазки блестят. И морда расплывается в непроизвольную ухмылку.
Что бы его ни обрадовало – мне это не понравится. Тем более, у его камергера вид заговорщика, а лакеи, похоже, перепуганы.
Герцог делает ко мне несколько шагов. Это дико. Я потрясен.
– Ваша светлость?
– Хорошо, хорошо, что ты пришел, Лоннар, хе-хе, – таким тоном, будто сейчас протянет руку. Невозможно. – Ты мне нужен. Сегодня ты сначала для меня поработаешь, а потом уж – у ее светлости, хе-хе…
– Поясницу прихватило? – говорю я, чувствуя себя идиотом.
Он крутит пальцами у меня перед носом, будто хотел сделать «козу» и вовремя спохватился.
– Вора я поймал, Лоннар, – и хихикает. – А ты мне его расспросишь. О тебе хорр-рошо говорят, ты для Тайной Канцелярии допрашиваешь людишек – так этого-то, я думаю, ты – вмиг…
Да кость тебе в глотку!
– Я, – говорю, разглядывая голую девицу на картине, – работаю на короля. По приговорам Тайной Канцелярии или королевского суда. А не так – с бухты-барахты.
Герцог снова хихикает.
– Так я заплачу, – и сует мне бархатный кошелек. Судя по виду и весу кошелька – у герцога с вором личные счеты.
Мне гадко.
– Незаконно, – говорю я.
– Я вдвое дам, – заверяет герцог. Его страшно занимает мысль о допросе под пыткой. Я смотрю на него и думаю, что было бы забавно навешать ему горячих – не кнутом, Бог с ним, но бичом. Содрать шкуру с задницы и посмотреть, так ли уж ему понравится.
– Что он украл? – спрашиваю я.
– Покушался, – хихикает герцог. – На мое доброе имя.
– А почему это так вас радует? Вы давно хотели от него избавиться?
Герцог начинает раздражаться.
– Но ты, палач! Легче на поворотах! Твоя шкура и вовсе ничего не стоит. Мои люди, конечно, твоей науке десять лет не обучались, но башку тебе свернут в лучшем виде – так что бери деньги и иди за мной. Хватит ломаться.
Муха незаметно дергает меня за рукав – беспокоится, не нажил бы я проблем. Нет смысла продолжать спорить. Я в досаде иду за герцогом, и Муха, вздыхая, плетется за мной – он не любит присутствовать при моей работе, тем более – помогать, а сегодня, похоже, ему придется. Замыкает шествие камергер с ключами. Мы спускаемся в подземелье замка; я раздраженно шлепаю ладонью по сырому заплесневелому камню стены – и вдруг передо мной открывается лучезарная дверь, ведущая в чистый свет…
Андрей в ярости.
– Ты какого дьявола сбежал?! Мы только начали! Из-за тебя я не знаю, что дальше!
– Слушай! – взрываюсь я. – Я вообще не ожидал, что в этом мире выйдет такое жестокое попадалово! Я, как этот Муха, тоже не хочу, блин, смотреть, а тем более – участвовать! Не могу! Мне его памяти хватает по горло!
Андрей усмехается.
– Да брось! Этот Лоннар – нормальный мужик, не злой, не псих… подумаешь, палач! Это же средневековье, в сущности – ясное дело…
Я пью воду из носика чайника – запиваю затхлый запах подземелья, духи герцога, смешанные с потом и вонью изо рта, и совершенно кошмарную память Лоннара. Обливаюсь. Отряхиваюсь. Пытаюсь успокоиться.
– Что ты знаешь?! Ты же глазами Мухи на него смотришь! А Муху он не обижал…
Андрей улыбается.
– Точно. Твой Лоннар и Мухи не обидит. И вообще – не похож на маньяка. А если бы и был похож – что из того? Что, щелкопер, тебе в его душе темно и страшно? Дрейфишь?
Я сажусь. Мне холодно.
– Андрей, я не хочу убивать, а пытать – тем более. У него не память, а сплошной пыточный застенок, он к любой кровище относится с профессиональным пофигизмом – но я-то не наследственный палач, слава Богу! Моя собственная личность сопротивляется, когда он начинает размышлять на привычные темы…
Андрей зажигает газ, чтобы сварить кофе.
– Думаешь, в теле горбуна – уютнее?
Я пожимаю плечами.
– Считаешь, что моя роль – чище? Брось, там тоже хватает. Этот Муха на десяти сковородах жарен – седина в двадцать два просто так не появляется… Нет, ты вот что пойми: себя надо отделить от персонажа. Не ассоциировать. Не трещи крылышками – лично тебя никто никого убивать не заставляет. Наблюдай, попытайся понять…
Я не уверен, что у меня хватит духу. Одно дело – читать книжки и смотреть фильмы. Другое – выход. Хруст выламываемых суставов, вопли, запах крови, дерьма, блевотины, скрип блока дыбы, чьи-то безумные лица – сквозь вполне прозрачный фильтр Лоннаровой профессиональной деформации психики…
– Герцогиня – ничего себе? – спрашивает Андрей.
– Толстая, – говорю я. – Деваха с картины Рубенса, грудастая такая плюшка. Лоннара она заводит, что до меня… не в моем вкусе. Да что ты о ней, провокатор?! Она, похоже, еще с кем-то путалась, а Лоннару теперь – пытать ее хахаля! Нет уж, я туда больше – ни ногой!
– Ты хотел этот мир посмотреть…
– Я насмотрелся! – рявкаю я.
Андрей улыбается. У него загадочный вид человека, который успел понять что-то, еще непонятное мне.
– Ты успокоишься, – говорит он уверенно. – Через некоторое время тебя снова туда потянет. Невозможно оставить драму без финала – а там интересно. Ты же сам чувствуешь, что там интересно – и Лоннар с его горбуном тебе интересны?
Я вдыхаю запах кофе, пытаясь не думать о вони каземата.
Я уже понимаю, что он прав. Разумеется, не сейчас, даже, наверное, не завтра – но я вернусь.
Куда я денусь? Я уже плотно сижу на этих странствиях по чужим жизням. Плотнее, чем на игле. Но пока мне хочется эмоциональной разрядки. Я уже давно видел эту… келью – не келью, забавную такую комнатушку: на сверхъестественно широченном ложе множество перин и подушек, стена завешена грубым гобеленом, на котором в кубистическом стиле вытканы шлемоголовые всадники на деревянных лошадках посреди сине-зеленого дремучего леса, к бронзовому подсвечнику подвешена странная вещица из блесточек, перышек и ниточек. У стрельчатого окна – широкий подоконник, на подоконнике – массивная расчерченная доска на манер шахматной; в окно сияет небо – одно только небо.