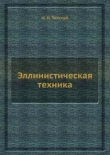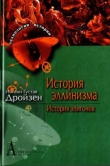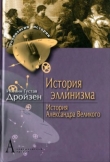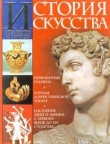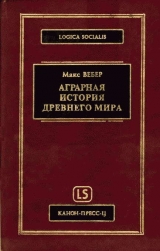
Текст книги "Аграрная история Древнего мира"
Автор книги: Макс Вебер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
«Несвободный труд на дому» («die unfreie Heimarbeit»), как один из видов барщины (des Robottsystems), имеет экономически слабые стороны последней, и еще вопрос, в какой мере она служила целям производства для рынка. Фараоны и храмы пользовались такого рода трудом главным образом для надобностей храма, дворца и государства, в особенности, конечно, в тех случаях, когда сырье было вывезено фараоном (или храмом) из-за границы или добыто им из недр земли; рядом с этим могла производиться продажа продукта на рынке. Во всяком случае, и эта работа там, где она встречается, представляет собой работу в собственном мелком (семейном) производстве раба.
Квалифицированный рабский труд в крупном производстве, как явление длительное и нормальное (и за пределами немногих крупных торговых центров), можно встретить только на местах рабов-руководителей – старшего рабочего или инспектора в руднике или на плантации, в конторе, в частности, ведущего кассу и заведующего счетоводством (ввиду возможности подвергать их пытке) и т. д. Но этой аристократии среди рабов, обыкновенно в интересах самих же господ, разрешалось иметь подобие собственной семьи (contubemium) и подобие собственного имущества (peculium[35]35
Peculium – пекулий (от лат. pecus – скот) – первоначально означал собственность сына или домашнего раба, состоящую из скота. В римском праве – часть имущества, которую глава семейства (pater familias) мог передать сыновьям или рабам в пользование (а не в собственность).
[Закрыть]); иной раз даже соглашались уважать их завещания (как у Плиния[36]36
…как у Плиния… – имеется в виду Плиний Младший (Plinius Junior, 61 или 62 гг. – ок. 114 г.), римский писатель, оратор, адвокат, общественный и государственный деятель, племянник и приемный сын Плиния Старшего. Из сочинений Плиния Младшего сохранились сборники писем («Epistulae») в 10 книгах и похвальная речь «Панегирик» императору Траяну. «Письма» рисуют Плиния как образованного, доброго человека, делами доказавшего свою человечность по отношению к рабам и вольноотпущенникам.
[Закрыть]) и, сверх того, почти всегда предоставляли им возможность выкупа на волю. Тем самым этот род эксплуатации рабов является уже переходной ступенью к эксплуатации обученного раба, т. е. или обучившегося уже до своего обращения в рабство (по причине войны или банкротства), или отданного в ученье господином за свой собственный счет, только как источника ренты (als Rentenfonds).
Такая эксплуатация могла производиться посредством отдачи раба внаем в качестве «работающего на заказ» («Lohnwerker»), что носило массовый характер, причем нередко риск, связанный со смертью раба, переносился на нанимателя. Но еще выгоднее было, потому что тут затрагивался собственный интерес раба, снабжение раба известной суммой денег (peculium), с которой он мог бы заняться ремеслом или мелкой торговлей на свой страх и риск. Господин получал свою άποφορά[37]37
Αποφορά, ή (apophora [orum]) (άποφορω) – ион. άποφορή – дань, подать; особый оброк, или подать, которую платили своим господам рабы, отпущенные на заработки; форма денежного или натурального обложения раба господином, пожаловавшим этому рабу определенную сумму денег (пекулий), для того, чтобы тот мог начать свое дело.
[Закрыть], которую он мог увеличивать, поскольку это можно было сделать, не ослабив собственного интереса раба; кроме того, он мог амортизировать стоимость вложенного в раба капитала через посредство его самого, предоставив рабу возможность употребить сбережения от своего заработка на выкуп себя из неволи, но и при выкупе раба сохраняя за собой право получать со своего бывшего раба определенные платежи и службы, и – для чего особенно римское право предоставляло в его распоряжение самые разнообразные правовые формы – присваивая себе из наследства вольноотпущенника[38]38
Вольноотпущенники (лат. libertus, libertinus) – рабы, отпущенные на волю актом освобождения. В Греции было также распространено т. н. культовое освобождение, когда рабы посвящались богу и благодаря этому становились свободными, хотя и не гражданами (положение греческих вольноотпущенников было близко к положению метеков в Афинах). Кроме освобождения по воле господ, рабы, особенно в поздние времена, могли выкупить себя на свои сбережения. Греческие вольноотпущенники не получали гражданских прав. В Риме они могли подняться до высоких постов в государстве (особенно при Клавдии); сыновья вольноотпущенников во времена Империи могли стать всадниками и даже императорами (например Диоклетиан); но в основном они принадлежали к классу мелких производителей и были доверенными лицами своих патронов.
[Закрыть] установленную законом или контрактом, или завещанием долю (в некоторых случаях и все наследство целиком). Риск потери капитала из-за смерти раба сильно уменьшался, когда раб устраивался самостоятельно, обзаводился семьей и обучал детей своему ремеслу. Ручательство господина за коммерческие дела раба, рабское право, обычно ограничивалось лишь размером его пекулия, хотя, конечно, формально он имел право наложить руку целиком и на все предприятие своего раба. Однако, слишком часто пользоваться этим правом, по крайней мере, крупному рабовладельцу в древности – как и в России перед освобождением крестьян – мешала необходимость поддерживать собственный интерес раба, а также – достигшее в России в свое время такого совершенства – искусство рабов утаивать свое имущество. Очень многочисленные во все периоды древней истории и вызывавшие нередко вмешательство законодательства случаи отпуска рабов на волю, которые, конечно, не могут же объясняться одним тщеславием господ и потребностью их приумножить свою клиентуру для политических целей, показывают, как хорошо действовал собственный интерес раба. Но этот несравненно более верный способ извлечения выгоды из владения рабами явным образом уже представлял собой замену капиталистической эксплуатации раба в качестве орудия производства для получения «прибыли» получением с него «ренты» и выкупных денег.
«Борьба между свободным и несвободным трудом» происходила тогда, главным образом, в области мелкого промышленного производства и мелкой торговли; но это не была борьба между крупным производством на основе рабского труда и свободным мелким ремеслом. Тот громадный экономический и политический риск, который ложился бы бременем на всякое состоящее из рабов имущество при непосредственной их эксплуатации, как средства производства, тогда отпадал. Такое положение вещей было широко распространено в древности. Наряду с совершенно лишенными владения свободными крестьянами, мелкими арендаторами, мелкими торговцами и ремесленниками, работающими на заказ (Lohnwerker), существовал а) слой свободных мелких собственников, занимавшихся торговлей и мелким ремесленным производством (для рынка) (Preiswerker), которые могли иметь при себе в поле или в мастерской одного или нескольких рабов, может быть, взятых на войне в качестве добычи или купленных на свои сбережения, в качестве подручных («Gesellen»), а затем б) слой несвободных обученных ремесленников и мелких торговцев, крепостных крестьян или несвободных мелких арендаторов. Только в качестве взимающего подати господина (Tributherr) стоял тогда над самостоятельно хозяйствующим несвободным его крепостной барин (Leibherr), подобно тому, как над крестьянином и свободным мелким торговцем или ремесленником стоял иногда его кредитор, а над свободным колоном тот, у кого он снял землю. Этот способ эксплуатации раба в качестве «источника ренты» (als «Rentenfonds») для того, чтобы приносить господину прибыль, должен был, само собой разумеется, предполагать широкое местное денежно-хозяйственное разделение труда; но раз оно было налицо, он должен был, по вышеуказанным причинам, иметь тенденцию не только к занятию прочного положения наряду с эксплуатацией раба в качестве средства производства, но, естественно, и распространяться, в особенности там, где господин (как, например, полноправные граждане в противоположность метекам[39]39
Метеки (греч. переселенцы) – лично свободные люди, переселившиеся в какой-либо греческий полис и не имеющие в нем гражданских прав. За право на жительство, на занятие ремеслом или торговлей метеки обязаны были платить особый налог – метойкион. Среди метеков были богатые купцы и владельцы ремесленных мастерских.
[Закрыть], должностная знать в противоположность «рыцарскому (всадническому) сословию») много времени отдавал политической деятельности и потому не мог сам заниматься хозяйством, в особенности, если к тому же цена на рабов держалась высокая.
Что касается конкуренции свободного и несвободного труда, то, при густоте населения, высоких ценах на землю и неизбежно возникающей при этих условиях интенсивной культуре, при свободном обороте, при отсутствии крепостных отношений, эксплуатация деревенского земельного владения в форме сдачи земли в аренду мелкими участками являлась в древности, как и в настоящее время, несомненно, самой выгодной в экономическом отношении. Ведь, вообще мелкое производство в сельском хозяйстве Древности является правилом, и только в плантационных культурах – к которым в древности принадлежали виноделие и культура оливкового масла – крупное производство с применением рабского труда было обычным явлением. Хлебопашество, да еще при состоянии древней техники, требовало слишком большого интереса со стороны рабочего, чтобы оно в качестве нормального явления могло быть доступно производству с рабским трудом. Только дешевизна рабов вместе с высокими ценами на производимые плантациями продукты являлась в сельском хозяйстве условием, благоприятным для крупного производства с применением рабского труда. В промышленности и в мелкой торговле премия на собственный интерес раба в виде возможности выкупа могла, пожалуй, оказывать свое действие и усиливать его конкуренцию везде, где вообще была возможность делать сбережения. Не было случайностью, что вольноотпущенники, которые, будучи еще рабами, научились работать и делать сбережения, достигали экономического преуспеяния; отчасти, конечно, это могло быть также просто последствием закрытия для них доступа к политической деятельности. Если надписи императорской эпохи делают вероятным, что рабский труд а) ив промышленности был представлен на Востоке слабее, чем на Западе, б) рабы чаще употреблялись на более грубых работах, то первое является отчасти следствием выясняемых ниже исторически сложившихся особенностей восточной культуры, отчасти же это показывает, какое важное значение имело обусловленное политическими причинами, более богатое снабжение рабами римского рынка; второе же объясняется тем, что города, естественно, не очень часто брали на себя риск и расходы, связанные с продолжительным обучением рабов. Поэтому нельзя считать прямое вытеснение свободного труда исключительно, или даже хотя бы преимущественно, последствием конкуренции рабского труда.
Впрочем, наряду с усиленным конкуренцией иноземных покупных рабов, и без того не чуждым Древности социальным дискредитированием труда (см. ниже), действовала и такая тенденция к вытеснению свободного труда повсюду там, где только (как позднее на Востоке) бремя военной службы не было возложено на профессиональных воинов, наемных солдат или господствующих в стране чужеземцев; непрерывные тяжелые войны с переменным успехом, удерживавшие свободное население из года в год в походах и разорявшие его экономически, должны были, – как сообщает Аппиан, – благоприятствовать развитию рабского труда в целом в ущерб свободному труду и всех форм рабской эксплуатации. Военное же расширение территории государства и большие победы обыкновенно способствовали расширению рабовладения, удешевлению рабов и вместе с тем усиливали побуждение к капиталистической эксплуатации рабов в собственном производстве (плантации, мореходство, горное дело, эргастерии и т. д.). Для капиталистической эксплуатации рабов, в частности, в сельском хозяйстве, решающее значение должно было иметь, далее, прежде всего, наличие дешевой и притом плодородной земли, что иногда случалось в результате военных или революционных конфискаций, а постоянно там и до тех пор, где и пока редкое заселение больших пространств плодородной земли шло рука об руку с быстрым развитием обладавших покупательной силой городских потребительных центров, – как это было в размерах, не повторявшихся ни до того, ни после, в Риме после объединения древней Италии и после первых победоносных заморских войн.
Уже эти последние замечания и многие замечания, сделанные выше «указывали на то, как сильно» в) политические судьбы и особенности отдельных стран должны были влиять на степень развития свободного и несвободного труда в их отношении друг к другу, на размеры капиталистической эксплуатации этого последнего и на ее направление. Резко подчеркнутое Л. М. Гартманом во всем его значении обременение военными повинностями свободного населения являлось дополнением к рабскому труду больше всего там, где включавшему в свой состав вооруженных за свой счет крестьян и мелких горожан ополчению из свободных граждан приходилось вести хронические войны в больших объемах как это было во времена расцвета эллинской демократии и в республиканском Риме. Условия складывались как раз наоборот, когда войско, по крайней мере часть его – было ли это войско феодальное, или войско неограниченного властителя – являлось войском профессиональным, состояло ли оно из людей, несущих военную повинность, или из наемников, как это было в Египте, во многих эллинистических государствах, в позднейшем греческом полисе, в мировой державе последних римских императоров. Но различие в организации труда в этих последних группах государств показывает, что, во всяком случае, одно военное устройство, как таковое, само по себе не имело решающего значения для степени развития рабства и, следовательно, не определяло окончательно степени и направления развития античного «капитализма». Напротив, громадное влияние имели тут общие политические основы античной жизни и в особенности обусловливаемый, в конце концов, политическим строем характер государственного управления, в частности управления финансового.
Государственные «финансы» в их постепенном развитии из «ойкоса» городского князя с его наполненной драгоценным металлом «сокровищницей» были древнейшим и остаются крупнейшим из всех «хозяйственных предприятий» («Wirtschaftsbetriebe»). Они отчасти заменяют собой частное накопление капитала, отчасти они являются его ускорителем (Schrittmacher), отчасти, наконец, они его подавляют.
1) Что касается того, что они «заменяют» капитал, то полнее всего это достигалось бюрократически руководимой организацией принудительных работ (Robottapparat) фараонов, которая (первоначально) не знает «предпринимателя». Но финансирование больших общественных сдававшихся на руки частным предпринимателям сооружений эллинских городов, как это видно из надписей на постройках, показывает – особенно характерна здесь обычная уплата предпринимателю вперед производственного капитала из государственной казны, – что частного накопления капитала, достаточного для того, чтобы такие большие суммы могли быть взяты для этого из собственного кармана капиталиста, не существовало, что этот пробел должен был восполняться из податей, взимавшихся силой политического или сакрального авторитета. Тут вмешательство частного предпринимателя имело по существу лишь такой смысл: город-государство, которое, в противоположность управлению фараонов, не располагало необходимыми строительными организационными силами, а также (со времен уничтожения натуральных повинностей граждан) подневольными рабочими руками (за исключением государственных рабов, слишком малочисленных для исполнения таких работ и большей частью занятых другим делом – в канцеляриях и регистратурах, в кассах, в монетном деле, иногда при постройке дорог), передавало организацию этих строительных контор и рабочих сил частным лицам за предпринимательское вознаграждение. Далее, что касается сдачи на откуп податей, то надо иметь в виду, что и она в очень многих случаях не включала в себя как раз той функции частного капитала, которую мы привыкли считать для нее характерной, – уплаты откупной суммы вперед. Откупщики часто выплачивают сумму за которую они поручились лишь после того, как соберут все подати/или, еще чаще, после того, как соберут соответствующую часть податей; мало того, там, где государство располагает исполнительными органами, – как мы это видим, например, в птолемеевских Revenue Laws[40]40
Revenue Laws – департамент государственных сборов в птолемеевском Египте; чиновники, собирающие государственные подати. Вебер использует здесь английский термин: revenue – годовой доход (особ, государственный), доходные статьи, департамент государственных сборов; laws – мн. ч. от law – закон; право; правило; судейское сословие.
[Закрыть] – откупщик даже не сам собирает подати; их собирает государство, а откупщики, уже после того, как подати, собираемые натурой, обращены в деньги, только отвечают как поручители за дефицит, а излишек берут в свою пользу. Тут цель сдачи на «откуп», очевидно, одна: приобрести в форме наличности твердую основу для государственного бюджета устанавливая минимум государственного дохода в деньгах. Если это также есть продукт развития системы откупов уже в эллинистическую эпоху и если откупщики нередко брали на себя обязательство уплатить хоть часть откупной суммы вперед, то все-таки такое положение вещей показывает, что нередко очень большие откупные суммы не дают еще права делать заключение о соответственно больших размерах частного накопления капитала. Напротив, система государственных откупов, прежде всего в области откупа податей, была, несомненно, важным средством – а в Элладе, наверное, одним из важнейших – для образования частных капиталов.
2. Но простым «ускорителем» (Schrittmacher) процесса образования частных капиталов финансовое хозяйство может сделаться лишь там, где государство-город, которое, как таковое, не располагало собственным бюрократическим механизмом и, следовательно, нуждалось в государственном откупщике, распоряжалось в качестве властелина домена и землей, и податями огромных завоеванных и подвластных ему областей. Так было в древности в Риме времен республики. Поэтому тут и образовался, несомненно, первоначально главным образом из государственных откупщиков, могущественный класс частных капиталистов, которые во время 2-й Пунической войны[41]41
Пунические войны – общее обозначение трех войн Рима против карфагенян (пунийцев). К III в. до н.э., когда Карфаген превратился в сильнейшую торговую и морскую державу Западного Средиземноморья, а Рим стал владыкой всей Италии, их стремления к господству столкнулись. В 1-й Пунической войне (264–241 гг. до н.э.) Карфаген потерял все владения в Сицилии и Сардинии и должен был заплатить крупную контрибуцию. Гасдрубал в 226 г. до н.э. основал Новый Карфаген и заключил с Римом так называемый Эбрский договор, согласно которому река Эбро (Ибер) была признана границей между областями, тяготеющими к Риму, и областями, тяготеющими к Карфагену. После того, как Карфаген в 218 г. до н.э. разрушил союзный Риму Сагунт, Рим объявил Карфагену войну. Началась 2-я Пуническая война, в ходе которой (218–201 гг. до н.э.) Ганнибал в 218–216 гг. до н.э. чуть не завоевал Италию, но после потери Капуи, Сиракуз и Тарента в Испании вынужден был вернуться в Африку, где потерпел в 202 г. до н.э. от Сципиона поражение в битве при Заме. Карфаген лишился всех своих внеафриканских владений и роли великой державы. Однако при помощи реформ (переход к рабскому интенсивному плантаторскому хозяйству) он смог относительно быстро преодолеть последствия поражения и снова достиг экономической мощи. В Риме решили навеки уничтожить Карфаген как своего конкурента. Поэтому в 3-й Пунической войне (149–146 гг. до н.э.) он был разрушен, а его жители превращены в рабов. Город и страна стали составной частью Римского государства (часть территории Карфагена была превращена в римскую провинцию Африка, часть передана Нумидии).
[Закрыть] – момент достаточно характерный – наподобие современных банков своими деньгами поддерживали государство, но зато уже во время 3-й войны могли предписывать ему свою политику, которым для удовлетворения их жадности к наживе такой реформатор, как Гракх[42]42
Гракх Тиберий: (Tiberius Gracchus) (162–133 до н.э.), римский народный трибун 133 г. до н.э. Происходил из знатного плебейского рода. Пытался проведением демократической земельной реформы приостановить разорение крестьянства. Вокруг реформы разразилась ожесточенная борьба, поскольку ее реализация сильно ударяла по интересам многих оптиматов и поэтому встретила сильное противодействие со стороны сената. В результате закон все-таки удалось принять, но ценой смещения (всенародным голосованием) второго трибуна Октавия, наложившего на закон Гракха вето. Недовольство знати было столь сильным, что во время выборов трибунов на следующий год (134 г. до н.э.), ею были организованы крупные беспорядки, в результате которых Тиберий Гракх был убит.
[Закрыть], вынужден был предоставлять целые провинции и ссуды, чтобы расположить их в пользу своего дела; чья борьба с должностной аристократией, которую они, как «денежные люди» в экономическом отношении имели «в кармане» («in der Tasche»), наполняет собой последнее столетие республики. Расцвет античного капитализма явился следствием этой констелляции и своеобразной внутренней политической структуры римского государства.
3. Наконец, финансовый строй античных государств мог разными способами оказывать «угнетающее» влияние на развитие частных капиталов.
Прежде всего, общая политическая основа античных государств вообще содействовала усилению и без того, как мы уже видели, большой, вызванной способом его составления, непрочности (Labilität) наличного капитала и его нового образования. Податная система (литургии имущих), обычное для греческого полиса, в особенности в эпохи господства демократии, совершенно бесцеремонное распоряжение государства частным имуществом своих граждан (еще в позднейшую эллинистическую эпоху, например, для целей кредитования, причем таким способом, какого никогда не знали средние века: отмечаются даже случаи заклада городом всей частной земельной собственности); далее, существовавшая во всех античных общинах опасность конфискации при каждом политическом потрясении и смене партий (тем более нередкие в монархиях совершенно произвольные конфискации имущества, такие как, например, конфискация земли «половины Африки» при Нероне[43]43
Нерон (Nero) (37–68) – римский император, последний из династии Юлиев-Клавдиев. При рождении получил имя Луций Домиций Агенобарб. Был усыновлен императором Клавдием, получил имя Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь и женился на дочери Клавдия Октавии. После отравления Клавдия Агриппиной был возведен преторианцами на престол (в 54 г.). Согласно источникам – жестокий, самовлюбленный, развратный. В 59 г. убил свою мать Агриппину, а в 62 г. – жену Октавию; по его приказу покончили с собой его учитель Сенека, а также Лукан и Петроний. Репрессиями и конфискациями восстановил против себя разные слои римского общества. В 64 г. после страшного пожара, уничтожившего 2/3 города Рима, Нерон, чтобы отвести от себя подозрения в поджоге, обвинил в нем евреев и христиан (первое гонение христиан). С этого же года он стал выступать как актер, певец и возница на арене цирка. Свергнутый Гальбой, 9 июня 68 г. Нерон покончил с собой, а Гальба провозгласил себя императором.
[Закрыть]), – все это действовало в том же направлении.
Но игравшие гораздо более решающую роль, чем эти – хотя они могли носить и более острый характер – катастрофы, которые затрагивали капиталы отдельных лиц или наличный капитал политической общины, приобретало то, в какой мере практика управления предоставляла простор свободному стремлению частного капитала к прибыли вообще и тем самым и к образованию капитала.
Мера эта часто менялась. Простор этот должен был быть по существу более узким в античных монархиях, чем в республиках. Античный монарх и его государство являются всегда крупнейшими землевладельцами (Grundherren), владевшими землей частью в формах частного права, частью в форме неограниченного господства над покоренными, обязанными платить чинш[44]44
Чинш (польск. czynsz) – в феодальной Европе – регулярный фиксированный оброк продуктами или деньгами, который платился сеньору.
[Закрыть] чужими народами, не имевшими гарантированного права на владение землей. То же самое можно сказать и об античном полисе; в колоссальных размерах это существовало и в Римской республике. Но тогда как для полиса такое владение составляло, конечно, прежде всего объект чисто экономической эксплуатации со стороны постоянно сменяющихся компаний приспешников политических карьеристов и, конечно, прежде всего кредиторов этих последних, и поэтому в городах-государствах, в частности в Риме, именно эти государственные земли в большинстве случаев становились очагами частной капиталистической эксплуатации (спекуляция с откупом податей, спекуляция с арендой земли, производство с рабским трудом – смотря по обстоятельствам), – монарх должен был поступать иначе. С одной стороны, он смотрел на держателей (Hintersassen) своих доменов по существу больше с политической точки зрения: как на опору своего династического могущества. С другой стороны, он должен был в своих же собственных интересах гораздо выше ценить постоянные, обеспеченные ренты, чем это делало руководимое на короткий срок избираемыми должностными лицами управление республиканской общины: ведь для этих последних и для их приспешников на первом плане стояла быстрая нажива в данный момент. Прежде всего, его финансовая политика должна была быть более государственно-хозяйственной, политически ориентированной, направленной на постоянную эксплуатацию платежных сил подданных, следовательно, на осторожно-бережливое отношение к ним, в противоположность на частные капиталистические интересы ориентированную эксплуататорскую политику городов-государств. Поэтому в монархиях мелкая аренда на государственных доменах обыкновенно имеет полное преобладание, тогда как крупная аренда и крупное производство с рабским трудом являются исключением; если римские императоры в своих фамильных поместьях из денежных соображений предпочитали крупную аренду, то в отношении к государственному домену они следовали общему правилу. Но главное то, что в республиканских государствах откуп податей, этот «венец» капиталистической эксплуатации, во всякий момент был готов, как это было в средневековой Генуе, превратить государство в антрепризу[45]45
Антреприза (франц. entreprise) – частное зрелищное предприятие.
[Закрыть] государственных кредиторов и государственных откупщиков. Напротив, в монархических государствах откуп податей всегда находится под контролем, часто все дело или почти всецело переходило в руки государства, но всегда было ограничено в своих шансах на барыш и, следовательно, было лишено своей творческой силы в деле образования частных капиталов, или в большинстве случаев было прямо превращено в комбинацию бюрократического управления с организацией монополии, финансируемой как сравнительно мелкое предприятие.
Этот процесс контроля, монополизации и бюрократизации, нередко полнейшего вытеснения частного капитала, неудержимо шел вперед во всех крупных античных монархиях. Он захватывал постепенно, кроме податей и доменов, также и горную промышленность, важные для государства отрасли торговли и мореходства (в особенности снабжение населения хлебом); далее, нужные двору и армии, необходимые для строительства и общественных работ поставки, банки (в форме как государственных, так и коммунальных монопольных банков; последние существовали, например, в эллинистических монархиях и коммунах для всякого рода размена денег). Таким образом, в то время, как полис только в высочайшей мере усиливал по своему внутреннему существу непрочный (labil) характер частных капиталов (не столько почти всегда оставшейся бесплодной борьбой против имущественных различий во имя равенства граждан, сколько постоянно повторявшимися всякого рода политическими и экономическими катастрофами, вытекавшими из самого существа античной борьбы партий и античного способа ведения войны), но в то же время не мешал при этом все новым и новым вспышкам образования капитала и стремления к капиталистической эксплуатации, этот бюрократический «порядок» монархического государственного хозяйства постепенно доводил до полного истощения как раз крупнейшие частные капиталы, закрывая главнейшие источники прибыли. А затем, там, где в замкнутых монархиях приостанавливалась, с одной стороны, изначально присущая как Древности, так и средним векам эксплуатация деревни городом, а с другой стороны, прекращались войны и связанный с ними захват земли и людей в широких масштабах, там прекращалось и необходимое для расширения капиталистической эксплуатации рабского труда переполнение рынка дешевым человеческим товаром и приток удобных для капиталистической эксплуатации новых земель.
Рука об руку с вызванным всем этим ослаблением и замедлением процесса образования капитала шла обыкновенно (недавно очень хорошо выясненная Ростовцевым) тенденция обеспечивать удовлетворение государственных потребностей с помощью дифференциации и расширения круга лиц, отвечающих своим имуществом или своим личным положением за исполнение государственных повинностей и вследствие этого в административно-правовом смысле прикрепленных к своей социальной функции и к своему владению, что, в конце концов, и привело к тому универсальному господству литургий и munera[46]46
Munera – дарение; дары; приносящий дары (лат.). В Древнем Риме мунера – государственно-денежная повинность богатых граждан; соответствует лйтургии (см. выше, прим. 11).
[Закрыть], к уничтожению всего того, что во время «классической» Древности называли «свободой», которое столь характерно для так называемых «эпох упадка» античных государств.
Столь благодетельный для массы подданных порядок, принесенный монархией, был как раз смертью для капиталистического развития и всего, что на нем покоилось. Тут рабство в качестве источника капиталистической наживы (Erwerb) отступает далеко назад, образование новых капиталов в форме движимого имущества прекращается, так как стимул к этому, заключавшийся в шансах на эксплуатацию капитала падает ниже минимума, необходимого при том характере (Konstitution), какой был присущ античному капиталу, регламентированный и в административно-правовом смысле связанный, но формально, в частно-правовом смысле «свободный труд выступает на первый план экономической структуры. А где монархия, к тому же, принимает теократический характер, там еще и всегда присутствующая в таких случаях религиозная и законодательная «защита слабых» может – как это было на Востоке – превратиться в довольно крепкую границу капиталистической эксплуатации людей.
Обычными результатами этого процесса развития, поскольку он дает себя знать в области аграрной истории, является: уменьшение относительного значения плантации с покупными рабами, мелкая аренда из части продукта, как господствующая форма эксплуатации земельного владения, княжеское и наполовину частное, опирающееся на княжеское пожалование, приносящее ренты поместье (Rentengrundherrschaft) как социально и экономически преобладающая категория владения.
Итак, в общем, самые главные препятствия, которые встречало развитие капитализма в Древнем мире, заключались: 1) в политическом своеобразии античных общин, только что нами рассмотренном; 2) в рассмотренном раньше экономическом своеобразии античной культуры, а именно – чтобы резюмировать это – в ограниченности рыночного производства вследствие ограниченной, благодаря техническим условиям оборота, (экономической) провозоспособности товаров внутрь страны и обратно, в вызванной экономическими причинами и в самом существе его лежащей непрочности (Labilität) капитала и его образования, в обусловленной техническими причинами ограниченности эксплуатации рабского труда в крупном производстве, и наконец, в ограниченности «отчетности», которая прежде всего обусловливается невозможностью строгого коммерческого расчета при применении рабского труда. (Сама по себе, технически, вовсе «не развитая частная бухгалтерия Древнего мира представляет собой отчасти банковскую бухгалтерию, отчасти запись сельскохозяйственной наличности и расширенную отчетность домашнего хозяйства: только первая имеет характер купеческой бухгалтерии; вся остальная частная бухгалтерия – насколько нам это известно – по сравнению с поздним Средневековьем еще совсем не дифференцирована, если приложить к ней мерку капиталистического контроля доходности.)
Существовавшие в древности «крупные производства» с рабским трудом вызваны были к жизни не необходимостью по существу: не способом производства, основанным на разделении и соединении труда, а чисто личными причинами: случайным скоплением человеческого товара в руках одного лица в виде его имущества. Таков истинный смысл «ойкосной» теории. Вот поэтому-то всякое «крупное производство» и остается чем-то до такой степени непрочным (Labiles). «Мытарь»[47]47
Мытарь (от «мытить» – отдавать, брать или снимать внаем; нанимать и отдавать внаем; брать из оброка) – оборотистый человек, кулак, барышник, перекупщик (в настоящее время с негативным оттенком – плутоватый, корыстный, хотя и не мелочный, человек); в Евангелиях мытарями называются сборщики податей.
[Закрыть], мелкий ремесленник, мелочной торговец являются последним словом денежного хозяйства на Востоке и в эллинистическом мире, и как раз со все увеличивавшейся неподвижностью (Stabilität) политической и экономической жизни Запада и с одновременным замедлением процесса образования капитала они, в конце концов, и здесь оказываются господами положения. Всегда, как раз в периоды «насыщенного» порядка, который как раз тождественен с неподвижностью экономической жизни, останавливается и полет капитализма.
Античный капиталистический предприниматель, которого не следует смешивать с капиталистом-рантье, занимает почти всегда довольно-таки непрочное социальное положение, за частичным исключением разве что известных периодов вавилонского и эллинистического развития, как и развития конца Римской республики и начала императорской эпохи. В классический период главный контингент их составляют метеки и вольноотпущенники. Человек, занимающийся промышленностью, в демократической общине (и как раз именно там) нередко не имеет права занимать какие-либо должности. Политически полноправный гражданин, напротив, в идеале, «чужд корысти» (Nichtinteressent), т. е. на самом деле он – рантье или же приближается к типу рантье и в «свободных» общинах всегда прежде всего (так сказать) он – «обязанный делать военные упражнения резервист» (übungspflichtiger Heeresreservist). «Антимонетаризм» государственной теории Древности, по крайней мере по существу своему, не имеет этической основы, во всяком случае, не имеет ее и отдаленно в том смысле и в той мере, в каких его проповедовала средневековая церковь, чувствовавшая антипатию к безличному и потому недоступному моральной нормировке характеру чисто «деловых» отношений. Он обоснован, прежде всего, политически: 1) соображениями «государственной необходимости» (о них будет речь в своем месте); 2) идеалами равенства граждан и «автаркии» (самодовления) полиса и 3) социально: как одно из проявлений общего презрительного отношения господствующего класса рантье к ремесленному труду и к его представителям (als Bestandteil des Antibanausentums). С другой стороны, не существовало никакого этического преображения (Verklärung) промышленного труда (Erewerbsarbeit), и слабые его зачатки мы находим только у киников[48]48
Киники (лат. cynici) – наиболее значительная сократическая школа древнегреческой философии. Получила свое имя либо от Киносарга – гимнасия, в котором со своими учениками занимался основатель кинизма Антисфен, либо от слова «kyon» (собака), поскольку Антисфен считал, что жить следует «подобно собаке». Главные представители кинической школы – Антисфен и Диоген Синопский.
[Закрыть] и у мелкой буржуазии эллинистического Востока. Той опоры, какую рационализирование и экономизирование жизни нашло в религиозно, в сущности, мотивированной «профессиональной этике» начала Нового времени, не доставало античному «экономическому человеку». Он остается в сознании своей среды и в своем собственном сознании «лавочником» (Krämer) и «мастеровым» (βάναυσος). То, что обладание собственным кораблем, нагрузка собственных кораблей собственными предметами обмена и их сбыт через посредство слуги (как это делают цари, храмы, знать приморских областей в древнейшую эпоху), а затем ответвившаяся отсюда έμπορια, т. е. производившаяся в областях морской торговли первоначально, наверное, в форме комменды, а затем и вполне на собственный счет нагрузка чужих кораблей скупленными или взятыми на комиссию товарами, считались – впрочем, всегда с оговорками – вполне почтенным занятием, когда они представляли собой, в сущности, случайное, кратковременное распоряжение капиталом (Kapitalbesitz), а не носили характера постоянного «занятия» («Betriebes»), конечно, не является возражением. Государства Древнего мира, и как раз «свободные» города-государства, были полны сословных различий среди населения и политически обусловленных различий в имущественном праве (в частности, в земельном и наследственном), которые могли сделаться и делались источником всякого рода доходов и прежде всего рент. В особенности в демократиях – стоит только вспомнить политику Афин в отношении к праву гражданства – над всеми другими интересами господствовал мелкобуржуазный интерес к рентам и к «пропитанию». Это отношение ко всему с точки зрения рент и «пропитания» давало себя знать по политическим причинам и в монархиях, поскольку оно не сталкивалось со всемогущими фискальными интересами.