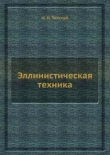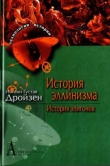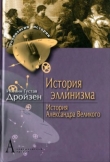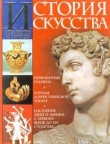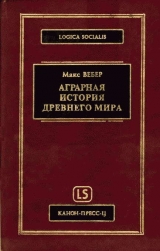
Текст книги "Аграрная история Древнего мира"
Автор книги: Макс Вебер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В этом – решающем – пункте юридически-правовой подход уже, что называется, «не работает». Здесь вступает в свои права политика, апеллирующая уже не к силе права, а к «праву», вернее, самоуправству, силы – насилию, в принципе находящемуся «по ту сторону» права. В этой «парадоксальной» теоретической ситуации приходится апеллировать к «фактичности» исторического процесса, не ведающей различия «справедливого» и «несправедливого», «правомерного» и «неправомерного». И тут уж приходится, вставая на чисто историческую точку зрения, «делать различие между исконным и производным возникновением средневековой городской общины» (1, 343).
Покидая ради этой «ценностно-нейтральной» точки зрения формально-правовую, М. Вебер констатирует, что «при исконном возникновении союз бюргеров был результатом политического объединения горожан в корпорацию, невзирая на «легитимные» (кавычки, означающие в этом контексте нечто вроде скептического «остранения» этого формально-правового понятия. – Ю. Д.) власти и вопреки им, вернее, результатом целой серии подобных актов. Решающее формально-правовое подтверждение этого состояния легитимными властями происходило позже – впрочем, не всегда» (там же). Что же касается «производного» возникновения средневековой городской общины, то оно совершалось посредством предоставленного «союзу горожан» или его потомкам по договору, либо «пожалованного основателем города», «более или менее полного или ограниченного» права «на автономию и автокефалию» (там же).
Впрочем, так или иначе, «революционным» или «оппортунистическим» способом, но «из заключенных от случая к случаю или на короткий срок чисто личных, скрепленных клятвой союзов возникло прочное политическое объединение, члены которого относились к сфере особого сословного права жителей города. Формально это право означало уничтожение старого личного права, материально – разрыв ленных связей и сословного патримониализма. Правда, еще не в пользу подлинного принципа местных корпоративных «учреждений». Городское право было сословным правом членов образовавшегося посредством принесения клятвы объединения. Ему были подвластны те, кто относился к сословию горожан или зависимым от них людей» (1, 346). Это – один из примеров «синтетичности» веберовского подхода, в рамках которого право переплетается с политикой, а политика выливается в то, что в XX. веке будут называть «прямым действием». В общем, «западный город, более точно – средневековый город… был не только экономическим центром торговли и ремесла, политически (обычно) крепостью и часто местонахождением гарнизона, административно судебным округом, но также скрепленным клятвой братством» (1, 340), или «коммуной» (там же). «В правовом смысле» он считался «корпорацией» (1, 341). А значит для того, чтобы ответить на «элементарный» вопрос – что же, собственно, такое «средневековый город», приходится иметь в виду, по крайней мере, четыре системы понятий, каждая из которых дает свое «теоретическое видение» этой «исторической действительности», или «исторического индивидуума», как любил говорить близкий друг М. Вебера, один из лидеров «баденской школы» неокантианства Генрих Риккерт.
И не просто «иметь в виду», но как-то соотносить их внутренне, то есть так или иначе «синтезировать, учитывая, что каждая из этих систем, воюющих друг с другом за теоретическое «обладание» городом, представляет собой результат отнесения эмпирической реальности города к соответствующей «ценности».
III.
СОЦИОЛОГИЯ ИСТОРИИ ФЕОДАЛИЗМА
Понятие «феодализм» вводится М. Вебером уже на первых страницах его «Аграрной истории Древнего мира». Причем вводится оно здесь сугубо социологически в широком смысле этого слова. А именно в связи с проблематикой разделения труда, без которой со времен Адама Смита и Гегеля не обходится ни политэкономия, ни социальная философия. Что же касается самой этой проблематики, то она операционализируется здесь для более обоснованного различения таких категорий как «Древность» и «Средневековье». Согласно М. Веберу, «черты, резко отличающие Древность от Средневековья, вырабатывались на той ступени развития, когда после окончательного перехода к прочной оседлости масса населения необходимостью более интенсивной работы была прикована к земле и по своим экономическим условиям не была уже способна служить для военных целей, так что путем разделения труда выделилось профессиональное военное сословие, которое и старалось для извлечения средств на свое содержание эксплуатировать безоружную массу» (2, 2).
Эта, как видим, уже чисто социологически толкуемая категория разделения труда, используемая для рассмотрения генезиса (и в чем нам еще предстоит убедиться, образа жизни) «военного сословия» кладется затем в основание веберовско.го исторического исследования, с самого начала предстающего как историко-социологическое, или, если быть совсем уж точным, социолого-историческое, поскольку социологический аспект оказывается, в конечном счете, решающим при всей скрупулезности «чисто» исторического рассмотрения М. Вебером мельчайших фактов аграрной истории Древнего мира. Да и само это веберовское исследование можно было бы с тем же правом назвать не «аграрная», а социологическая история Древнего мира, – настолько многоаспектным, вплетенным в целостность всей социо-культурной жизни этого многосложного «мира», оказывается, в конечном счете веберовский историзм, насквозь пропитанный «социологизмом» в самом широком смысле этого слова, не имеющим уже ничего общего с тем, что у нас было принято в свое время называть «вульгарным социологизмом».
И в первую очередь все сказанное относится к понятию «феодализм», без постоянного – систематического – обращения к которому автор названной работы не мыслил себе ни понимание «Средневековья» (что разумеется само собой), ни – что звучало в его времена гораздо менее тривиально, чем сегодня – постижение «Древности». Вот почему вопрос о «древнем феодализме» М. Вебер с самого начала ставит и обсуждает, так сказать, «в полемическом ключе». «Развитие военной техники», – пишет М. Вебер, углубляя свой социологический анализ генезиса «феодализма», – до степени искусства, требующего постоянного совершенствования и упражнения и потому доступного только людям, посвятившим себя этой профессии, шло с этим (выделением профессионального сословия – Ю. Д.) параллельно, отчасти как следствие, отчасти как вызывающая его причина. В Европе в начале средних веков подобный процесс привел, как известно к возникновению «феодализма». В той форме, в какой он возник там и в то время, Древность знала его только в зачатках: соединение вассалитета и бенефиция и та форма, в какую вылилось романо-германское ленное право, не имеют полной аналогии в древности в историческую эпоху. Но ведь совсем и не нужно и не правильно ограничивать понятие «феодализма» только этой специальной его формой. Культурным народам, как азиатского Востока, так и древней Америки, были известны учреждения, которые мы, имея в виду их функции, без всякого колебания признаем «феодальными», и непонятно, почему бы не подвести под это понятие и в с е те социальные учреждения, в основе которых лежит выделение из общей массы живущего для войны и службы царю господствующего слоя (Herrenschicht) и содержание его при помощи привилегированного землевладения, рент и барщин зависимого безоружного населения, будут ли то чиновничьи лены (die Ambslegen) в Египте и Вавилоне или спартанское государственное устройство. Различие заключается лишь в том, каким образом расчленен военный класс и экономически обеспечен» (2, 2–3).
Как видим, в основании веберовской социологии истории вообще (которую автор «Аграрной истории Древнего мира» разворачивает, начиная с философии истории «феодализма») лежит отмена «базисно-надстроечного» понимания соотношения экономики и политики. Политика, исторически возникавшая как политика войны, вооруженного отстаивания права того или иного социального формообразования на свое обособленное существование, выступает у М. Вебера «на равных» с экономикой как хозяйственным способом обеспечения «материальной жизни» людей, поскольку она осуществляется изначально в рамках «общностей» и немыслима без них точно так же, как и они без нее. Если экономика обеспечивает физическое существование каждого, принадлежащего к той или иной социальной общности, то политика обеспечивает «право на существование» этой последней, взятой как некая реально существующая целостность в рамках которой индивид – так или иначе – обретает смысл своего существования.
Расширение хронологических рамок «феодализма», охватывающих две различных фазы истории человечества, привело М. Вебера к выводу о существовали двух довольно существенно расходящихся форм «феодализма», выделив отдельно «индивидуалистическую», как он ее называл, его форму, которую, согласно автору «Аграрной истории…», «мы встречаем на Западе в средние века (а в зачатках уже на исходе Древнего мира) и которая поддается точному анализу» (2, 3). Это одна из «различных возможностей расселения господствующего класса по всей стране. А именно расселение его «в качестве вотчинных землевладельцев (там же). Но кроме этой исторической возможности существовала и другая перспектива, которую «знала в начале своего культурного развития «средиземноморская и, в частности, эллинская Древность» «в начале своего культурного развития»: «городской феодализм» (там же). Это – «феодализм» профессиональных воинов, поселенных совместно в «укрепленных местах» (там же) – тех самых «бургах», о которых М. Вебер писал еще в своей работе о городе.
«Не то, чтобы «городской феодализм» был единственной формой феодализма, известной в древности», – оговаривается М. Вебер. Однако именно «в этой форме он прямо господствовал в позднейших центрах «классической» античной культуры в начале их своеобразного политического развития. Он означал поэтому для них нечто большее, чем то, что означало принудительное переселение сельского дворянства в некоторые города средневековой Италии» (2, 3–4). Дело в том, что к чисто военным импульсам, толкавшим древнюю Европу на путь «феодализации», со временем добавился еще один, на этот раз собственно экономический мотив представителей «господствующего сословия». Речь идет о торговле, в которую «военное сословие» втягивалось все больше и больше, тем более что в торговый оборот все шире включались и предметы военной техники.
«Импорт иноземной и более развитой военной техники, – читаем мы у М. Вебера, – производился в древности в Южной Европе морским путем и одновременно с тем, как раньше всего захваченные им прибрежные местности вступили в широкий, по крайней мере если судить по его географическому притяжению, оборот. Как общее правило, классом который прежде всего извлекал выгоду из этого оборота, как раз и был господствующий класс феодалов. Поэтому специфически античное феодальное развитие привело к образованию феодальных городов-государств» (2, 4). Так обстояло дело в прибрежных южноевропейских городах, в которых – именно по причине их интенсивного торгового развития – «феодализм» сложился гораздо раньше, чем в удаленной от морских торговых путей центральной Европе, где та же самая по существу «феодальная» структура отлилась в существенно иную форму. Когда Центральная Европа «созрела для феодализма», там «не было» товарооборота, столь же сильно развитого, как в древности (там же). И потому там «феодализм строился гораздо более на земельной основе, на которой он и выстроил «феодальное поместье», а социальная связь, «которая связывала здесь господствующий военный слой, была по существу чисто личной связью ленной верности» (там же).
Однако как раз то, что отличает античный «городской феодализм» от континентального средневекового, напротив, сближает его с другими социальными процессами этого последнего, также происходившими в городах в отличие от сельских местностей. Это: «рост свободного ремесла в наших средневековых городах, падение господства знатных родов («Geschlechter»), «скрытая борьба между «городским хозяйством» и «феодальным поместьем» и, наконец, «разложение феодального государства благодаря развитию денежного хозяйства в эпоху позднего Средневековья и в Новое время» (там же). И все-таки любопытно, что как раз в подобных случаях, когда, казалось бы, открывались почти необозримые перспективы открытия новых и новых аналогий между различными историческими эпохами, культурами, политическими или хозяйственными структурами, М. Вебер вдруг резко обрывает самого себя, замечая, что «эти аналогии со средневековыми и современными явлениями, сами собой напрашивающиеся на каждом шагу, большею частью в высшей степени ненадежны и нередко прямо-таки вредны для непредвзятого понимания. Ибо*эти сходства легко могут быть обманчивыми и нередко бывают таковыми» (там же). В этом случае, как и в целом ряде других, которые повторяются вплоть до самого конца книги, автор от констатации многочисленных сходств между сопоставляемыми явлениями неожиданно переходит к акцентированию различий, которых, как правило, оказывается меньше, зато они отмечаются М. Вебером как более фундаментальные и глубокие.
Так произошло и в только что рассмотренном случае, когда он, проведя достаточно далеко идущую аналогию между античным и средневековым феодализмом, в частности, взятым в эпоху «разложения феодального государства», перешел к разговору о «специфических особенностях», которые «резко отличают» античную культуру «как от культуры Средневековья, так и от культуры Нового времени» (там же). Причем все они сводятся, в конечном счете к тому, что «по своему экономическому центру тяжести» античная культура до начала императорской эпохи является на Западе береговой, приморской культурой (Kustenkultur), а на Востоке и в Египте прибрежной, речной культурой (Stromuferkultur) с географически экстенсивной и приносящей высокую прибыль между местной (interlokalen) и международной торговлей…» (2, 4–5). Хотя, во избежание неверного толкования этого сопоставления, М. Вебер тут же добавляет, что тем не менее «по относительному значению количеств обмениваемых товаров» античность все-таки «остается позади позднего Средневековья» (2, 5). Так что примитивного «переворачивания» прогрессистской перспективы в регрессивистскую здесь не происходит.
Для веберовского понимания «феодализма» – феномена, осмысление которого играет принципиально важную роль в социологии истории М. Вебера, – характерно следующее рассуждение из его теоретико-методического Введения в «Аграрную историю Древнего мира», совсем не случайно развернутое уже на первых страницах книги, чтобы вернуться к нему в ее заключении. «Черты, резко отличающие Древность от Средневековья, выработались на той ступени развития, когда после окончательного перехода к прочной оседлости масса населения была прикована к земле и по своим экономическим условиям не была уже способна служить для военных целей, так что путем разделения труда выделилось профессиональное военное сословие, которое и старалось для извлечения средств на свое содержание эксплуатировать безоружную массу. Развитие военной техники до степени искусства, требующего постоянного совершенствования и упражнения и потому доступного только людям, посвятившим себя этой профессии, шло параллельно с этим, отчасти как следствие, отчасти как вызывающая его причина. В Европе в начале средних веков подобный процесс привел, как известно, к возникновению «феодализма. В той форме, в какой он возник там и в то время, Древность знала его только в зачатках: соединение вассалитета и бенефиция и та форма, в какую вылилось романо-германское ленное право не имеют аналогии в древности в историческую эпоху. Но ведь нам и не нужно и не правильно ограничивать понятие «феодализма» только этой специальной его формой. Культурным народам, как азиатского Востока, так и древней Америки, были известны учреждения, которые мы, имея в виду их функцию, без всякого колебания признаем «феодальными», и не понятно, почему бы не подвести под это понятие и все те социальные учреждения, в основе которых лежит выделение из общей массы живущего для войны и службы царю господствующего слоя (Herrenschicht) и содержание его при помощи привилегированного землевладения, рент и барщин зависимого безоружного населения, будут ли то чиновничьи лены (die Amtslehen) в Египте и Вавилонии или спартанское государственное устройство. Различие заключается лишь в том, каким образом расчленен военный класс и экономически обеспечен». (2, 2–3)
Как видим, подобное, скорее «функционалистское», чем «субстанционалистское» определение такой социальной структуры, как «феодализм», не исключает, что и древнейший Вавилон и древняя Спарта одинаково могут оказаться причисленным к обществам «феодального» типа, что уже с самого начала нарушает привычную стройность тройственной периодизации истории на рабовладельческую античность, феодальное Средневековье и Новое время. Но это не все. «Среди различных возможностей, – продолжает М. Вебер свое социолого-историческое Введение в «Аграрную историю Древнего мира», – расселение господствующего класса по всей стране в качестве вотчинных земледельцев (Grundherren) есть та «индивидуалистическая» форма феодализма, которую мы встречаем на Западе в средние века (а в зачатках уже и на исходе Древнего мира) и которая поддается точному анализу. Напротив, средиземноморская и, в частности, эллинская Древность знали в начале своего культурного развития «городской феодализм» («Stadtfeudalismus») поселенных совместно в укрепленных местах профессиональных воинов. Не то, чтобы «городской феодализм» был единственной формой феодализма, известной в древности; но в этой форме он прямо господствовал в позднейших центрах «классической» политической культуры в начале их своеобразного политического развития. Он означал поэтому для них еще нечто большее, чем то, что означало принудительное переселение сельского дворянства в некоторые города средневековой Италии» (2, 3–4).
Как видим, социо-историческое веберовское понимание феодализма предполагает не только его наличие как в античности, так и средние века, но и два различных его типа – «городской» и, если так можно выразиться, «сельский». В первом случае специфически античное феодальное развитие и привело к образованию отдельных городов-государств», возникших на средиземноморском побережье Южной Европы (2,4). Что же касается Центральной Европы, то к тому времени, «когда она созрела для феодализма», там не было «такого как в древности», столь же «сильно развитого» товарооборота, и потому «феодализм строился гораздо более на земельной основе», создав «феодальное поместье» (Grundherrschaft)» (там же). И здесь возникает соблазн вступить на путь аналогий, поскольку «отношение… античного городского феодализма к меновому хозяйству напоминает нам рост свободного ремесла в наших средневековых городах, падение господства здесь знатных родов (Geschlechtter), скрытую борьбу между «городским хозяйством» и «феодальным поместьем» («Grundherrschaft») и разложение феодального государства благодаря развитию денежного хозяйства в эпоху позднего Средневековья и в Новое время» (там же).
Однако такого рода аналогии «со средневековыми и современными явлениями, сами собой напрашивающиеся на каждом шагу», представляются М. Веберу «в высшей степени» ненадежными, а нередко и прямо-таки вредными «для непредвзятого познания» (там же). Они способны скорее затушевать, чем обнажить «специфические особенности, которые резко отличают «античную культуру» как от культуры Средневековья, так и от культуры Нового времени» (там же). Дело в том, что, если иметь в виду экономический «центр тяжести» античной культуры, то придется признать культурно-историческую значимость того «географического» факта (и «фактора»), что – «до императорской эпохи» – античная культура была «на Западе береговой, приморской культурой (Küstenkultur), а на Востоке и в Египте – прибрежной, речной культурой (Stromuferkultur) с географически экстенсивной и приносящей высокую прибыль между местной (interlokalen) и международной торговлей, которая, однако, по относительному значению количеств обменивавшихся товаров, если исключить некоторые значительные intermezzi, остается позади позднего Средневековья» (2, 5).
Продвигаясь еще в ранний период своего творческого развития к собственному – «неформационному» – пониманию феодализма, М. Вебер столкнулся с распространенной в конце XIX века «ойкосной» теорией Родбертуса, о которой он вспоминает в том же Введении к «Аграрной истории Древнего мира», «…необходимо, – подчеркивает он, – …всегда усиленно настаивать, что «ойкос», как его понимает Родбертус, действительно играл в хозяйстве Древнего мира в высшей степени важную роль. Но только он, с одной стороны – это я в свое время старался доказать – для лежащей в свете истории эллинско-римской Древности, является продуктом лишь позднейшего развития (императорской эпохи) и составляет переходную ступень к феодальному хозяйству и феодальному обществу раннего Средневековья. С другой стороны, он (на Востоке и отчасти также в Элладе) стоит на пороге доступной нам истории… Но и тут он, конечно, отнюдь не был чем-то, в родбертусовском смысле, выросшем непосредственно из расширенного собственного хозяйства древних домовых общин» (2, 12).
При этом, что естественно, имея в виду весь ход веберовской мысли, «ойкос» оказывался, в конечном счете, далеко не настолько «автономным» натуральным хозяйством, как это представлялось и самому Родбертусу и, особенно, таким его последователям, как К. Бюхер. В Древнем Египте, например, он соседствовал с «государственно-социалистическим» и «общественно-хозяйственным» регулированием воды» (там же), а на Востоке и в древней Элладе «он обязан своим возникновением тем торговым барышам, какие получал древнейший представитель правильных меновых отношений, главарь и князь…» (там же). «Хотя, – как тут же уточняет М. Вебер, …тем не менее, удовлетворение потребностей в этом ранне-античном «ойкосном» хозяйстве князей и политически господствующего сословия повсюду совершалось, главным образом натурально-хозяйственным способом» (там же).
Здесь возникает впечатление, что М. Вебер с самого начала стремился придать понятию «ойкосного хозяйства» не столько философско-исторический, сколько ограниченный, и в то же время более определенный, «идеально-типический» смысл. «…Карл Бюхер, – пишет он, – принял эту родбертусовскую категорию «ойкоса» как характерный для Древности тип хозяйственной организации, однако, судя по его аутентичному толкованию этого взгляда – насколько я его понимаю – в смысле «идеально-типической» конструкции хозяйственного строя, который в древности выступал с особенно сильным приближением к чистому понятию домашнего хозяйства со всеми его специфическими последствиями, но без того, однако, чтобы домашнее хозяйство господствовало во всем Древнем мире на всем его Протяжении и во все его эпохи…» (2, 8). В те же эпохи, когда «ойкосное» хозяйство существовало, его «господство», согласно веберовскому уточнению, не означало «что-либо большее, чем, правда, очень сильное по своим последствиям, чрезвычайно действенное ограничение явлений обмена в их значении для удовлетворения потребностей и соответственное деклассирование тех слоев общества, которые могли бы стать носителями обмена» (2, 8–9).
Возражая против «ойкосного» понимания эволюции хозяйства на ранних этапах античной истории и утверждая, что «ойкос» вовсе не был «изначальной» формой хозяйствования, М. Вебер пишет: «натуральное хозяйство получало все большее и большее господство и в феодальных поместьях (Grundherrscnaften), и в организованном в форме «ойкосного» хозяйства («oikenwirtschaftlich») государственном хозяйстве позднеантичной эпохи (начиная с 3-го столетия). Напротив, в классические периоды Древности, когда мы видим крупные состояния, заключающиеся в рабах, это было не в такой мере, как полагал Родбертус, и никогда в такой степени, как и я, со своей стороны был прежде склонен допускать…» (2, 13). Но таким образом отвергалась не только концепция «изначальности» ойкосного типа хозяйственной эволюции общества, но и попытки соответствующего истолкования «феодализма», близкого к марксовскому представлению о нем как определенной «общественно-экономической формации», имеющей раз и навсегда данное место на лестнице «социального прогресса».
Дело в том, что «феодализм», трактуемый «идеально-типически», вообще имеет у М. Вебера не столько даже хозяйственную, сколько политическую нагрузку, это у него прежде всего социально-политическая, но не социально-экономическая структура.
Для нас же особенно важно принять к сведению эти теоретико-методологические уточнения, касающиеся применимости категории «ойкоса» к исследованию античной хозяйственной истории, учитывая что она зачастую фигурирует у М. Вебера в сочетании с категорией «феодализма», которую он (по мере возможности) «функционализирует» аналогичным образом. А потому продолжим оборванную нами цитату: «Правда, – оговаривается М. Вебер, – было вполне в порядке вещей, что Бюхер, рассматривая Древность как наглядный пример типа «ойкосного хозяйства … поневоле в известной мере подчеркивал как раз подходящие для этой прагматической цели составные части античной хозяйственной истории, так что у историков явилось представление, будто, по его мнению, всему античному хозяйству можно целиком приписывать характер «ойкосного хозяйства», а рядом с этим, во всяком случае в городах, характер «городского хозяйства» (в «идеально-типическом» смысле слова») (2, 9). А потому возникала опасность «раздвоения» античной хозяйственной истории, спасаясь от которого «Эд. Мейер в своих возражениях против понятого так … бюхеровского взгляда пошел так далеко, что отверг вообще применение к Древности особых экономических категорий и сделал попытку, по крайней мере к классическому периоду расцвета Афин, оперировать совсем современными понятиями, как «фабрика» и «фабричные рабочие»…» (Там же).
Противополагая произвольной, вызывавшей критическое неприятие самого К. Бюхера, генерализации категории «ойкосного хозяйства» более дифференцированный подход к пониманию распространенности этого типа в античную эпоху, допуская ее целесообразность применительно как к ранке-, так и позднеантичному периоду, – в особенности к последнему, когда «…натуральное хозяйство получало все большее и большее господство и в феодальных поместьях (Grundherrschaften) и в организованном в форме «ойкосного» хозяйства («oikenwirtschaftlich») государственном хозяйстве позднеантичной эпохи (начиная с 3-го столетия). Напротив, в классические периоды Древности, когда мы видим крупные состояния, заключающиеся в рабах, это было не в такой мере, как полагал Родбертус…» (2,13), М. Вебер, как видим, лишает ее, а заодно и понятие «феодализма», прежнего значения «общественно-экономической формации», взятой во всей ее догматизированной «монументальности».
Аналогичным образом редуцируется содержание понятий «средние века», «Средневековье» и т. п., которые вообще освобождаются от дополнительной смысловой нагрузки, возникающей в связи с его тесной сопряженностью с категорией «феодализма», и применяются также в связи с рассмотрением раннего периода античного общества, предшествующего эпохе античной «классики». Как пишет М. Вебер, «функционализируя» таким образом понятие «Средневековья»: «…В «классическом» полисе законодательство сознательно истребляло институты «средних веков» (2, 50). Кавычки, поставленные в обоих случаях, должны, по-видимому, подчеркнуть «идеально-типическую» условность употребляемых категорий. Но тут же, на следующей странице, – пример бескавычного обозначения явления, казалось бы, относящегося к тому же ряду феодализма: «…в период, следующий за окончательным уничтожением города-государства всемирной военной монархией, мало-помалу, все более и более выступает на первый план одно явление, которое представляет собою, по-видимому, нечто совсем новое: сельское феодальное поместье (Grundherrschaft). Колоны, прикрепленные к земле… с установленными в большей или меньшей мере традицией повинностями и правами, помещики (Grundherren) в качестве местной власти, государственные повинности, в частности налоги и поставка рекрутов, как повинности, лежащие на этих поместьях (Grundherrschaften), больших или меньших размеров иммунитеты в их пользу, – вот явления, которых, конечно, не знает «гражданская община» («Burgerpolis») (№ 6, 7), более того, которых она сознательно у себя обыкновенно не допускает. Поэтому возникновение их кажется чем-то абсолютно новым» (2, 51).
В действительности же, как подчеркивает М. Вебер, эти явления «решительно никогда не переставали существовать». Лишь сузилась область их господства и надолго уменьшилось их «универсальное значение» по сравнению с временами «городской монархии (Burgenkonigtum). «В не имевших городов обширных континентальных областях, без сомнения, всегда существовали феодальные поместья в более или менее развитом виде…» (там же). Характерно, что во всех аналогичных случаях, «феодализм» – в веберовском его изображении – оказывается совместимым с различными историческими формами производства, что открывает возможность для проведения между ними самых разнообразных аналогий. «Мы можем признать, – пишет М. Вебер, – что положение единственно полноправных в феодальном городе-государстве ранней эпохи патрицианских родов покоилось на такой же экономической основе, как и господство родов в эллинских городах: на владении скотом и рабами, с одной стороны, на монополизации посреднической торговли, с другой стороны…» (2, 272). Хотя в одном случае речь идет о «ранней эпохе» Греции, а в другом – о «ранней эпохе» Рима, существенно отделенными друг от друга как чисто хронологически, так и культурно-исторически, идеально-типическая «аналогичность» оказывается здесь решающей.
Между тем сам же М. Вебер отмечает, что «…Римское государство в своем отношении к своим членам с самого начала в одном направлении отличается от эллинского полиса: в трактовании семейственного права. Для эллинского полиса (напр. для Афин) политическое полноправие (politische Wehrhaftmachung) и частноправовая дееспособность взрослого сына (Haussohn) совпадают, – для римского государства между ними нет ничего общего. Гражданин как солдат есть объект власти должностного лица; как сын он есть объект домашней власти, пока жив его отец. Государство останавливается у порога дома, и право дома («dominium»)… есть зародыш абстрактного понятия собственности (familiapecuniaque)» (2, 287). Но хотя это – исходное – различие и могло бы пролить свет на генезис и последующие судьбы феодализма, с одной стороны в Греции, а с другой в Риме, М. Вебер, к сожалению, оставляет эту важную тему, переходя к обсуждению «радикально патриархального семейственного права» вообще, безотносительно к только что отмеченным различиям, которые не могли не сказаться на особенностях «феодальной» предыстории этих