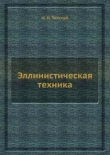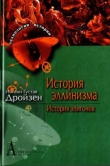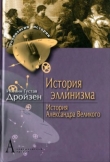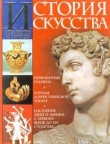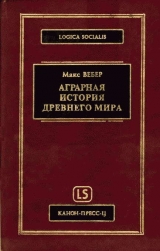
Текст книги "Аграрная история Древнего мира"
Автор книги: Макс Вебер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Если бы действительно где-нибудь можно было доказать наличие зачатков чего-нибудь, в техническом смысле похожего на «фабрику» – что, разумеется, вполне возможно в древности так же, как это было возможно в крепостное время в России – то, конечно, эти исключения по тем же причинам, как и эти русские «фабрики» (см. ниже), лишь «подтверждали бы правило». Ибо, во всяком случае, это не было бы постоянным явлением частной хозяйственной жизни.
Далее, можно доказать или по крайней мере допустить существование в древности в практике государственных откупщиков очень немногих политических центров (главным образом Рима, затем Афин и некоторых других) банковских предприятий, которые по своему объему и характеру превосходят по степени то, что существовало в этом роде в XIII в. в средние века, но превосходят количественно, а не качественно. Деловые формы торговли – морская ссуда, комменда[22]22
Комменда (лат. commenda) – значение термина описано Вебером в его «Истории хозяйства»: «Первоначально все купцы, входившие в состав товарищества общего риска, сами ездили со своими товарами; то были мелкие торговцы, продававшие свой товар в розницу. Но этот обычай мало-помалу выходит из употребления. Вместо него появляется commenda и, по-видимому, одновременно societas marts. Она обнаруживается как в вавилонском и арабском, так и в итальянском праве, а с некоторыми изменениями и в ганзейском, и состоит в том, что из двух членов одной ассоциации один остается в родном портовом городе, а другой везет товар за море. Вначале эти взаимоотношения носили характер личной услуги: один из нескольких купцов по очереди перевозил и сбывал товары остальных товарищей. Впоследствии это превратилось в способ пускать деньги в рост. Капиталистами являлись отчасти профессиональные торговцы, отчасти также, особенно на юге, случайные обладатели денег (например, знатные граждане), желавшие выгодно вложить свои излишки в торговое дело. Сделка совершалась таким образом, что отправлявшийся в плавание socius получал с собой деньги или же товар, оцененный в деньгах; этот вклад составлял торговый капитал и носил техническое наименование commenda. Товар сбывался за морем; на выручку приобретался новый и, по возвращении в родную гавань, оценивался и продавался. Дележ барыша производился следующим образом. Если оставшийся дома socius вложил в дело весь капитал, то он получал прибыли; если же и путешествующий socius вкладывал свою долю (…) то дележ производился поровну. Характерная черта этой сделки состоит в том, что здесь впервые появляется капиталистический расчет…»(см. на стр. 196–197 во втором томе наст, изд.: «История хозяйства. Город». Данное понятие «комменда» не следует путать с коммендацией (от лат. commendo – вверяю, передаю).
[Закрыть] (характерные для прерывности («Diskontinuität») «раннекапиталистической» торговли), дела по банковым уплатам и банковым переводам – по своей юридической форме характерны ведь для раннего Средневековья; известный уже в эпоху раннего Средневековья вексель[23]23
Вексель (нем. Wechsel, буквально – обмен) – вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы, безусловный и бесспорный долговой документ. Различают два вида векселей: простой и переводный (тратта).
[Закрыть] существует только в своих начальных стадиях; размер процента по высоте, сроку уплаты и законодательной регламентации также обыкновенно носит раннесредневековый характер. Отсутствие всяких, уже в средние века известных форм государственного кредита, которые могли бы превратить его в регулярный источник ренты с капитала, характерные его суррогаты, затем колоссальные «сокровищницы» («Horte») восточных, в частности персидских, царей равно как и сокровища греческих храмов с тем значением, которое они имели, и с их обычным применением – все это показывает, как мало наличные запасы благородного металла находили применения в качестве «капитала».
Нет ничего опаснее, чем представлять себе отношения античного мира на «современный лад»: кто делает это, тот недооценивает, как это довольно часто бывает, ту дифференциацию форм, которую произвели – хотя и на свой собственный лад – у нас уже средние века в области капиталистического права (Kapitalsrecht), и которая, тем не менее, не уменьшает расстояния, отделяющего средневековый хозяйственный строй от нашего. Государственным и наполовину государственным денежным операциям хотя бы птолемеевского банка с его колоссальной денежной наличностью или даже денежным операциям римских откупщиков можно найти поразительную параллель в соответствующих явлениях в средневековых городах-государствах (например, в Генуе[24]24
Генуя (Genova) – город в Италии, один из крупнейших портов Средиземного моря, административный центр провинции Генуя и области Лигурия. В древности Генуя представляла собой поселение лигуров. В средние века она превратилась в могущественную торговую республику, с XIV в. возглавлявшуюся дожем; владела многими колониями на восточном побережье Средиземного моря (в Леванте) и на Черном море (в том числе и в Крыму).
[Закрыть]); однако уже в XIII в. эти последние превзошли их в технике хозяйственного оборота. И далее, необходимо также всегда усиленно настаивать на том, что «ойкос», как его понимает Родбертус, действительно играл в хозяйстве Древнего мира в высшей степени важную роль. Но только он, с одной стороны (это я в свое время старался доказать) – для лежащей в свете истории эллинско-римской Древности, – является продуктом лишь позднейшего развития (императорской эпохи) и составляет переходную ступень к феодальному хозяйству и феодальному обществу раннего Средневековья. С другой стороны, он (на Востоке и отчасти также в Элладе) стоит на пороге доступной нам истории, как ойкос, правда ойкос царей, князей и жрецов, отчасти наряду с мелким домашним хозяйством подданных, отчасти – там, где существует барщина этих подданных – главенствуя над ним. Но и тут он, конечно, отнюдь не был чем-то, в родбертусовском смысле, выросшим непосредственно из расширенного собственного хозяйства древних домовых общин. Отчасти ему присущ государственно-социалистический характер, как это было, может быть, преимущественно в Египте в результате общественно-хозяйственного (gemeinwirtschaftlichen) регулирования воды; отчасти (на Востоке и в древней Элладе) он обязан своим возникновением тем торговым барышам, которые получал древнейший представитель правильных меновых сношений, вождь и князь, путем обмена подарками, от фактической монополии в посреднической торговле, наконец, от самостоятельной торговли (и неразрывно связанного с ней морского разбоя), и какие, в виде его сокровища, служат опорой его господствующего положения и источником расширения его хозяйства. Тем не менее, удовлетворение потребностей в этом ранне-античном «ойкосном» хозяйстве князей и политически господствующего сословия повсюду совершалось главным образом, натурально-хозяйственым способом. Принудительные поборы, барщина, захват рабов путем разбоя давали князьям средства для выменивания чужих товаров, а благородные металлы княжеской казны (даже и персидского царя) служили не для регулярно совершаемого покрытия потребностей денежно-хозяйственным способом, а для награждения тех или иных лиц или для возникавших при случае политических надобностей. Но точно так же натуральное хозяйство получало все большее и большее господство и в феодальных поместьях (Grundherrschaften), и в организованном в форме «ойкосного» хозяйства («oikenwirtschaftlich») государственном хозяйстве позднеантичной эпохи (начиная с III в. до P. X.). Напротив, в классические периоды Древности, когда мы видим крупные состояния, заключающиеся в рабах, это было не в такой мере, как полагал Родбертус, и никогда в такой степени, как и я со своей стороны был прежде склонен допускать: по-моему, в этом пункте правым надо признать Э. Мейера и некоторых из его учеников (например, Гуммеруса).
Точно так же следует, по-моему, признать, что само по себе вполне законное стремление выяснить специфические особенности хозяйства Древности, к которым, несомненно, принадлежит также и рабский труд, неоднократно (как, например, было и со мной) приводило к слишком низкой оценке количественного значения свободного труда, как это показали работы Вилькена для Египта, занимающего, впрочем, как раз в этом несколько нестандартную позицию. Древность знает наряду с несвободным и полусвободным земледельцем также и свободного земледельца – в виде собственника, арендатора, снимающего землю за деньги, арендатора из части продукта, она знает наряду с домашним производством (Hausfleiss) и несвободным ремесленным трудом также и свободного ремесленника – в виде ремесленника, работающего для продажи на рынке («Preiswerker»), в виде ремесленника, работающего на заказ (Lohnwerker) (последнее гораздо чаще) и (тоже очень часто) в качестве занимающегося ремеслом лишь как побочным занятием (Nebenproduzenten) – знает ремесленное производство как семейное или как одиночное производство (широко преобладающее) или как производство, которое вел мастер с одним или несколькими рабами и свободными или (в большинстве случаев) несвободными учениками. Древность знает, далее, совместную работу артелями мелких ремесленников (σύνεργοι). Она знает совместный наем обученных рабочих подрядчиком (έργολαβών) для определенной конкретной цели (почти исключительно государственные рабочие). Но в Древности совсем не существует, например, слова для нашего понятия «подмастерья» («Geselle») (которое ведь возникло благодаря борьбе против «мастера» – опять понятие, чуждое Древности). Ведь, несмотря на довольно богатое развитие союзов, Древность вообще не знает ремесла на такой ступени автономной организации, с таким искусным расчленением и с такой организацией труда (институт подмастерьев), каким уже владели на высшей точке своего развития в средние века. Цеховая или цехообразная организация там, где она существует в древности, почти всегда представляет собой по существу скорее принудительную государственную организацию литургий. Социальное положение ремесленника, за исключением мимолетных и лишь частичных (и то больше кажущихся) перерывов во времена эллинской демократии, было угнетенным, и нигде, очевидно, у занимавшихся промышленностью не хватало силы добиться правовой концентрации в городах, как было в средние века (о причинах см. ниже в главе об Афинах). Наконец, Древность знает свободного необученного наемного рабочего, который постепенно возник из проданного на время (ребенок, должник) или себя самого на время продавшего в рабство человека. Она знает его как работающего во время жатвы и большими массами на общественных земляных и строительных работах или иных государственных предприятиях, в иных же случаях, в общем, как явление случайное, большей частью разрозненное и непрочное.
Теперь спрашивается: знает ли Древность в достаточной (в культурно-историческом смысле) мере капиталистическое хозяйство?
Прежде всего, в общем, первоначальную основу площади прокорма античного города (как и восточного, а также любого средиземноморского полиса древнейшего периода) в такой высокой мере составляло получение рент жившими в городе князьями и знатными родами с их земельных владений, а также взносов, поступавших в определенных случаях с их подданных, как это теперь можно встретить только в специфических городах-резиденциях, или – чтобы взять более подходящий пример – как это было в Москве в эпоху крепостного права в России. Значение этих источников дохода и, в связи с этим, особенно тесная зависимость экономического «расцвета» городов от политических условий, которая обнаруживается в резких перипетиях этого «расцвета», очень сильно давали себя знать и на протяжении всей древней истории. Античные города были всегда в гораздо более высокой мере, чем средневековые, потребительными центрами и, напротив, в гораздо меньшей мере производительными. Ход развития античных городов, несмотря на многочисленные, отчетливо выраженные в них явления «городского хозяйства» (см. ниже), нигде не приводил к «городскому хозяйству» («Stadtwirtschaft»), так сильно приближающемуся к «идеальному типу», данному в этом понятии, как это было во многих городах средних веков, – вследствие того, что античная культура была по своему основному характеру культурой прибрежной. И вот, если мы видим в древности а) возникновение городских промыслов с целью экспорта некоторых изделий, требующих высоко интенсивной и высокой по качеству работы, б) постоянную зависимость от подвоза хлеба издалека, в) торговлю рабами, г) сильное преобладание специфически торговых интересов в политике, то спрашивается: являются ли эти резкими толчками приливающие и отливающие «хроматические» эпохи эпохами с «капиталистической» структурой?
Это зависит от определения понятия «капиталистический», которое – само собой разумеется – может быть весьма различным. Одно остается во всяком случае неоспоримым – это то, что под «капиталом» всегда следует понимать частнохозяйственный «приобретательский капитал» («Erwerbskapital»), если вообще терминология должна иметь какую-нибудь ценность для целой классификации; следовательно – блага, которые служат цели приобретения, прибыли в процессе обращения благ. Таким образом, во всяком случае необходимым условием является то, что производство должно иметь своим базисом «меновое хозяйство» («verkehrswirtschaftliche» Basis). Следовательно, с одной стороны, продукты (по крайней мере отчасти) должны становиться предметами оборота. Но и, с другой стороны, средства производства должны были быть предметами оборота. Под понятие «капиталистический» в аграрной области, следовательно, не подходит всякая вотчинная (grundherrliche) эксплуатация сеньором людей, подвластных ему по личному праву, просто как источник рент, податей и пошлин, как было в начале средних веков, когда крестьян эксплуатировали, собирая с них платежи за владение землей, пошлины с наследства, с оборота и личные платежи как натурой, так и деньгами: ведь здесь ни находящаяся во владении земля, ни находящиеся под властью люди не составляют «капитала», потому что власть над тем и другими (в принципе) опирается не на приобретение в процессе свободного оборота, а на традиционную связанность большей частью обеих сторон друг с другом.
И Древности известна эта форма вотчинного землевладения (Grundherrschaft). С другой стороны, Древности известна входящая в сферу менового хозяйства сдача земельного владения в аренду мелкими участками; но тут земельное владение является источником ренты (Rentenfonds), и «капиталистическое» производство опять отсутствует. Эксплуатация подвластных людей в качестве рабочей силы в собственном производстве господина встречается в древности и как поместное производство (Fronhofsbetrieb) с помощью колонов[25]25
Колон (лат. colonus) – а) арендаторы земли, главным образом мелкие. Колоны выплачивали землевладельцу денежную аренду или выполняли в его пользу натуральные повинности, а взамен получали право обрабатывать арендованный участок земли. Вместе с тем они могли иметь свою собственную землю и обрабатывать ее. В поздней Империи колоны представляли собой зависимый слой сельского населения. К концу III в. они были прикреплены к земле своего хозяина и уже не могли уйти от него. Так юридические права колонов и свобода их передвижения оказались сильно ограниченными. Императоры, начиная с Константина I, принимали множество постановлений, касающихся правового и социального положения колонов. Наличие экономически самостоятельного хозяйства сближало их со средневековыми крепостными, а в классовом отношении их положение в эпоху поздней античности более походило на положение рабов. Колоны являлись предшественниками средневековых крепостных, но не следует считать, что класс крепостных возник непосредственно из позднеантичной прослойки; б) в латинском языке синоним слова «rusticus» или слова «agricola» (земледелец в широком смысле); в) жители римских колоний в Италии и провинциях.
[Закрыть] (царство фараонов, домены[26]26
Домен (лат. dominium, франц., domaine, владение) – земельные владения римского государства, прежде всего императорские. Со II в. первоначально свободные арендаторы через посредство системы колоната все чаще привязывались пожизненным договором к земле. В поздней античности домены стали крупными полуфеодальными поместьями, управляемыми чиновниками. В Западной Европе в эпоху феодализма домен – часть феодального поместья, на которой феодал вел собственное хозяйство, используя труд зависимых крестьян или безземельных работников; королевский домен – наследственные земельные владения короля.
[Закрыть] императорской эпохи), и как крупное производство с помощью труда покупных рабов, и в виде комбинации того и другого. Первый случай (поместный строй) (Fronhof) представляет трудности в смысле классификации, потому что здесь возможны разнообразнейшие переходные ступени от формально «свободного» земельного оборота и «свободной» аренды колонов (следовательно, на основе менового хозяйства) до полной традиционной социальной связанности обязанных повинностью колонов в отношении к господину и господина в отношении к ним. Последнее непременно является правилом там, где только существует производство с помощью колонов. Сами колоны лично не представляют собой «капитала»; они стоят вне сферы самостоятельного свободного оборота, но их служба (службы) вместе с землей может быть предметом оборота и действительно бывает им (Восток и времена позднейшей Римской империи). Производство в таких случаях есть нечто среднее: оно «капиталистическое», поскольку продукты производятся для рынка и земля является предметом оборота, и це капиталистическое, поскольку рабочая сила как средство производства изъята из сферы купли или найма в процессе свободного оборота. Но, как общее правило, существование вотчинного производства (Fronhofsbetrieb) есть переходное явление или от «ойкоса» к капитализму, или, наоборот, к натуральному хозяйству. Это ведь всегда есть симптом относительной слабости капитала, в частности, слабости производственного капитала, которая находит свое выражение в перекладывании потребности в средствах производства на зависимые хозяйства и в устранении необходимости иметь а) капитал на покупку инвентаря, 2) капитал или на покупку рабов или на заработную плату при помощи эксплуатации подневольного труда и (обыкновенно) объясняется (сравнительно) мало развитой интенсивностью хозяйственного оборота.
Производство при помощи купленных рабов (т. е. производство в условиях, в которых рабы являются нормальным предметов оборота, безотносительно к тому, были ли они действительно (in concreto) приобретены путем купли) на собственной или арендованной земле есть с экономической точки зрения, конечно, «капиталистическое» производство: земля и рабы составляют предмет свободного оборота и, конечно, представляют собой «капитал»: рабочая сила, в отличие от того, как это делается в производстве с помощью «свободного труда», покупается, а не нанимается, а если (в виде исключения) нанимается, то не у ее носителя (рабочего), а у его господина. Потребность в капитале для одинакового количества рабочей силы, ceteris paribus[27]27
Ceteris paribus – при прочих равных условиях (лат.).
[Закрыть], здесь, следовательно, значительно больше, чем при применении «свободного труда», – так же, как покупатель земли, ceteris paribus, должен затратить больше капитала, чем ее арендатор.
Наконец, крупное капиталистическое производство со «свободным трудом», которое при одинаковой степени накопления капитала делает возможным гораздо большую затрату капитала на вещественные средства производства, Древности в качестве нормального и постоянного явления в области частного хозяйства ни в сельском хозяйстве, ни вне его неизвестно. Конечно, производство помещичьего типа («squire»-Betrieb) встречается на Востоке и в Элладе, но как раз в те эпохи и в тех областях, в которых господствуют традиционные порядки (эллинские внутренние области, Талмуд, некоторые эллинистические области), а не в областях с прогрессирующим экономическим развитием. Прочные крупные производства со связанным исключительно лишь контрактом, следовательно, формально «свободным» трудом, если не считать государственных предприятий, о которых речь впереди, насколько известно, не встречаются – во всяком случае в значительной (в практическом, экономическом и социальном смысле) мере, в «классических» местах античной культуры; иначе было (отчасти) на позднем Востоке.
В настоящее время понятие «капиталистического производства» привыкли ориентировать как раз на эту форму производства, потому что именно она порождает своеобразные социальные проблемы современного «капитализма». И поэтому, стоя на этой точке зрения, хотели отвергнуть существование в Древнем мире и господствующее значение «капиталистического хозяйства».
Между тем, если понятие «капиталистического хозяйства» не ограничивать совершенно немотивированно определенным способом эксплуатации капитала – именно эксплуатацией чужого труда путем договора со «свободным» рабочим, – не вносить, следовательно, социальных признаков, но вкладывать в это понятие чисто экономическое содержание и признавать наличие «капиталистического хозяйства» везде там, где объекты владения, составляющие предмет оборота, эксплуатируются частными лицами с целью приобретения прибыли способами, присущими меновому хозяйству, – тогда нет ничего бесспорнее далеко идущего «капиталистического» отпечатка, лежащего на целых – и как раз на «величайших» – эпохах античной истории. Но только и тут надо остерегаться преувеличений (не об этом после). Затем, составные части капитала, точно так же, как и способ его эксплуатации, обнаруживают характерные особенности, имеющие определяющее значение для всего хода античной хозяйственной истории. Среди составных частей капитала, разумеется, отсутствуют все те средства производства, которые созданы техническим развитием последних двух столетий и составляют нынешний «постоянный капитал», с другой стороны, к ним надо прибавить одну важную составную часть, которая отсутствует теперь: рабов, попавших в рабство за долги, и рабов купленных. Среди способов эксплуатации капитала отступает на задний план помещение капитала в промышленность и, в частности, в «крупные производства» в области промышленности; напротив, прямо доминирующее значение имеет в древности один способ эксплуатации капитала, который в настоящее время по своему значению совершенно отступил на задний план: государственный откуп.
Способы помещения капитала во времена классической древности были следующие: 1) взятие на откуп или участие в откупе государственных налогов и общественных работ; 2) разработка рудников; 3) морская торговля (с помощью собственных судов или в форме участия в торговле, в частности, путем морской ссуды); 4) плантационное производство; 5) банковские и им подобные дела; 6) отдача денег взаймы под заклад земли; 7) торговля с заграницей (в форме не прерывающегося крупного предприятия лишь спорадически, – на Западе лишь в первые два века императорской эпохи с севером и северо-востоком – большей частью в виде помещения комменды в караванную торговлю); 8) отдача внаем (иногда обученных) рабов или устройство их как самостоятельных ремесленников или торговцев за «оброк», как бы сказали русские, и наконец, 9) капиталистическая эксплуатация обученных ремеслу рабов, находящихся в полной собственности или же взятых в залог, производившаяся в «мастерских» или без них (примеры ниже, в главе об Афинах). Частое применение рабского труда в собственном частном промышленном производстве не подлежит сомнению. Встречаются ремесленники, работающие сами вместе с несколькими рабами. Капиталистическая эксплуатация рабского труда встречается в форме упомянутого выше эргастерия, о котором еще будет речь. Существовавшая, несомненно, на Востоке и господствовавшая в Египте эксплуатация собственных рабов в форме «несвободной домашней индустрии» (предоставление господином рабу сырья (сырого материала) и рабочего инвентаря, доставка рабом продуктов, изготовленных им у себя на дому), существовала, конечно, и в «классическую» эпоху, хотя существование ее и не может быть доказано с полной достоверностью. Если же на многих (максимум пока около 80) вывезенных за пределы их родины аттических вазах стоит одно и то же имя, то это, конечно, имя «художника» (а не «фабриканта» или скупщика («Verleger»), которое затем присваивает себе иногда в качестве эпонима[28]28
Эпоним (греч. eponymos, от epi – после и onoma – имя) – у древних афинян так называли первого из 9 архонтов, именем которого обозначался год; 2) эпонимом называется также вообще всякий, кто дает чему-либо свое имя.
[Закрыть] семья гончаров, в которой техническое умение переходило как секрет от отца к сыну. Существование целых деревень ремесленников (δήμοι) в Аттике очень характерно для семейного ремесленного производства (см. ниже) как здесь, так и в других местах. Как количественное, так и качественное значение капиталистического приобретательского хозяйства (Erwerbs-Wirtschaft) в древности определялось всегда целым рядом отдельных моментов, которые выступали в очень различных комбинациях друг с другом.
1. Значение запасов благородных металлов для темпов капиталистического развития, несомненно, должно очень высоко оцениваться. Но в настоящее время нередко замечается склонность переоценивать их значение для самой структуры хозяйства. Хозяйство Вавилонии, несмотря на отсутствие рудников и, очевидно, очень небольшой запас металла – о чем свидетельствует как ограничение функций драгоценного металла одним лишь измерением ценности предметов, так и переписка вавилонских царей с фараонами – уже в древнейшую эпоху сделало такие же успехи в своем развитии в направлении к меновому хозяйству, как и хозяйство любой из стран Востока, и болыпие, чем хозяйство богатого золотом Египта; с другой стороны – даже если новейшие изыскания только приблизительно правильны – колоссальные запасы драгоценного металла, которыми владел птолемеевский Египет, несмотря на возникновение здесь вполне развитого денежного хозяйства, не помогли «капитализму», как принципу структуры хозяйства, подняться на особенно заметную высоту, в частности, достигнуть той ступени развития, какой он достиг одновременно в Риме; наконец, тот удивительный взгляд, по которому вторжение натурального хозяйства в позднейшую римскую эпоху было следствием начавшегося истощения рудников, по-видимому, понимает соотношение вещей совершенно наоборот: там, где тогда вообще началось истощение рудников, оно, со своей стороны, могло быть следствием того, что прочно утвердившееся в горном деле в классическую эпоху капиталистическое производство с рабским трудом по совершенно другим причинам уступило место хозяйству мелких арендаторов. Этим вовсе не отвергается громадная культурно-историческая роль, какую сыграло обладание большими запасами благородного металла, и в особенности их внезапное появление на божий свет: древняя вотчинная царская власть (Fronkönigtum) (см. ниже) опирается на «сокровищницу» царя; без рудников Лавриона не было бы аттического флота (?)[29]29
…без рудников Лавриона не было бы аттического флота… – имеются в виду Лаврийские рудники, расположенные в юго-восточной Аттике. Представляли собой несколько тысяч вырубленных большей частью на глубину 25–55 м шахт и штолен. В 482 г. до н.э. по предложению Фемистокла средства, полученные от разработки этих рудников, были использованы для постройки боевых кораблей. Сам Вебер по этому поводу в своей «Истории хозяйства» пишет так: «Серебряные рудники Лавриона составляли собственность афинского государства. Оно сдавало их в аренду и делило прибыль между гражданами. Афинский флот, одержавший победу при Саламине, был создан на средства, образовавшиеся благодаря отказу граждан получать свою долю дохода в течение целого ряда лет» (См. «История хозяйства», стр. 175 во 2-м т. наст. изд.).
[Закрыть]; превращение сокровищ эллинских храмов в средство обращения могло способствовать (?) изменению цен в V–IV вв. до P. X., а такое же превращение сокровищ персидского царя облегчило развитие эллинистических городов; влияние же явившегося результатом войн колоссального ввоза благородного металла в Рим во II в. до P. X. всем известно. Но условия, благодаря которым этим запасам благородных металлов было найдено именно такое, а не иное применение (например, они могли быть спрятаны в сокровищницы, как это делали на Востоке), конечно, должны были быть заранее налицо: «творческой» силы в смысле создания качественно новых по своей структуре хозяйственных форм большие запасы благородных металлов, как таковые, не обнаружили и в древности.
2. Экономическое своеобразие капиталистической эксплуатации находящихся в собственном владении рабов (Sklavenbesitzes), в отличие от системы «свободного» труда, заключается прежде всего в громадном повышении (Steigerung) количества капитала, затрачиваемого на содержание живой рабочей силы и вкладываемого в ее покупку; когда, в случае застоя в деле, раб оказывается незанятым, капитал этот не только не приносит процентов, – как и машина, – но, кроме того, «съедает» (в буквальном смысле слова) непрерывно присоединяемые к нему прибавки. Уже из одного этого следует замедление а) оборота капитала и б) процесса образования капитала вообще.
Затем, оно заключается в связанном с этим большом риске, который несет как раз эта форма капитала. Риск этот заключается не только в том, что очень высокая при капиталистической эксплуатации и притом совершенно не поддающаяся учету смертность рабов экономически является для их владельца потерей капитала, а также не только в том, что всякая политическая передряга могла совершенно уничтожить капитал, вложенный в рабов, но, кроме этого и прежде всего, в колоссальных колебаниях цен на рабов (Лукулл[30]30
Лукулл (Lucullus) Луций Лициний (ок. 117 – ок. 56 до н.э.) – римский полководец, сторонник Суллы; в 74 г. до н.э. – консул. В войне против Митридата VI, командуя римскими войсками в 74–66 гг. до н.э., добился значительных успехов. Славился богатством, роскошью и пирами («лукуллов пир»).
[Закрыть] продавал рабов, доставшихся ему в добычу, по 4 драхмы[31]31
Драхма (греч. схваченное рукой) – греческая весовая и денежная единица различного достоинства. Вначале употреблялась на Пелопонессе. Масса афинской серебряной драхмы (= 6 оболов) составляла 4,36 г. Во времена Солона медимн (52,5 л) зерна стоил 1 драхму, бык – 5 драхм, при Перикле прожиточный минимум семьи составлял ι/з драхмы в день.
[Закрыть], тогда как в мирное время, при умеренном снабжении рынка рабами, платили сотни драхм, чтобы получить пригодного рабочего), которые влекла за собой постоянная опасность полного обесценения вложенного капитала. Тот базис верного расчета издержек (Kostenkalkuls), который составляет необходимую предпосылку дифференцированного
«крупного производства» («Großbetriebe»), был невозможен. Сюда присоединялся еще один момент; патриархальное рабство, которое преобладало на Востоке, или давало рабу положение члена семьи своего господина, или представляло ему возможность иметь свою собственную семью. В этом последнем случае заранее отказывались от извлечения из хозяйства возможного максимума прибыли. Раб или платил оброки (тогда он являлся источником ренты (Rentenfondes), а не рабочей силой), или – там, где он (в некоторых случаях вместе со своей семьей) служил в качестве рабочей силы, – был барщинником (Fronarbeiter) или несвободным домашним работником (Heimarbeiter) с присущей такому положению ограниченной доходностью для его господина.
Настоящая же «капиталистическая» эксплуатация раба, как простого орудия производства, ограничивалась зависимостью от регулярной поставки рабов на рынок, т. е. от успешности войн. Ибо полная капиталистическая эксплуатация его рабочей силы была возможна при его не только юридической, но и фактической бессемейности раба, т. е. при системе казарм, которая, однако, делала невозможным пополнение класса рабов из их собственной среды. Иначе стоимость и содержание женщин и воспитание детей ложилось бы мертвым балластом на основной капитал. Относительно женщин этого, пожалуй, иногда можно было избежать, найдя их силам применение в текстильной промышленности, хотя при своеобразии античного удовлетворения потребностей и при том значении, какое имело домашнее прядение и ткачество, это далеко не всегда было возможном. Относительно детей одно место у Аппиана[32]32
Аппиан (? – 70-е годы II в. н.э.) – историк Древнего Рима из Александрии, грек; автор «Римской истории» от основания Рима до начала II в. (на греческом языке); из 24 книг до нас дошли целиком 6–9 и 11–17, полностью утрачены 18–24.
[Закрыть] (гл. I, 7) может быть понято в том смысле, что, по крайней мере, в известные периоды римской древности выращивание рабов для целей спекуляции носило массовый характер; следовательно, существовало (как в южных штатах Северной Америки) разделение труда между производством и эксплуатацией, по крайней мере, для одной части заключающегося в рабах капитала. Но такое понимание текста Аппиана всетаки остается несколько спорным. Резкие колебания цен на рынке рабов делали выгоду выращивания их для продажи слишком ненадежной. Затем, в главных областях использования рабского труда – в возделывании плантаций, мореплавании, в горном деле, сборе податей – женский труд не был пригодным. В хозяйстве с коммерческими целями (Erwerbswirtschaft) даже было правилом пользоваться главным образом только трудом рабов-мужчин (этих, насколько известно, единственных рабочих в поместьях времен Катона[33]33
Катон (Cato) Старший – Марк Порций Цензорий (234–149 гг. до н.э.), прозванный Старшим – римский писатель, консервативный политический деятель, непримиримый враг Карфагена, противник греческого влияния в Риме, поборник староримских нравов. Приобрел известность благодаря своей деятельности на посту цензора в 184 г. до н.э. (отсюда прозвище Цензорий). Стремясь к возврату прежней строгости римских правил и обычаев, Катон очистил сенат и всадничество от недостойных, продажных членов, провел в жизнь закон о налоге на роскошь и намеревался тем самым укрепить и стабилизировать власть римского народа. Его экономическая политика была направлена главным образом на повышение рентабельности средних сельских рабовладельческих хозяйств типа вилл, совершенствование сельскохозяйственного труда, для чего им был на месте изучен соответствующий карфагенский метод и отдано распоряжение о переводе на латинский язык сельскохозяйственных трудов карфагенца Магона. В экономических взглядах Катона отразились укрепляющиеся товарно-денежные отношения в Риме, тенденция к росту торговли и ростовщического капитала, а также возникшая в хозяйственной сфере конкуренция. В области литературы Катону приписывается слава основоположника литературной прозы, но полностью сохранился лишь его трактат «О земледелии» («De agri cultura»).
[Закрыть], равно как единственных рабочих аттического эргастерия), если только это было возможно, т. е. пока хронические войны обеспечивали правильную поставку рабов на рынок. Рабыни занимались проституцией или домашней работой.
Если регулярная поставка рабов прекращалась надолго, то дальнейший прирост их мог быть обеспечен лишь путем разрушения рабских казарм и восстановления семейной жизни раба, т. е. перенесением интереса к воспроизведению заключающегося в рабах капитала на самого раба, что означало отказ от безграничной эксплуатации его рабочей силы. Но такой отказ, при системе закованных в кандалы и работающих под ударами кнута плантационных рабов, везде должен был означать чистый убыток там, где одновременно с этим не была найдена форма, которая бы делала собственный экономический интерес раба полезным для господина. Ибо, наряду с непрочностью капитала, заключающегося в рабах, и со связанным с ним не поддающимся учету риском, в случае прямой эксплуатации раба как рабочей силы в крупном производстве, отсутствие у раба собственного интереса к делу, конечно, прежде всего противодействовало всякому техническому прогрессу и всякому увеличению интенсивности и качества работы. Имеющие решающее значение для работы «этические» качества рабов при эксплуатации рабов в крупном производстве – самые наихудшие, какие только можно себе представить.
Растрата капитала, вложенного в рабов, сопровождалась растратой капитала, вложенного в рабочий скот и в орудия производства, и застоем в технике орудий производства (например, плугов). Относительно первого пункта прямо раздаются жалобы: применение рабского труда к производству хлебных злаков, поставленному на широкую ногу, оказывается по этой причине невозможным, так как античная земледельческая техника требовала интенсивного труда; да и вообще рабов можно было употреблять в крупном производстве с действительной выгодой только на хорошей почве и при низких рыночных ценах на рабов, и их применение обыкновенно означало переход к экстенсивному хозяйству. И – что было еще важнее – эта особенность рабского труда в промышленной области не только служила препятствием к введению усовершенствованных орудий производства, но вообще к тому комбинированию тесно между собой соприкасающихся и строго разграниченных рабочих сил, которое как раз и составляет сущность специфически современных форм производства, для которых характерна не только численность рабочих.
Применение промышленного труда обученных покупных рабов в крупном производстве на основе разделения труда, несомненно, было по тем же причинам невозможным в древности, равно как и во все времена, как явление нормальное; в отдельных же случаях – но всегда в небольших размерах – оно встречается и тогда (см. ниже). Даже эргастерий, представляющий собой в сущности случайное соединение отдельных рабочих, встречается, главным образом» в местах, занимающих особенно благоприятное в экономическом смысле положение, таких как Афины, Родос, Александрия и т. д., да и там всегда лишь как придаток к торговому делу или к дающему ренту имуществу. Если на рынке нередко появлялись излишки ремесленных изделий барщинного происхождения или несвободной домашней работы, или продуктов крупных домашних хозяйств княжеских или полукняжеских «ойкосов», то, разумеется, надо весьма остерегаться видеть в этом доказательство существования «фабрик» с покупными рабами. Даже такие явления полукапиталистического характера, как применение уже совсем крупными рабовладельцами или монархами принудительного труда для создания «побочных производств» («Nebenbetrieben») промышленного характера, типом которых в новое время являются многие русские «фабрики» XVIII и первой трети XIX вв., могут существовать, только опираясь на фактическую монополию и при наличии определенных условий. Эти условия – дешевая пища, монопольные цены на продукты, но, кроме того еще, низкие цены на рабов и, следовательно, очень высокая степень эксплуатации, покрывающая риск вымирания (даже по Демосфену и Эсхину[34]34
Демосфен – афинский оратор и политический деятель (384–322 гг. до н.э.), сын богатого оружейного мастера. Несмотря на физический недостаток, целеустремленно упражнялся в красноречии. Занимался адвокатской практикой, сочинял судебные речи, затем перешел к политике и стал идейным вождем в борьбе против Филиппа Македонского, в котором видел опаснейшего врага греческой свободы. В 330 г до н.э. афиняне удостоили его почетного золотого венка за восстановление на свои средства афинских крепостных стен. В своей речи по случаю вручения ему венка Демосфен отстоял свои политические взгляды и вынудил оппонента (Эсхина, который обвинял Ктесифона, предлагавшего наградить Демосфена золотым венком, в нарушении законов) отправиться в ссылку. Несколькими годами спустя Демосфен был впутан в аферу с подкупом и вынужден был бежать из Афин (324 г.). После смерти Александра Македонского Демосфен был призван в Афины, но после очередного захвата города македонянами был осужден на смерть и принял яд, чтобы не попасть в руки преследователей (македонского царя Антипатера и его сторонников).
Эсхин (Aeschinus) (ок. 390–314 до н.э.) – афинский оратор и политический деятель, один из вождей олигархической промакедонской группировки, соперник и постоянный противник Демосфена. Потерпев поражение в деле о присуждении Демосфену золотого венка. Эсхин удалился на Родос, где основал школу красноречия.
[Закрыть] от 30% до 100%) – должны были быть налицо для того, чтобы было возможным длительное применение покупных рабов-ремесленников в эргастерии господина. Но и тогда эти «производства» были ограничены самое большее несколькими дюжинами рабочих. Не существовало «постоянного капитала», без которого не может существовать никакая «фабрика». В наем отдавали рабов, а не «мастерскую». Сами рабы – это и есть мастерская; содержание рабов господином, а не применение их в концентрированном «производстве», имеет решающее значение. «Мастерская», в свою очередь, была частью «ойкоса», и все те чреватые последствиями изменения в праве, которые еще в XIII–XIV вв. – за много столетий до возникновения наших «фабрик» – сопровождали отделение «мастерской» от домашнего хозяйства семьи, вложенного в дело капитала от частного имущества, остались совершенно неизвестными Древности (поэтому – за немногими характерными исключениями, именно, в области государственного откупа – не существует и всех тех «форм предприятий» («Untememungsformen»), которые обеспечивают долговечность производства (des Perennieren des Betriebes) среди превратностей судьбы отдельных состояний, таких как акционерная компания и т. п.). Массовое применение рабского труда в крупном производстве в рудниках, в каменоломнях и на общественных работах представляет собой почти исключительно эксплуатацию труда необученных рабочих.