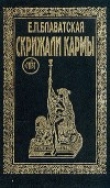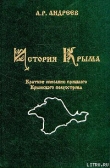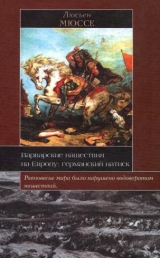
Текст книги "Варварские нашествия на Европу: германский натиск"
Автор книги: Люсьен Мюссе
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Что собственно представляли собой германские «народы» эпохи нашествий? Некоторые изначально выглядят очень сплоченными ячейками, но не слишком многочисленными; другие походят на большие конфедерации, каждое мгновение готовые расшириться, впитав в себя других варваров, или распасться. Существовали и всевозможные промежуточные формы. В Германии природа эволюции этих Stamme (племен) стала предметом многочисленных исследований[258]258
Cp. Wenskus. Stammesbildung [N 135].
[Закрыть].
На процесс Stammesbildung (образования племен) влияли самые разные факторы: социологические (общность предков, брачные связи), религиозные (единство в культовом отношении), юридические (сходство правовых обычаев), географические (местопребывание), лингвистические (особенности диалекта), но чаще всего определяющим являлся политический фактор. Почти все народы, участвовавшие в дележе Империи, имели в качестве объединяющего начала наследственную королевскую власть. Разумеется, она не была их изначальной особенностью: в Германии Тацита, как и в Галлии Цезаря, насчитывалось немало «республиканских» народов; монархическое устройство преобладало только на Востоке. Борьба с Римом и дележ трофеев благоприятствовали власти королей; избежали ее только отдельные народы, так и оставшиеся на заднем плане, например саксы (которые обзавелись королями только после высадки в Британии).
У германцев королевская власть носила двойственный характер, сакральный и военный, а соотношение этих элементов варьировалось в зависимости от народа. Готские и англосаксонские династии, как впоследствии шведские и норвежские, считались происходящими от богов; а у франков и лангобардов они скорее были военными, однако повсюду королевская власть сохраняет оттенок сверхъестественности (известно, какое значение придавалось длинным волосам Меровингов[259]259
См. яркую статью De Vries. Konigtum [N 141].
[Закрыть]).
Сплоченность Stamme (племени) демонстрирует самые удивительные вариации. Сознание этнического единства может сохраняться при любом географическом разделении, как у герулов[260]260
В начале V в. они делились на основную группу, остававшуюся в Дании, и ответвление на среднем Дунае. Последнее, изрядно потревоженное лангобардами в 505 г., в свою очередь, распалось надвое. Одна из этих частей поселилась в Восточной Империи, а вторая, возглавляемая королевским родом, отправилась на воссоединение со своими собратьями на берега Балтийского моря (около 512 г.).
[Закрыть]. И напротив, крупные народы растворялись за несколько лет, почти не оставляя следов, как это случилось с вандалами и остготами под ударами Юстиниана, или, на более низком уровне, с гепидами и скирами, а до них почти со всеми народами, упоминаемыми Тацитом. Как разрешить это противоречие? Здесь можно усмотреть две истины. Прежде всего конфедерации народов, особенно самые крупные, живут ровно столько, сколько им удается достигать успеха; неоднократные неудачи влекут за собой распад и исчезновение названия, а составляющие их племена вновь обретают свободу или входят в другие группировки. Затем все эти народы одинаково напоминают астрономическую туманность: ядро сохраняет прочную приверженность национальному названию и королевской династии, в то время как внешние пласты, присоединившиеся в ходе исторического развития, обладают меньшей сплоченностью. Ядро, по причине ограниченности его размера, сравнительно несложно уничтожить, но пока оно сопротивляется, «этническое» сознание не ослабевает.
Этот тезис, энергично поддерживаемый Венскусом [N 135] (Р. 63–78), разрешает противоречие между незначительными размерами «родин», приписываемых германским народам, и тем значением, которого они достигали на вершине своей карьеры. Неужели все бургунды пришли с о. Борнхольм? Все вандалы из Вендюсселя? В действительности оттуда происходило только ядро народа – носителя традиций.
Для полноты следует упомянуть и о другом типе, «военной ватаге», столь любезной Фюстелю де Куланжу и, скорее всего, представляющей собой исключение. Речь идет об искателях приключений без общих традиций, объединенных лишь стремлением к наживе.
Если «организационный» аспект этой проблемы столь сложно уяснить, то следует набраться мужества и сказать, что ее численный аспект вообще непознаваем. Через полвека после того, как вслед за Белоком историки античности сумели установить численность населения Афин при Перикле и Рима при Августе, медиевисты тоже захотели выдвинуть несколько цифр. Подтвердить их нечем – ни те, что были почерпнуты из источников своего времени, ни те, которые были высчитаны на основании ненадежных фактов или, скорее, исходя из представления, что они естественным образом следуют из изучаемого явления.
Самая последовательная попытка принадлежит Шмидту, Die Ostgermanen [N 127]. P. 29–41: 50 000 батавов к 70 г. н. э., 20 000 аламаннов в Страсбурге в 357 г., 10 000 готских воинов при Адрианополе и т. д. Другой немецкий историк, В. Рейнхарт, оценил численность вестготов на момент их вступления в Испанию в 70 000 или 80 000 душ. Данные, относящиеся к вандалам – почерпнутые у Виктора из Виты, – стали предметом исследования Куртуа (Vandales [N 233]. Р. 215–218). Не отрицая полностью цифру в 80 000 душ при переходе в Африку, он доказывает, что она приобрела характер штампа.
Удовольствуемся уверенностью в том, что варварские армии эпохи нашествий были немногочисленными. Даже с учетом невоинов и пленников они были не в силах наводнить обширные регионы, которыми завладели. Но даже эта убежденность оставляет нас безоружными перед проблемой заселения. Если в случае вандалов и вестготов можно допустить, что конечная сумма варваров очень близка к их первоначальному числу, то, говоря обо всех остальных великих народах, следует учитывать вероятность дальнейшего переселения, спровоцированного достигнутым успехом и охватывавшего несколько поколений. Нет никакой возможности оценить эти вторичные переселения, о которых письменные источники обычно не упоминают.
Одновременно мы очень мало знаем о способах содержания варварских армий во время их передвижения по Империи. Самые надежные сведения относятся к готам[261]261
Е. A. Thompson. The settlement [N 198]. P. 66–67.
[Закрыть]. На всем пути из Дакии в Аквитанию они жили в основном за счет торговли с римлянами и поставляемого последними продовольствия. В 369 г. Валент попытался расправиться с готами, обосновавшимися к югу от Дуная, перекрыв дороги и введя торговый бойкот: готы были принуждены к вооруженной борьбе, а из рассказа Аммиана следует, что сельским хозяйством они прокормиться не могли. К тому же в 414 г. Констанций вынудил их покинуть Испанию, устроив морскую блокаду (Орозий. Hist adv. pag., VII, 43, I). В конце концов был заключен faedus в обмен на обещание 600 000 мер зерна, а затем регулярных поставок продовольствия, предусмотренных режимом гостеприимства. Случай с вестготами – это, разумеется, крайность: это были полукочевники, для которых сельское хозяйство всегда было не более чем источником дополнительного дохода, и они пересекли Империю в эпоху, когда годовое содержание армии (аннона) и cursus publicus (прохождение по государственной службе) еще обладали определенной эффективностью, что позволяло Риму организовать блокаду. Последующие армии смогли гораздо шире расселиться по территории Империи; вероятно, наряду с грабежом они вели какую-то торговлю, обменивая свою добычу на продовольствие. Эта потребность в провианте удерживала вождей, способных действовать сообща, в одном секторе. Варварское наступление, когда оно развивается стремительно, неизбежно является действием какого-то одного отряда, который отделяется и перегруппировывается в зависимости от доступных ресурсов. Успех faedera (договоров с римлянами) понятен: они возвращали завоевателей к нормальной жизни, к земледелию и обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия. Варвары ни в коем случае не были заинтересованы в разрушении ранее существовавших структур.
Хотя регулярные сражения были не слишком многочисленными, история завоеваний в значительной мере остается историей военной. Следовало бы лучше изучить тактику и методы ведения битвы, однако точные документы редки[262]262
См. начало кн.: F. Lot. Lart militaire et les armees au Moyen
Age en Europe et dans le Proch-Orient. T. I, Paris, 1946, которая, впрочем, представляет собой лишь набросок. Вторжения не произвели революции в римской тактике. Предшествовавшие контакты были слишком тесными, чтобы оставалось место для неожиданностей. Наименее привычной была маневренная тактика конных лучников. Руководства по тактике Поздней Римской империи свидетельствуют об адаптации маневров для возможных врагов. Зато о тактике варваров мы не знаем почти ничего.
[Закрыть].
Структура варварских армий строилась на воинской обязанности всех свободных мужчин, способных сражаться, экипироваться и прокормиться, по крайней мере, в течение короткой экспедиции. Бургунды и франки распространяли эту систему и на своих римских подданных. Деление на отряды в период переселения, безусловно, происходило на племенной основе. Впоследствии оно опиралось на территориальное деление. Командование, первоначально осуществлявшееся наследственными вождями или богачами, которые возглавляли значительную comitatus (военную свиту), позднее, в эпоху Меровингов, перешло к местным представителям королевской власти, графам. Мы располагаем точными указаниями о низших подразделениях только у тех народов, которые долгое время соприкасались с римскими армиями на Востоке, где организация оставалась жесткой, а также у готов и лангобардов.
Благодаря археологии, оружие мы знаем лучше всего, по крайней мере, в тот период после IV в., когда обычным становится его захоронение в могилах воинов. Как и другие элементы цивилизации, оно сильно изменилось между подготовительной фазой «летов» и миграционным периодом эпохи нашествий: например, во владениях франков метательный топор и меч приобретают свою окончательную форму только в VI в. Каждый народ имеет свои характерные разновидности оружия. На стр. 284 мы рассмотрим вооружение франков, которые, подобно англосаксам, были в основном пехотинцами. Конные аламанны умело пользовались длинным мечом. Кроме бургундов, никто из западных германцев не придавал большого значения оборонительному вооружению и луку. Оружие готов нам известно плохо: они не клали его в могилы. Вандалы, в большинстве своем всадники, использовали копье, длинный меч, лук и часто носили латы.
Одна из самых важных проблем, связанных с гражданской организацией германцев, касается рода (нем. Sippe). Это понятие, сыгравшее ключевую роль в построениях немецких юристов, остается туманным. Соответствующим термином, по мнению большинства авторов, является fara, засвидетельствованная у франков (только топонимией: Фер-Шампануаз, Ла Фер) и лангобардов (топонимией, историографией и юридическими источниками). Членами/ara, очевидно, являлись faramanni (фараманнами), термин, который известен только у бургундов. Но что же такое в действительности/ara? Павел Диакон, лангобард, дает определение: «фары» – это generationes vel lineas (Hist. Langob., II, 9). На первый взгляд, fara действительно кажется гражданским институтом, группой людей, происходящих от общего предка. Но тот же Павел Диакон говорит, что это первичная ячейка армии, что подтверждается и эдиктом короля Ротари. Впрочем, греческие тактики подтверждают, что лангобарды сражаются семьями[263]263
Греч. слово.
[Закрыть]. Тогда действительно ли речь идет о семье или о «ячейке самообороны»? Лучший итальянский специалист, Богнетти, верит в военное объединение. Остается faramannus. Бурдиндская правда (LIV, 2) употребляет это слово в смысле consors, «участник союза между римлянами и варварами, имеющего целью эксплуатацию земли». Фредегар называет «фараманнами» аристократию, а в лионском и форезском диалектах этот термин сохранился со значением «бродяга». Все это не позволяет выдвинуть целостную теорию/яга как рода, и мы по-прежнему пребываем в неуверенности перед лицом французских и итальянских топонимов, производных от fara: о чем они говорят – о расселении семейных групп или военной колонизации[264]264
См. также стр. 182. Таким образом, выводы М. Блока, Les invasions [N 105], остаются достаточно гипотетическими. Ср. текст Мария Аваншского за 569 г.: «Албоин…со всем войском… с женщинами и всем своим народом in fara Италию захватил».
[Закрыть]?
Одна из главных трудностей в истории нашествий связана с интеллектуальной позицией, унаследованной от античности. При встрече с новым этническим наименованием историография всегда испытывает нерешительность: если на полке библиотеки прославленных авторов она отыскивает уже ставшее привычным название, то использует его в качестве замены. Отсюда, как можно догадаться, неточности и систематическое обращение к «обноскам», под которыми нет ничего конкретного.
Эта тенденция коснулась главным образом степных народов: готы были окрещены гетами, гунны переряжены в скифов, а авары стали гуннами. Долгое посмертное странствие совершили также маркоманы, квады и сарматы. Вандалы в агиографических рассказах выступают в качестве удобного подставного лица на месте всех мыслимых завоевателей Галлии, как и аланы. Литературным термином, обозначающим франка, стал сикамбр. Лишь лангобарды и саксы избегли подобного маскарада.
Еще одной темой для исследования могла бы стать иконография завоевателей-варваров. Ценная документация собрана в отношении готов[265]265
Прежде всего Fuchs. Kunst der Ostgotenzeit [N 175]; см. также D. P. Dimitrov. Les peintures murales du tombeau antique de Silistra // Cahiers archeologiques, XII, 1962. P. 35–52.
[Закрыть]. Вожди и простые солдаты носили характерную прическу: длинные волосы закрывали часть лба, а ниже ушей закручивались на своеобразные «бигуди». У вандалов Куртуа нашел только тексты, одну утраченную мозаику и одну спорную[266]266
По крайней мере, на Западе; на Востоке неизбежно при влекают внимание тексты вроде рассказа Приска, посланника при дворе Аттилы: см. прелестную брошюру Е. Doblhofer. Byzantinische Diplomaten undostliche Barbaren, Graz, 1955.
[Закрыть]. Если не считать вклада погребальной археологии, то о других народах мы знаем не больше. Следовало бы одновременно изучить исчезновение в триумфальной иконографии (которая сохранилась на Востоке) классической фигуры варвара, унаследованной от эллинистического образа галата, и ее замещение реалистическими изображениями, вроде готов на обелиске Феодосия в Константинополе.
Отношения Рима и варваров в V в. редко рассматриваются в контексте дипломатической истории[267]267
По поводу последнего пункта проницательные суждения содержатся в кн.: R. de Abadal. Delreino de Tolosa…[N182]. P. 30.
[Закрыть]. Каким образом осуществлялись контакты между Римом и варварскими королями? Следовало бы провести исследование на тему посреднической роли священнослужителей: нам известно о встрече папы Льва с Аттилой, правда, в сопровождении высокопоставленных чиновников; о действиях святого Германа Оксеррского в борьбе против багаудов и британских сепаратистов, о епископах, служивших посредниками между готским королями Тулузы и Империей. Какому церемониалу при этом следовали[268]268
У Куртуа. Les vandales [N 233], мы найдем список императорских посланников в Карфагене, однако без всяких комментариев.
[Закрыть]?
Каково было значение выплачиваемой Римом дани: не только ее размеров, но и содержания (кажется, скандинавы никогда не соглашались принимать triens, а только aurei[269]269
Aurei – золотая монета, равная 100 сестерциям. – Примеч. ред.
[Закрыть]), источников и эффективности этих выплат? Можно подсчитать, сколько получили от Рима Аларих, Гензерих и Аттила, но на что эти суммы тратились? Разумеется, главным образом на покупку продовольствия и оружия, но еще их копили, снаряжали на них посольства, может быть, приносили в дар. Представляется, что в отличие от того, что имело место в конце движения викингов, их экономическая ценность была отрицательной.
Надо изучить и другую похожую практику – институт предоставления заложников в обеспечение faedus – обычное явление на протяжении всего V в. В 418 г. один сенатор, родственник будущего императора Авита, был передан вестготскому королю. Аэций в молодости был заложником у Алариха, а затем при дворе гуннов; в 448 г. его сын был отдан Аттиле вместе с сыном одного сенатора. Значимость этих эпизодов для подготовки взаимопонимания между варварскими королями и римской аристократией видна главным образом на примере Аэция.
Следовало бы лучше установить, в какой степени римляне могли снабжать германцев информацией, советами или даже руководством в ходе их переселения. Сложные операции почти неизбежно требовали такого сотрудничества.
Можно быть уверенным, что именно пятеро Hispani (испанцев), прибывших в Африку вместе с Гензерихом[270]270
И в итоге осужденных по причинам религиозного по рядка: Prosper Tiro. Chron., ann. 437.
[Закрыть], помогли ему переправиться через Гибралтар. Для Теодориха переход его народа через Балканы в Италию и штурм limes Фриули определенно облегчался присутствием рядом с ним римлянина Артемидора, родственника императора Зенона, которого он вознаградил должностью префекта Вечного города. Таким образом, еще до стабилизации завоевателей римский правящий класс подготовил себе то место, которое впоследствии занял при дворе королей, осевших на землях Империи. Мы часто обнаруживаем, что великие идеи германских королей на самом деле принадлежат их римским советникам, за миролюбивой политикой Эвриха в Аквитании стоит Лев Нарбоннский, за деятельностью Теодориха в Италии – Кассиодор, за франкской экспансией в Южную Германию при Теодеберте – Парфений и т. д.[271]271
Неполный список этих римских советников был составлен Э. Эвигом, Residence et capitale [N 445]. P. 30.
[Закрыть] Даже Аттила, возможно, имел римского вдохновителя – своего секретаря Ореста. Было бы интересно выяснить, откуда появились эти реалисты, двигали ли ими экономические интересы или одно честолюбие и не имели ли они, в глубине души, задней мысли послужить Риму руками варварского короля (так, определенно, обстояло дело в случае Кассиодора, Боэция и Парфения).
В заключение не упустим из виду потенциальную опасность, которую представляет для историка манипулирование этими коллективными абстракциями – готы, франки, вандалы. В интересующую нас эпоху ни один из этих народов не существовал в чистом виде, все они состояли из разных компонентов, порой неожиданных. Африканские вандалы по большей части были асдингами, но, кроме того, в их составе имелись силинги, аланы, какое-то количество свевов и испано-римлян. К вестготам и бургундам присоединялись и азиатские группы. Остготы Теодориха привели с собой ругов, а в Италии поглотили скиров, герулов, каких-то аламаннов и даже скандинавских искателей приключений. То же самое происходило повсюду. Уже одно это обрекало институты, принесенные каждым народом, на сопоставление и адаптацию и подготавливало путь к примирению с римлянами.
При приближении варваров, в начале V в., городам не нужно было окружать себя стенами: все это уже было сделано либо еще в эпоху Ранней империи, либо в период кризиса III в., а те, что не имели защиты, давно погибли[272]272
Для Галлии см. Adrien Blanchet. Les enceintes romaines de la Gaule. Paris, 1907; Albert Grenier. Manuel d" archeologie gallo-romain. T. I. Paris, 1931. P. 403–484.
[Закрыть]. Достаточно было восстановить эти укрепления. Эти работы, не имевшие большого размаха, не оставили заметных следов, если не считать Африки, избежавшей предшествующих испытаний. Варвары обычно продолжали содержать в порядке городские стены, которые, таким образом, сохранились в целости до средних веков. Очень редки были случаи, когда из недоверия к враждебному городскому населению они разбирали городские укрепления (как поступили вандалы с Типасой в Мавритании).
В беспокойном мире V в. стены оставались самым надежным прибежищем, по крайней мере, на короткое время. Чаще всего варвары, лишенные осадных машин, были не в силах взять город приступом. Успех им могла принести только долгая осада, сопровождаемая разрушением канализации. Именно так вандалы завладели Гиппоном в 431 г., а остготы Равенной в 493 г. Военные действия византийской реконкисты в Италии сводились к нескончаемым осадам Рима. Только высокие стены, примыкающие к морю, откуда могло поступать продовольствие, делали возможной длительную оборону. Однако тесный и перенаселенный город, характерный для периода Поздней Римской империи в Галлии и Испании, мог продержаться только несколько дней или недель. Лишь только блокада затягивалась, общественное мнение – или, по крайней мере, humiliores (низшие слои) – настойчиво требовало капитуляции – так случилось во время осады Базаса вестготами, описанной Павлином из Пеллы[273]273
Paulin de Pella, Eucharisticos, v. 333–343.
[Закрыть]. В Испании Гидаций повторяет почти обо всех городах, занятых свевами, что они были взяты per dolum (обманом) или sub specie pads (в надежде на мир). Что касается городов Британии, покинутых своими активными защитниками, то они, похоже, вообще не оборонялись.
Города, которые обзавелись слишком протяженными крепостными стенами к III в., было невозможно оборонять местными средствами, не прибегая к мобильной армии. Безусловно, именно этим объясняется та легкость, с которой франки утвердились в Кельне (сохранившем свою стену времен Клавдия, окружающую территорию в 100 га), и четыре захвата Трира в V в., известные Сальвиану (у города имелась гигантская стена древней столицы, 285 га). Орлеан со своей небольшой стеной вокруг территории в 25 га, напротив, смог стать оплотом римской обороны на Луаре, а Сиагрий сделал своим опорным пунктом Суассон (12 га). Возможно, окончательный выбор Толедо на роль столицы вестготов отчасти объяснялся тем фактом, что с этим опорным районом площадью в 5 га они были защищены от повторения катастрофы 507 г., когда 90 га огромной тулузской стены оказались непригодными для обороны.
Если городские стены в целом выдержали испытание, то в отместку варварские нашествия за три века окончательно добили линейные укрепления, протянувшиеся вдоль сухопутных или приморских границ limes (заброшенные еще до великого штурма), и «Саксонский берег» в Галлии и Британии. Только Италия сохранила ностальгию по этим «оградам». Вплоть до победы лангобардов оборонительные рубежи преграждали доступ в долину По с северо-востока (limes Фриули) и через альпийские ущелья, у выхода из которых теснились крепости – Суза, Аоста, Изола Комачина.
Нам недостает данных, чтобы оценить то, что мы сегодня именуем «обороной территории». Теоретически, как представляется, главной слабостью Поздней Римской империи было то, что она никогда не могла, не умела или не хотела организовать региональную «самооборону», привязанную к конкретной территории. Эта неспособность, тактически равная самоубийству, объясняется тоталитарным характером государства, а также патологической и постоянной боязнью заговоров и узурпации. Тем не менее следует напомнить о региональных нюансах. На границах Восточно-Римской империи нередки были частные фортификации (виллы, оснащенные башнями, хутора, копировавшие план castella (крепостей)). В Западно-Римской империи они играли заметную роль только в Африке[274]274
Cp. Jerome Carcopino. Les castella de la plaine de Setif // Revue africaine, LIV, 1918. P. 5 и cл.
[Закрыть]. В Британии раскопки, хоть и проводились очень обстоятельно, все же обнаружили только полдюжины. В Галлии наиболее ярким примером является Бург-сюр-Жиронд, знаменитый Burgus, велеречиво описанный Сидонием Аполлинарием[275]275
Carmina, XXII, 101–129.
[Закрыть], – укрепленная вилла Понтия Леонтия.
При отсутствии надлежащего военного отпора удивительно, что ставшая христианской Империя даже не подумала о религиозном отпоре варварам, которые в 476 г. еще были почти исключительно язычниками. Обратить варваров: не было ли это тайным средством уменьшить причиняемый ими вред – тем более что в то время бытовала единодушная вера в действенность духовного оружия? Три века спустя империя Каролингов, атакуемая с севера и востока, ответила именно так. Рим же не делал почти ничего – совсем ничего, пока варвары не перешли через границы, и очень мало впоследствии. Ортодоксальная церковь была не в силах взяться за то, что безвестные готские миссионеры, вышедшие из основанных Вульфилой очагов арианства, осуществили на удивление быстро[276]276
Некоторые священнослужители (Ницетий Ремезианский, Виктрисий Руанский, Амантий Аквилейский), на прямую соприкасавшиеся с варварами, осознавали этот недостаток и искали средства его исправить; они не были услышаны.
[Закрыть].
Это самоустранение тем более удивительно, что присутствие христианских пленников на варварской территории могло подготовить почву, как это было у готов, а Восточно-Римская Церковь вела активную миссионерскую деятельность. Единственным латинским епископом, попытавшим счастья у германцев, был еретик и изгнанник Авдий. Мы можем предположить только одно объяснение[277]277
Предложенное П. Курселем, Settimane…, IX, 1961. Р. 644–645.
[Закрыть]: в глазах латинян самой насущной миссионерской задачей выглядело довершение обращения в истинную веру своих соотечественников, значительная часть которых в пределах государственных границ все еще оставалась в лоне язычества, тогда как греки, в полном составе принявшие христианство, имели больше свободы, чтобы обращать взоры вовне.