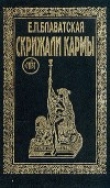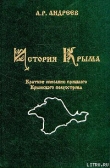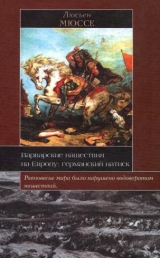
Текст книги "Варварские нашествия на Европу: германский натиск"
Автор книги: Люсьен Мюссе
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Традиционно в этом терминологическом споре французские и немецкие медиевисты высказывают противоположные мнения. В сущности, это надуманный вопрос. Однако о нем следует напомнить.
Слово «варвар» – наследие греческого языка. В глазах эллинов варваром был всякий, кто не разделял с ними ни языка, ни нравов, ни греческой цивилизации, даже если он был выходцем из такой высокоцивилизованной империи, как Персия. Это представление было взято на вооружение и в таком двуязычном государстве, как Римская империя. В ней варваром был всякий, кто не принадлежал ни к греческой, ни к латинской культуре. Таким образом, варварами оказывались просто неассимилированные чужестранцы. Разумеется, этот термин не являлся лестным: римляне были слишком высокого мнения о себе, чтобы ценить чужаков. Однако он и не постыден, и также верно, что после полной победы над Римом завоеватели часто сами применяли его к себе за неимением лучшего родового названия. Таким образом, назвать завоевания V в. «варварскими» – значит всего лишь констатировать очевидный факт, даже тавтологию: Империя была завоевана извне!
Историю слова barbarus (варвар) в период раннего средневековья еще предстоит написать. Этот термин, должно быть, не отделялся ни от своей противоположности, Romanus (римлянин), к юридическим оттенкам которой до сих пор было приковано основное внимание[222]222
Существуют также нюансы религиозного характера: в арианских государствах это приверженец ортодоксальной веры; ср. Григорий Турский. Lib. in gloria martyrum, 24: «Римлянами зовут людей нашей веры» (у вестготов).
[Закрыть], ни от производных, вроде barbaricum opus «златокузнечество», barabaricanrius «золотильщик, ткач по золотой нити», ни от топонимических соединений. Наконец, не следует забывать и о таких синонимах, как gentes (роды, племена)[223]223
Относительно barbaricarius, W. G. Sinnigen. Barbaricarii, Barbari and the Notitia Dignitatum // Latomus, XXII, 1963. P. 806–815.
[Закрыть].
Покамест подчеркнем то, насколько концепция «варвара» была удобна для древних историков, раз они позволили себе не задумываться о разнообразии своих врагов. Тем не менее в IV в. проницательный Аммиан Марцеллин осознал, что своей строгой организацией империя Сасанидов больше напоминает Римскую империю, чем германские племена или степных кочевников, и поэтому отказался рассматривать персов как варваров. Затем, на стыке V и VI вв., можно видеть, что в германских государствах термин «варвар» применяется к чужакам, даже германцам. Так, для Теодориха Великого к «варварам» относились люди, не являвшиеся ни римлянами, ни готами; а Салическая правда считает варваром неримлянина и в то же время нефранка. Чуть позже франки и бургунды употребляют это название по отношению к самим себе. Наконец, в VII в. его значение смещается в направлении религии: «германец-нехристианин, язычник», или становится отчетливо уничижительным[224]224
Краткие указания можно найти в: Latouche. Grandes invasions [N 109]. P. 13–15, и F. Thibault. Les impots directs /I RHD, XXV, 1901. P. 708–709, а также в более детальном обзоре: Ewig. Volkstum [N 400]. P. 609 и cл.
[Закрыть].
Д. Синор[225]225
Sinor. Les Barbares [N 545].
[Закрыть] наряду с историей этого слова мастерски очертил историю самого понятия в очень широком контексте (с упором на Дальний Восток). Преобладают две концепции: варвар есть носитель хаоса[226]226
Греч. слово.
[Закрыть], или субъект, незнакомый с элементарными приличиями. Однако варвар и цивилизованный человек – это взаимодополняющие представления: цивилизация, по природе своей эгоцентрическая, осознает себя только в контрасте с варварством. Эти существенные наблюдения не касаются периода позже V в. Что же последовало? Реабилитация варвара, предпринятая Сальвианом Марсельским, не оказала почти никакого влияния. Остальное же до сих пор покрыто мраком.
Таким образом, раннее средневековье оказывается варварским ровно настолько, насколько не является чистым продолжением римской античности. Цель этой книги – прояснить истоки этого «варварства».
Остается обосновать термин «нашествия». Он несет в себе идею насилия, которая несколько шокирует современных наследников германцев; он затуманивает тот факт, что самые большие коловращения – которые происходили за пределами limes – часто бывали мирными; наконец, этот термин подчеркивает начальную фазу процесса в ущерб последовавшему поселению на земле, которая имеет большее значение. Таким образом, если бы мы говорили о «переселении», это, без сомнения, выглядело бы лучше.
Нашествие – лишь предварительный аспект гораздо более обширного феномена: действия и ответная реакция, вызванные резким соприкосновением радикально отличающихся обществ, одно из которых, римское, достигло определенной конечной планки и даже впало в состояние бездействия, а другие, заметно более архаические, стояли на пороге стремительного, почти взрывного развития. Само по себе нашествие – явление в основном военного плана – ограничивается несколькими годами. Однако наша тема охватывает несколько поколений и все сферы социальной жизни.
Само собой разумеется, социальный аспект варварского феномена заключает в себе бесконечно больше, чем этнические или лингвистические аспекты (которые тем не менее больше привлекают современных ученых, пропитанных представлениями, совершенно чуждыми для V–VI вв.). Неоднозначность цивилизации властно притягивала внимание современников, враждебно или сочувственно относившихся к новоприбывшим. Как теоретик, Сальвиан в своем сочинении «Об управлении Божьем» охотно распространяется о социальных и моральных качествах – правосудии, человечности, целомудрии, – чтобы противопоставить варваров, которых он превозносит, ненавистным для него чиновникам Империи. Напротив, Сидоний Аполлинарий (Carmina, XII) мстит бур-гундам, которых вынужден терпеть, высмеивая их костюм, прическу и гастрономические вкусы. Язык – когда он не принадлежит лучшим авторам – не интересует приверженцев литературных традиций античности. Когда они упоминают о нем, то только для того, чтобы объявить его хриплым, отвратительным или неудобоваримым, самое большее, чтобы где-нибудь ввернуть удачно подобранное словцо для создания местного колорита. Похоже, ни один из современников не имел ясного представления о лингвистическом единстве германского мира. Название «германцы» применяется только к народам между лингвистической границей и Эльбой; никто не догадался распространить это понятие на готов, бургундов и скандинавов[227]227
Этим уместным замечанием мы обязаны Feist. Germanen und Kelten [N 119]. S. 52–54.
[Закрыть].
Впрочем, если римляне ясно ощущали, что с социальной точки зрения «варварство» представляет собой единое целое, то варвары, напротив, разделяли подобный взгляд лишь в редчайших случаях. По-видимому, Теодорих Великий был чуть ли не единственным, кто поднялся до этой концепции политической солидарности германцев Запада (главным образом германцев, исповедавших арианство), для него совпадавшей с самой прямой выгодой. Отдельных авторов иногда осеняла идея религиозного единства в лоне арианства[228]228
Некоторые ссылки в кн.: Thompson. The conversion [N199]. S.7.
[Закрыть], да и всё. Каждый за себя – таков был негласный принцип, существовавший повсеместно. В глазах цивилизованных людей он оставался типично «варварским».
Главную, но очень сложную проблему представляют «всплески» туземной культуры, когда на поверхности вновь проступает образ жизни, искусство, языки и институты, принадлежащие к эпохе доримского завоевания, на время сметенные им, но затем возродившиеся в момент всеобщего разрушения античных надстроек благодаря варварским нашествиям. «Варварство» бывало не только привнесенным извне; оно могло быть плодом консерватизма, глубокой связи с доримским прошлым. Это явление отмечается все чаще и чаще, особенно в археологии. Однако очень сложно различить эти два «варварства», которые накладываются одно на другое, и к тому же точка их соединения сокрыта от нас за классическим греко-римским или христианским фасадом.
Некоторые факты очевидны, вроде реставрации туземных элементов на пространстве от Гаскони до Кантабрии, которая дала жизнь народу басков. В этой области романизация зашла не слишком далеко (надписи из Пиренеев содержат необычно большую долю местных имен, как божественных, так и человеческих); любопытно и загадочно, что примерно между IV и VIII вв. она была полностью вытравлена. Высказано предположение, не лишенное правдоподобия, но не имеющее доказательств, что первое национальное движение басков следует видеть в испанских багаудах в Таразоне около 449 г[229]229
Cl. Saunchez-Albornoz. Settimane…, IX, 1961. P. 437–438; El senatus visigodo // Cuadernos de Historia de Espana, VI, 1946. P. 45–46.
[Закрыть]. Во всяком случае, ясно, что с конца V в. баски не переставали яростно противиться централиза-торским усилиям вестготского правительства; то же самое продолжалось и в мусульманскую эпоху, а начиная с VIII в. это движение получило развитие к северу от Пиренеев в виде постоянной вражды гасконцев по отношению к франкскому государству. Мы не станем исследовать, какие дорим-ские элементы иберийского полуострова присоединились к баскам (без сомнения, иберам). Важен только результат: устойчивый отказ от римской культуры, к которому нашествия вовсе не имеют отношения, по крайней мере, прямого. Под той же рубрикой следует поместить и крупномасштабное контрнаступление берберов в Африке[230]230
Оно было мастерски исследовано Куртуа. Vandales [N 233], чьи выводы были оспорены Фрейдом [N 235].
[Закрыть].
Части Нумидии и всем провинциям Мавритании, хоть и находящимся внутри limes IV в., удалось избежать владычества вандалов. Но удаленность и разрыв морских контактов помешали этим свободным районам остаться полностью римскими. Отказ от части Африки, очевидно, связан с наступлением кочевничества. Но было ли оно причиной или следствием? Когда система пограничных войск, охранявших подступы из пустыни, рухнула, путь для кочевников был свободен и они в свою очередь стали уничтожать оседлых жителей. Принятые против них меры, особенно возведение фортификаций вокруг крестьянских хозяйств, были неэффективными. Город еще мог себя защитить, но утратил смысл своего существования, когда в окрестных районах исчезла оседлая культура. Здесь мы, исключительно в качестве напоминания, поставим две экономические проблемы, которые до настоящего времени плохо изучены: в какой мере натиск кочевников (без сомнения, очень слабый) объясняется ухудшением климата? И какую роль сыграло распространение верблюда в росте агрессивности кочевых племен (видимо, значительную)[231]231
См. Demougeot. Le chameau [N 428].
[Закрыть]?
Равным образом, следовало бы вспомнить об энергичной экспансии кельтов в ту же самую эпоху в островную Британию (см. гл. IV) и, возможно, также в Арморику. В целом этот феномен, несомненно, затронул пятую часть территории римского Запада; однако поскольку это явление заметно только по своим негативным последствиям, мы всегда склонны его недооценивать.
Впрочем, данная тенденция была гораздо более общей, чем принято считать, опираясь на одни лишь лингвистические признаки. Стало привычным (несмотря на отсутствие точных исследований) сопоставлять искусство галло-римских провинций и самого Рима в том, что касается рельефных изображений. По-видимому, последовал значительный разрыв; но установлено, что в Испании надвратная арка (агсо de herradura) вестготских, а затем мосарабских[232]232
Мосарабы – христиане в мусульманской Испании, перенявшие исламский уклад жизни – Примеч. ред.
[Закрыть] церквей и, наконец, мечетей восходит в конечном счете к иберо-римскому искусству (согласно Гомезу Морено). Некоторые детали декора на меровингской керамике продолжает галло-бельгийские традиции, унаследованные от эпохи Ла Тена. Повсеместный подъем провансальских населенных пунктов в жилых зонах, где находились доримские oppida (укрепленные поселения), относится к тому же контексту, так как Прованс был одним из тех регионов Запада, которые были наименее затронуты нашествиями. Повсеместная победа деревень над римскими виллами была в значительной мере связана с сохранением туземных поселков галльского типа за фасадом, возникшим в результате перераспределения земель после Цезаря, и вне его. Помимо всего этого, можно сказать, что погребальные одеяния меровингской Галлии, по-видимому, принадлежат местной традиции (стр. 166).
Таковы размеры этой проблемы, одной из наименее изученных, но и, безусловно, одной из самых важных для истории раннего средневековья. К ней приходится возвращаться на каждом шагу даже в политической истории: возможно, регионализм V в. в северо-западной Галлии в определенной мере явился итогом подобного «всплеска», как на то указывает возврат к кельтскому названию «Арморика» для обозначения данного региона. Обобщать все было бы неосторожно, однако опасность ошибки была бы даже большей, если бы в общем балансе завоеваний мы отнесли за счет преемственности только типично римские элементы в чистом виде и приписали одним пришлым германцам все то, что в новой цивилизации, очевидно, чуждо римской культуре.
Также не стоит относить на счет «Великих» нашествий – до 406 г. – всю совокупность германского культурного вклада. Постепенная «варваризация» Поздней Римской империи известна, но важно подчеркнуть ее глубину и повсеместное распространение.
Как на вершине, так и в основании общества самым действенным инструментом этого «предварительного» вторжения была армия. Наверху это были бесчисленные варвары-командиры высшего звена, которых со времен Феодосия Великого можно было встретить повсеместно[233]233
По поводу франкских военачальников ср. Stroheker. Zur Rolle der Heermeister [N 267].
[Закрыть]. Внизу бытовала практика вербовки пленных варваров с целью обеспечить под командованием военных заселение регионов, опустошенных другими варварами. Восходит она, самое позднее, к Марку Аврелию, который применил ее к маркоманам в долине По[234]234
См. библиографический обзор в R. MacMullen, Barbarian Enclaves in the northern Roman Empire, L" antiquite classique, XXXII, 1963. P. 552–561. Относительно Поздней Римской империи ср. Sirago. Galla Placidia [N 76]. P. 499–500.
[Закрыть]. В Галлии эту политику начал Максимиан в 287 г.: заключенный им faedus с Геннобавдом предусматривал появление франкских поселенцев между Маасом и Мозелем. Константин позволил поселиться варварам-пахарям (из хамавов и фризов) по всей бельгийской Галлии. Таким образом, мы вновь встречаемся с проблемой «летов», упоминавшейся выше (стр. 147) в связи с Галлией. Как бы мы не относились к археологическим и юридическим аспектам, присутствие значительного числа германских очагов в сельской местности не вызывает сомнения.
Обнаружить это помогает топонимия: Sermaise обозначает сарматов, Marmaigne – маркоманов, Allemagne – аламаннов и т. д[235]235
Нападки Мориса Роблена (Maurice Roblin. Le nom de «Mauritania» // Bull. Soc. Nat: Antiq. France, 1948–1949. P. 171–182) на традиционную интерпретацию остаются не слишком убедительными.
[Закрыть]. Однако поселения экзотических и нежданных гостей имели больше шансов привлечь внимание галлов, чем деревни такого знакомого народа, как франки. И эта проблема, возможно, менее ясна, чем кажется на первый взгляд[236]236
Например, для ознакомления: Longnon, Noms de lieu [N321]. P. 127–137. Позиции топонимистов были бы сильнее, если бы их подтвердили археологические свидетельства.
[Закрыть]: прежде всего все ли эти названия относятся к коллективам? Не мог ли их породить какой-нибудь одинокий варвар?
Этот способ восстановления опустошенных территорий с помощью вынужденных переселенцев, столь странный для нас с тех пор, как появился национализм, на самом деле стар как мир. Он применялся еще в древних империях Востока, начиная с ассирийцев и персов. Мы знаем, что его возрождение в римскую эпоху создало традицию – Византия использовала его до своего последнего дня.
Эти вливания задолго до падения Империи породили моду, которую, таким образом, не стоит связывать лишь с престижем завоевателей. Три указа Гонория, между 397 и 416 гг., запрещали ношение варварского одеяния – мехового плаща, длинных волос – в городах (в сельской местности это, разумеется, был напрасный труд). И известно, например, что святая Женевьева Парижская, дитя галло-римских родителей, получила свое чисто германское имя (Genovefa) задолго до середины V в. Эта мода могла также затрагивать и менее ничтожные области, особенно погребальные обряды и юридические традиции. Однако возмущенное сопротивление официальных кругов римского общества, которые одни оставили письменные свидетельства, никогда не позволит нам узнать об этом что-то определенное[237]237
Не была ли бытовая юридическая практика частично германизирована до варварского завоевания? Положительный ответ на этот вопрос позволил бы разрешить дилемму, связанную с происхождением кастильских фуэрос: «вульгарное римское право» или «германское право» (ср. стр. 262)?
[Закрыть].
В любой период нашествий возникает одна и та же проблема: в каких пропорциях внешний враг получает осознанную или неосознанную поддержку изнутри? Использовали ли угнетенные социальные классы эту ситуацию, чтобы взять реванш? Не пытались ли беспокойные элементы воспользоваться беспорядком для собственной выгоды? И как понять, кто причинил больше ущерба – завоеватели или преступники?
Размах социальных движений, охвативших латинский Запад в V в., внушителен[238]238
См. особенно Sirago. Galla Placidia [N 76]. P. 369–398.
[Закрыть]. Они сотрясали все провинции и особенно Британию, запад Галлии, север Испании и Африку. Их сложно охарактеризовать, так как источники слишком немногословны и страдают необъективностью.
Прежде всего, и это точно, колоссального распространения достигает разбой, который усиливается после каждого варварского вторжения. С конца IV в. кодексы пополняются суровыми законами против разбойников и их пособников. При всей недоверчивости Поздней Римской империи гражданам дважды, в 391 и 403 гг., поручалось преследовать latrones publici (общественных преступников) с оружием в руках. Последние действовали как настоящие корпорации, покупая маленьких детей, чтобы обучить их своему ремеслу (эту практику пришлось запретить в 409 и 451 гг.), и обладая собственной сетью для реализации добычи. Стать разбойником было самым простым выходом для того, кто разорился, находился в опасности или просто стремился сделать быструю карьеру.
На высшем уровне находятся циркумцеллионы, эти таинственные африканские мятежники, «люди, которые кружат вокруг амбаров». Их случай сложен: жестокие деяния этих берберских банд объясняет, с одной стороны, аграрная безработица и нищета, а с другой – религиозный фанатизм, подогретый донатизмом. С середины IV в. они внесли свой вклад в уничтожение римского порядка в значительной части Нумидии[239]239
Courtois. Vandales [N 223]. P. 147–148; Ch. Saumagne. Les circoncellions d'Afrique // AESC, VI, 1934. P. 351–364.
[Закрыть].
В Галлии и Северной Испании речь идет о багаудах – новом социальном и одновременно политическом движении. Это слово, как и явление, по-видимому, коренится в еще слабо романизированной кельтской среде Западной Галлии. В V в. оно уже было не в новинку: когда вследствие вторжения 406 г. багауды проявились снова, они уже имели традицию, восходящую к III в. В 435 г., после различных кратковременных кризисов, движение багаудов внезапно приняло очень серьезный оборот. Некий Тибатто вовлек недовольных почти со всей Галлии в открытое восстание, отчетливо сепаратистского толка («откололся от римского общества», сообщает хроника)[240]240
В то же время святой Герман Оксеррский защищал интересы армориканцев легальными способами в Равенне.
[Закрыть]. Подавленный с огромным трудом к северу от Пиренеев, мятеж почти тотчас же перекинулся на юг, в Тарраконскую область, где полыхал до 443 г. Второй приступ имел место около 448 г.: во главе галльских багаудов встал интеллектуал и врач Евдоксий, который вслед за тем потерпел крах и бежал к гуннам.
На следующий год испанские багауды убили епископа Та-разоны (вблизи Сарагосы); только в 454 г. это последнее движение пало под ударами готов, присланных Аэцием. С тех пор багауды более не появлялись[241]241
Для ознакомления с фактами см., прежде всего, W. Levison. Bischof Germanus von Auxerre // NA, XXIX, 1903. P. 95–175; Sirago. Galla Placidia [N 76]. P. 380 и cл.; Loyen. Recherches historiques [N 91]. P. 45, 65–66.
[Закрыть].
Остается его интерпретировать. Социальный характер этого движения засвидетельствован в «Житии Германа» и Сальвианом: речь идет о возмущении жертв тоталитарного угнетения гибнущей Империи против фискальной системы и судей. Ничто не указывает на то, что оно привлекало одних крестьян. Здесь можно предполагать нечто очень близкое к проявлениям обостренного сепаратизма, которые разворачиваются в это же самое время в городах Британии под руководством местных властей (ср. гл. IV)[242]242
Cm. Mazzarino. Si puo parlare [N 72] и Erika Engelmann. Zur Bewegung der Bagauden im romischen Gallien // FestchriftH. Sproemberg. Berlin, 1956. S. 373–385.
[Закрыть]. Не следует ли пойти дальше и усмотреть в багаудах, особенно испанских, еретические тенденции (а именно присциллианские) подобно тому, как в британском сепаратизме часто распознают проявление пелагианства? Это остается очень сомнительным. Что касается тайных сношений багаудов с варварами, то они были совершенно случайными и уравновешивались стычками, по крайней мере, такими же частыми[243]243
Сираго, Galla Placidia [N 76]. P. 501 и ел., высказывает ошибочную гипотезу по поводу связи между летами и багаудами. Едва ли стоит о ней вспоминать. Багауды не раз парализовали римскую оборону от варваров. Несколько причин объясняют их исчезновение после 454 г.: ослабление государства и давления с его стороны; появление поселенцев-варваров, особенно на Луаре, что исключило всякую возможность успеха общего восстания.
[Закрыть].
Таким образом, доля участия социальных волнений в разрушении римского порядка установлена. Однако кажется несправедливым верить в сознательное сотрудничество между внутренним врагом и варварами. Похоже, что и варвары не искали союза с этими социальными движениями и даже не понимали их значения. Вандальские короли, хотя и смертельно враждовавшие с ортодоксальным епископатом в Африке, не протянули руку помощи циркумцеллионам. Готы и аланы увидели в багаудах только повод предоставить Риму наемников для подавления повстанцев за дорогую плату[244]244
Томпсон, The settlement [N 198], полагает, что в первые годы своего пребывания в Аквитании вестготы пытались солидаризоваться с сельскими восстаниями; быстрое вмешательство патриция Констанция, предоставившего wwfcedus в 418 г., спасло социальный порядок. Этого нельзя исключить, но доказательства ничтожны.
[Закрыть]. Единственным заметным исключением, по-видимому, явился предпоследний король итальянских остготов Тотила, который в эпоху, когда его народу уже было нечего терять, повел «спартаковскую» политику, оказывая помощь рабам против хозяев[245]245
Таков, по крайней мере, тезис, с блеском отстаиваемый С. Маззарино, Si рuо parlare… [N 72]. Р. 415–416.
[Закрыть]. Однако Тотила потерпел поражение, возможно столкнувшись с прочностью отношений клиентеллы между патронами и крестьянами. В целом германцы были приверженцами социального консерватизма. Режим гостеприимства, а затем приобретение их вождями крупной земельной собственности сделало их сторонниками интересов аристократии.
Совпадение нашествий, социальных вспышек и нескольких эпидемий произвело большое впечатление на современников, подготовленных христианством к тому, чтобы видеть в этом признаки приближающегося конца света. Собраны литературные свидетельства, относящиеся к 398 г., 365 г. от распятия Христа[246]246
J. Hubaux. La crise… [N 65].
[Закрыть], и разграблению Рима в 410 г[247]247
Courcelle. Histoire litteraire [N 106]. P. 55.
[Закрыть]. Данная тема заслуживает того, чтобы рассмотреть ее во всей совокупности. Именно вышесказанным в изрядной степени объясняются столь частые проявления пораженчества. Выразителем этого чувства (и только) является Сальвиан – тот самый трирский священник, бежавший в Лерен, который в столь необычной манере бичевал Рим и превозносил варваров в своем сочинении «Об управлении Божьем»[248]248
Рассматриваемом в основном no R. Thouvenot. Salvien et la mine de l'Empire romain // MAHR, XXXVIII, 1920. P. 145–163 и Courcelle. Histoire litteraire [N 106]. P. 119–130.
[Закрыть]. Под довольно ожесточенными антитезами этого ритора кроется менталитет, носители которого, разумеется, находились в меньшинстве, но именно им объясняется не одна измена. В V в. невозможно приписывать христианскому населению чувство неприятия a priori к военной защите Империи, но некоторые индивиды, безусловно, не решались встать на защиту государства, которое так мало отвечало моральным идеалам христианства и, казалось, было приговорено к гибели судьбой.
В момент серьезного кризиса Империи имело место отступничество значительной части правящего класса. Причины этого явления были многочисленными и сложными. Растущая роль придворной службы и интриг в жизни магнатов в ущерб управлению провинциями подорвала местную оборону. Крепнущая привязанность сенаторов к своей родной земле затмила ощущение единства между различными частями Империи. Многое объясняет и отвращение людей благородного рождения к пребыванию в среде выскочек, чаще всего варварского происхождения, составлявших военное командование. Однако ответственность не является односторонней: правительство, терзаемое боязнью заговоров, сделало все, чтобы отдалить аристократию от активной деятельности. В IV в. система honores отстраняла магистратов от полезных затрат и вынуждала их расходовать огромные суммы на зрелища. Разумеется, народ Рима от этого выигрывал, но теперь это очень мало интересовало государство, поскольку Рим более не был местом пребывания правительства. В течение этого времени государство должно было насмерть душить humiliores (низшие слои) налогами, чтобы обеспечить себе жизненный минимум. Семейство Мелании, подруги святого Иеронима, получало ежегодный доход в 12 000 фунтов золотом, а император не сумел найти 4000 фунтов, которые пошли бы на содержание армии Алариха в течение трех лет, что избавило бы Рим от разграбления… Законодательство даже вынуждало состоятельных людей бездействовать: немногие люди решались, подобно писателю Синезию Киренскому, преступить закон, запрещавший браться за оружие без императорского разрешения, даже в случае насущной необходимости[249]249
По поводу этого поучительного эпизода, ср. Chr. Lacombrade. Synusios de Cyrune, hellune et chrutien, Paris, 1951. P. 202.
[Закрыть].
В целом малодушие пошло на пользу аристократии. При варварских королях она продолжала пользоваться большей частью своих привилегий и значительной долей богатств. Она утратила их только в Италии во второй половине VI в. за то, что не сохранила своей обычной безучастности в войнах между готами, византийцами и лангобардами. Эта позиция, которая нас шокирует, по крайней мере, спасла античную науку, которая бы, без сомнения, погибла, если бы аристократия, отстраненная от прямой деятельности, не приложила всех стараний, чтобы сохранить ее (как это делали Симмах или Макробий), прежде чем передать этот светоч монастырям, где по примеру Кассиодора она сама нередко забывала свои горести.
Социальный режим оскорбительного неравенства, политическая система, опиравшаяся на страх и подозрение в течение двух столетий, пристрастное правосудие, отличавшееся абсурдной и все возрастающей жестокостью[250]250
Несмотря на победу христианства, количество жестоких кар увеличивалось.
[Закрыть], – достаточные причины для глубокого разочарования, даже при всей действенности этой системы. Однако в свои последние годы она функционировала с перебоями и от краха перешла к капитуляции. Мирской престиж Рима, как бы велик он еще ни оставался[251]251
Известные стихи Рутилия Намациана свидетельствуют о том, что он выжил в катастрофе 410 г.
[Закрыть], больше не мог скрывать этого бессилия. Теперь уже нельзя было удовлетвориться поиском козла отпущения, вроде Стилихона или Аэция. Во многих провинциях, помимо традиционных взглядов на римское единство, зародилась мысль о том, что полагаться стоит только на самих себя. Предвестники этих регионалистских реакций, нормальных в случае глубокого кризиса, можно было наблюдать еще в III в., во времена Тетрика[252]252
Тетрик (271–274) – последний император Галлии; в борьбе с законным римским императором Аврелием Аврелианом был разбит и сдался в плен. – Примеч. ред.
[Закрыть] и Зенобии[253]253
Зенобия (267–274) – царица Пальмиры, подняла мятеж против Римской империи, захватила Сирию и Египет, но была разбита войсками Аврелия Аврелиана. – Примеч. ред.
[Закрыть]. В V в. они были различимы в менее приметных формах, которые почти не привлекли внимания историографов.
В Африке, Галлии и Британии они были наиболее ощутимы. Там в зависимости от социального уровня они облекались в несколько разных форм. На вершине – аристократия, которая замыкается на своей малой родине или ставит привязанность к региону выше верноподданических чувств по отношению к Риму. Этот феномен имеет свои эмоциональные и литературные аспекты, которые известны лучше, а также институциональные (только итальянцы продолжают заседать в римском Сенате, а сенаторская карьера уже не перемещает молодых аристократов из конца в конец средиземноморского мира) и политические стороны.
Муниципальная аристократия оставалась более восприимчивой к центробежным тенденциям, чем сенаторы, завоевание Рима ее не занимало, и интересы ее оставались чисто локальными. Это была питательная среда для армо-риканского и британского движения, природу и связи которого хорошо разглядел греческий историк Зосим: «Вся Арморика и другие провинции Галлии, подражая британцам, отвергают римские власти». Она часто прислушивалась к голосу честолюбивых туземных вождей – мавров или бриттов, – которые предлагали ей свою руку. Прозябание мало пугало ее, лишь бы это было подальше от налогов.
В не полностью управляемых и оккупированных областях – например, на возвышенных алжирских плато или на западе Британии – появились племенные вожди, готовые выступить против власти Империи. Некоторые были настоящими сепаратистами, вроде мавра Гилдона в Африке в 396–398 гг. Большинство же, меньшего калибра, стремилось лишь к тому, чтобы получить или узурпировать власть по римскому образцу, начиная с rex gentium Maurorum et Romanorum (правителя родов мавров и римлян) в Мавритании и заканчивая галлом, который заносчиво присвоил титул protector (защитник)[254]254
Ср. стр. 135.
[Закрыть].
В целом эти центробежные движения были скорее консервативными, чем революционными. Речь шла о «самосохранении» в широком смысле слова, о противодействии крушению и бессилию власти, а не о настоящем сепаратизме. Они не были порождены «нацией» мавров или «нацией» армориканцев. Долговременная кристаллизация осуществлялась только в рамках варварских королевств, а не городов или автономных племен.
В конце концов, самым разрушительным и, ненамеренно, самым революционным из всех начинаний V и VI вв. стала реконкиста Юстиниана. Только она вылилась в подлинные социальные коловращения, разрушение Рима и исчезновение сенаторского класса в большей части Италии. Таково было следствие упорства византийских армий, всегда недостаточно многочисленных для настоящей победы, проведших в боевых действиях двадцать лет. То, что пощадила стратегия военачальников Юстиниана, пало жертвой отчаянного сопротивления готов[255]255
Текстов предостаточно (Courcelle, Hist litteraire [N 106]): голод, доходивший до каннибализма, коллективные самоубийства, знатные дамы, доведенные до нищенства, депортации, аресты и избиение заложников, – недостатка нет ни в чем, и этот никак не литературные штампы!
[Закрыть]. В Африке итог был менее бедственным. Однако, несмотря на энергичные усилия, например, Соломона, византийские наместники не смогли помешать ситуации ухудшаться в том же темпе, что и при вандалах, если не быстрее под напором берберских кочевников.
Помимо текстов, следовало бы начать, в узких региональных рамках, целое исследование о возможных разрушительных факторах, явных симптомах обнищания и первых признаках восстановления безопасности.
А. Оден, например, убедительно показал, что перемещение античного поселения Lugdunum (Лиона) с возвышенности Фурвьер на берега Соны было вызвано не вмешательством варваров, а нестабильностью, связанной с появлением багаудов, которые повреждали акведуки, инициировавших антиобщественное поведение очистителей сточных канав (бедствие, знакомое нашим городам!), и сделали невозможным водоснабжение кварталов, находящихся на возвышенности[256]256
Audin // Rev. archeol. de VEst, IV, 1953. P. 61–65, и Bull Soc. Nat. Antiq. France, 1952–1953. P. 87–88.
[Закрыть]. Спуск Рима с Семи холмов к берегам Тибра и Марсову полю также был связан с разрушением акведуков во время готских войн. Напротив, каким замечательным признаком возвращения порядка стало восстановление арен в Париже и Суассоне сыновьями Хлодвига или амфитеатра в Павии Аталарихом[257]257
Gregoire de Tours. H. F. [N 32], V, 17; G. Panazza. Lapidi di Pavia [N 9], inscr. 10.
[Закрыть]!
Таким образом, можно обозначить более точные контуры этого смутного периода и, конечно, отметить, что в большинстве случаев он начался еще до великих варварских прорывов и прекратился сравнительно скоро после возникновения новых королевств. Можно приблизительно определить границы островков спокойствия и зон смятения: начиная с V в. социальная история Запада распадается на ряд региональных историй, развивавшихся в очень неравномерном ритме. И повинны в этом не только варвары.