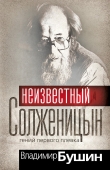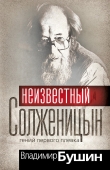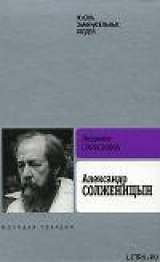
Текст книги "Александр Солженицын"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 28 страниц]
По закону Роман считался единственным кормильцем, и в этом качестве не подлежал воинской службе. Но – едва началась война – поползли слухи об отмене льгот, если на деле такой призывник кормильцем не является. Мысль о войне отравляла ему жизнь со всеми её немалыми удовольствиями, и он содрогался от мысли, что никчемная бумажка, повестка воинского начальника может бросить его в грязный окоп под власть фельдфебеля.
В отличие от неведомого будущего родственника Исаакия Солженицына Роман Щербак и в страшном сне не мог представить себя добровольцем той войны. Нет, нет и нет! Дикую Россию с её чумазым бытом, с царем, над которым смеются, с безнадёжным правительством, с православием, от которого ничего не осталось, с бессмысленными постами (в них могла пройти половина жизни и непонятно, зачем с таким капиталом увечить себя) – эту Россию он не жалел. И яростно вскидывался на жену, когда та позволяла себе какие-то глухие намеки, называл её дремучей монархисткой, туполобой патриоткой: «Последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она…»
Но рассматривать карту военных действий, полулёжа на кушетке вкалывать и передвигать флажки воюющих государств, было интересно и увлекательно; это интеллигентное занятие вполне соответствовало английскому стилю поведения, который Ромаша вырабатывал и культивировал. И, только убедившись в своей надёжной защищённости от претензий военного времени, он готов был чувствовать себя патриотом и со вкусом выговаривал: «наступаем мы, наступают наши». Это – было не зазорно и джентльмену.
Роман Захарович видел себя человеком критических, передовых взглядов (остальные, да и почти все в семье, были дикарями-печенегами), светлой, предприимчивой головой, каких мало в России; воображал, как он, с его непреклонностью и прямотой, будет избран представителем Кубани то ли от кадетов, то ли от социалистов… А ещё мечтал об Америке, самой лучшей, деловой, разумной стране; Америка значилась первым пунктом его большого послевоенного путешествия (если, конечно, не придется, по капризному желанию жены, двинуться сперва на Восток – паломниками в Иерусалим, в Палестину, в Индию...)
Это он, Ромаша, настоял, чтобы, как у образованных людей, в ореховой столовой отцовского дома были вывешены портреты Льва Толстого – на одном граф косит, на другом пашет (рисовал выписанный из Ростова художник-итальянец). За отвержение исповеди и причастия, которых Ромаша особенно не терпел, был графу от него особый почёт. Еще сильно уважал Горького – за дерзость, жёлчность, бесстрашие, за то, что наотмашь бил всякое начальство хлёстким словом, а оно, начальство, только возбуждалось от этой ругани, как от всего острого и пряного, и аплодировало «буревестнику».
Роман был готов думать и о революции, но мешал обычай социалистов грабить и отбирать законно нажитое имущество. «Единственное личное воспоминание о социализме было у Романа – от Девятьсот шестого, кость в горле, обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! – с потерей можно примириться как с убытками от грозы, от засухи, от колебания цен. Потерять – не унизительно, кто не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кровные деньги этим наглецам, этим рожам мерзавским, ни ума, ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того заработать!»
И с содроганием вспоминал Роман, как прислали отцу и другим экономистам анонимные письма с писарскими завитушками, в которых некие анархисты-коммунисты требовали пожертвовать на революционную работу по сорок тысяч с каждого имения, а иначе «наступит немедленная смерть». И всё же не мог Роман своими руками отдать всю сумму (а отец и вообще не поехал на встречу, сердце бы разорвалось) и выторговал у негодяев две с половиной тысячи. На большее решимости не хватило, хотя были и люди, и оружие. Но все вокруг только и говорили, что святой долг перед ограбленным народом отстёгивать на революцию. Захар Фёдорович очень хвалил сына за те вырванные у анархистов ассигнации…
Но чаще отец и сын жестоко ссорились, зацепляясь за любую мелочь, неделями не разговаривали, и чувствовал Захар Фёдорович от этого боль и смятение. И дело было не в белом билете, выхлопотанном для сына, – эта война и вправду была «бiсова дурiсть». Переживание Захара почти не имело названия: «Не деньги, не имение гибло – Роман не вертопрах, нарушался главный стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести хозяйство – душа должна продолжать душу».
А Ромаша, после повестки, боялся только одного – что по автомобильной повинности отнимут «роллс-ройс» ценой в 18 тысяч, отнимут, как отнимали коней у станичных мужиков для отправки на фронт (отняли-таки, в 1915-м, и попал белый красавец, по авторитетным свидетельствам, к великому князю Николаю Николаевичу, командующему Кавказским фронтом. Скромную отцовскую «русско-балтийскую карету» отнимет уже другая власть.)
И недоумевала сестрёнка Тася (младше брата на 17 лет) – как не стыдно мужчине уклоняться от армии, когда этого требует простая порядочность. И густо стыдилась Ирина, с её яркой религиозностью и безошибочным пониманием долга, что муж, здоровый 36-летний мужчина, так откровенно манкирует обязанностями военного времени, которые для неё были не пустым звуком. И вместо героя, беззаветного и благородного храбреца, она видела рядом с собой скучного лысоватого типа, который сиднем сидел в отцовской экономии и обмирал всякий раз, когда читал в газетах об очередном призыве ратников.
…Но упорное «воздержание» Романа Захаровича от «царской» войны, которого молча стыдились не только жена, но и вся семья, оказалось, в конце концов, вполне бессмысленным. Не того – увы! – надо было опасаться и Захару Щербаку, сердитому на бездельника-сына (как на него оставлять хозяйство?), ворчавшему в иную минуту, «що не дав Господь iншого наслiдныка». Мир одной из самых богатых экономий на Кубани, врасплох застигнутый войной, а потом революцией и раскулачиванием, был разрушен и раздавлен. Все пошло прахом. У Захара Фёдоровича отняли не только кровно нажитое и с любовным тщанием устроенное состояние, но и осмысленное дело всей жизни.
Первым пепельное дыхание революции ощутил на себе как раз Ромаша – в глазах новой власти неучастие бывшего владельца «роллс-ройса» в империалистической войне отнюдь не явилось смягчающим обстоятельством. В марте 1918-го на проходившем в Пятигорске II съезде народов Терека была провозглашена Советская власть. Как бывший богач, Роман Захарович был схвачен и брошен в Пятигорскую тюрьму, где, скорее всего, был бы без возни и промедления расстрелян (в городе знали, что местные чекисты упражняются в стрельбе на каждом десятом арестанте). Но самоотверженная Ирина Ивановна, понимавшая, что такое долг, выкупила мужа у тюремщиков за золото и бриллианты. Сохранился документ – «Выпись из Актовой книги Ессентукского нотариуса» от 15 января 1918 года, согласно которой (за два месяца до прихода новой власти) «жена пятигорского мещанина Ирина Ивановна Щербак» оставляет, по неоспоримому духовному завещанию, принадлежащую лично ей усадьбу в станице Кисловодской и сто тысяч рублей в фонд для русских сирот. Однако «Приюту для бездомных детей имени Ирины Ивановны Щербак» (дарительница завещала, чтобы после её смерти так назывался сиротский дом) никогда не суждено было открыться. Усадьбы, миллионные состояния, дарственные завещания и гербовые бумаги очень скоро утратили силу.
«Наши метались из города в город, / С юга на север, с места на место. / Ставни и дверь заложив на запоры / И ощитивши их знаменьем крестным, / Ждали – ночами не спали – ареста. / Дядя уже побывал под расстрелом, / Тётя ходила его спасать; / Сильная духом, слабая телом, / Яркая речью, она умела / Мальчику рассказать». От тёти Иры многое узнает племянник, многое потом и увидит – как жила его несчастная родня из «бывших», как подтверждалась истина, что от сумы да от тюрьмы…
От былого богатства только и осталась у дяди Романа профессия шофёра, которой он, став водителем автобуса, кормился всю жизнь. Но проживать оседло, на одном месте, они с женой не могли – скрывались, переезжали из города в город – Новочеркасск, Таганрог, Краснодар, Нальчик, нигде не задерживаясь более чем на полгода, меняли адреса и соседей, чтобы нигде к ним не присмотрелись и не сообщили куда следует. Только в 1937-м Роман и Ирина осели в Георгиевске, куда, покинув Кисловодск, перебралась сестра Маруся с мужем Фёдором Ивановичем Гориным [4]
[Закрыть]и где было у них две мазанки с общим двором и маленьким садом. В тех мазанках и приютились. Там же и умер Роман Захарович 3 января 1944 года от старости, голода и нужды, и был похоронен на городском кладбище в братской могиле.
Ирина Ивановна после смерти мужа осталась одна, без детей и без средств к существованию. Она отказалась перебираться в Рязань, когда, вернувшись из ссылки, там поселился Солженицын; не хотела покидать Георгиевск, где у неё была крохотная комната-сараюшка, без воды и отопления.
И – удивительное дело! В августе 1971 года навестили старую полуслепую тетушку гости, «почитатели» таланта её племянника. Трое крепких мужчин побывали у Ирины Ивановны не один раз, разговаривали неторопливо, на чистом русском языке, расспрашивали о семье, молодых годах, особенно восхищались её собственной биографией, попросили на пару часов почитать записки, которые она вела, и были таковы. Сами не вернулись и тетрадки унесли – просто украли. Вскоре в немецком журнале «Штерн» появилась склейка из воспоминаний тёти Иры, которая должна была лечь чёрной тенью на репутацию опального писателя. «Заметим, – писал Солженицын, – что город Георгиевск, в отличие от соседнего Пятигорска, глухо закрыт для иностранцев все 55 лет советской власти».
Этой публикации власти придавали столь важное значение, что о ней в режиме «совершенно секретно» докладывал Председатель Комитета госбезопасности Ю. В. Андропов Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, а составлял пересказ журнального материала начальник управления КГБ при Совете Министров СССР Ф. Д. Бобков.
На страницах «Сборника секретных документов Политбюро о писателе Солженицыне» («Кремлевский самосуд», 1994) разворачивается детективная картина, как под пером журналистов «Штерна» и их московских кураторов 82-летняя тётя Ира становится источником компромата на племянника. Корреспондент «Штерна» красноречиво описал жизнь несчастной старухи, а «Литературная газета» в январе 1972-го это описание перепечатала. «Старая, сгорбленная и почти ослепшая, но всё ещё энергичная женщина с живым умом ютится в пристройке старого крестьянского дома. Её комната 2х3 метра. Глиняный пол, покосившиеся, крашеные известью стены. Она сидит на железной кровати, над которой висит икона под стеклом и деревянный крест. Под кроватью спит её собака Дружок – дряхлая лохматая дворняга. Четверть комнаты занимает кирпичная печь, на которой стоит горшок, две металлические тарелки и мешочек муки. “Вот видите, как я теперь живу”, – говорит Ирина. – Это после 53 лет жизни при комиссарах. От государства я получаю в месяц 10 рублей да от Сани 15 рублей. Я ведь единственная осталась в живых из всех его родственников».
Она с грустью говорила посетителям, что унаследовала от своего отца миллионное состояние, которое получил в приданое муж. Что, путешествуя за границей перед первой мировой войной, они посетили в Штутгарте завод Даймлера и купили сигарообразную спортивную автомашину, на которой Роман собирался принять участие в автогонках Москва-Санкт-Петербург. Что дом Щербаков был обставлен как дворец, но что она не любила семью мужа, вступив в брак по воле отца.
По нормативам советской идеологии эти подробности минувшего звучали как обвинительный приговор. Этого и добивалась «Литературная газета», перепечатывая публикацию «Штерна» и помещая фотографию (украденную у Ирины Ивановны) с надписью: «В автомашине сидят Роман и Ирина Щербак и мать Солженицына Таисия». Корреспондент газеты, направленный в Саблю, обнаружил там ещё и больницу, которая разместилась в старом сельском доме другого деда, Семёна Солженицына.
Статья в «Штерне» использовала экспроприированные записки тёти Иры. «Эти записи она сделала для своего племянника, так как не могла рассказать ему обо всём во время его коротких посещений», – докладывал Бобков. Но если записи действительно предназначались для племянника, зачем же вредная тётка напихала в них столько оскорбительных замечаний? И про покойную мать, и про любимого деда, и про семью (которую Ирина Ивановна, согласно «Штерну», называет «хамской»), и про самого племянника, который «живет, как буржуй»?
Впрочем записок тех ни племянник, ни кто-либо другой за пределами секретного ведомства так никогда и не увидел.
Ирина Ивановна могла уехать из страны вслед за высылкой Солженицына в 1974-м, вместе с его женой и детьми – её усиленно звали; возможность её отъезда была оговорена на правительственном уровне, так что препятствий в тот момент не было. Но она отказалась, боясь дальней дороги и будучи не в силах расстаться с кошками, к которым, в своём одиночестве, была привязана как к детям. И оставалась в своей мазанке под битой черепичной крышей, похожей то ли на большую собачью будку, то ли на вместительный курятник, на улице Бойко, 109, в окружении добротных кирпичных домов. И затем слабела, слепла, глохла…
Ей, по просьбе Солженицына, помогала деньгами и посылками из Москвы Е. Ц. Чуковская; их переписка сохранилась. Елена Цезаревна специально приезжала в Георгиевск, пыталась купить там комнату, но никто не продал.
В 1979-м Ирина Ивановна все-таки попросила, чтобы племянник забрал её к себе, в Америку. Ей выслали анкеты и вызов – последовал отказ. Тогда писатель отправил в «Вашингтон пост» заметку «Империя и старуха». Это был «крохотный, но разительный пример, как имперские мужи отыгрываются на старой женщине, держат в конуре без водопровода, без уборной, без электричества, без ухода и без пенсии, и не дают мне купить ей в СССР квартиру – и не отпускают её ко мне, и даже пресекают нашу переписку с ней. Правительство великой державы не брезгует мстить 90-летней старухе за то, что её племянник не воспитался в духе марксизма». Никакой реакции.
В декабре 1979-го Солженицын отправил телеграмму в Москву, лично члену Политбюро ЦК К. У. Черненко: «Советское посольство в Вашингтоне сообщило о категорическом отказе моей единственной родственнице Ирине Ивановне Щербак в визе выехать ко мне в Соединенные Штаты. Неужели мало всего оглашенного уже позора, чтобы ещё добавить произвол над девяностолетней, слепой, глухой, скрюченной, бездомной старухой? Дайте, пожалуйста, указание, отпустите старуху, не вынуждайте меня оглашать».
Ответом было – молчание. Как оказалось, согласованное. Министр внутренних дел Щёлоков направил секретную записку в ЦК КПСС. «В связи с поручением докладываем, что телеграмма А. Солженицына рассмотрена совместно с КГБ СССР. Признано целесообразным в выезде в США советской гражданке Щербак И. И., являющейся дальней родственницей автора телеграммы, отказать. Признано также целесообразным ответа Солженицыну в связи с его обращением не давать».
Не отпустили ее и после звонка писателя в советское посольство.
Аукались бедной тёте Ире её миллионное наследство, былое богатство свёкра Захара Фёдоровича и громкая слава племянника Сани. Умирала она в Москве – туда её перевезли В. М. Борисов с друзьями, приехав за ней в Георгиевск в те дни, когда ожидалось разрешение на эмиграцию от Черненко. Вместо разрешения – получили отказ, и она зависла в столице. Так она и оказалась у Вадима Борисова, где провела остаток дней. Умерла с 3 на 4 августа 1980 года, тихо, без мучений. Весть о её смерти и похоронах пришла в Вермонт спустя три недели. «Как облегчён А. И., – писала его жена, – что она умерла не в своей одинокой конуре, а на тёплых руках, окружённая заботой, и похоронена по-христиански, в центре России, на берегу Клязьмы…»
А сам Захар Фёдорович покинул усадьбу (её экспроприировали в начале двадцатых, когда власть на Кубани перешла к красным) и доживал отпущенные годы у родных. Сначала – у дочери Маруси в Кисловодске, позже – в Гулькевичах, недалеко от Армавира, на хуторе племянника Миши, Михаила Лукьяновича: там у деда и бабки Щербаков была своя комнатка.
«…Где-то на хуторе, близ Армавира / Старый затравленный дед мой жил. / Первовесеньем, межою знакомою / Медленно с посохом вдоль экономии/ Шёл, где когда-то хозяином был. / Щурился в небо – солнце на лето. / Сев на завалинке, вынув газету, / Долго смоктал заграничный столбец: / В прошлом году не случилось, но в этом / Будет Советам / Конец».
Так мечтал и фантазировал дед Щербак. А у Советов были насчет него свои планы: дознаться, наконец, где прячет упрямый дед своё золото, зарытое, небось, где-то в саду или в парке бывшего поместья. Комиссары не могли взять в толк, на какие шиши живут дед с бабкой двенадцать лет после разорения. «А побираюсь я. Шо люди добрые дадут, / Хто в мэнэ запрежь зароблялы гроши… / Дають. Хто хлиба, хто сальца».
В канун «бісовой войны» он нет-нет, а подумывал, что в старости отойдет от дел, передаст хозяйство в руки наследника (мечтал о внуке), значит, нужно продержаться ещё лет хотя бы 15 – 20, чтоб вырастить хлопчика и дать толк, и тогда, на покое, можно будет как следует взяться за Библию, вникнуть в Жития святых, пойти молиться в Киево-Печерский монастырь, а то и в Палестину. Теперь он отошел от дел, и был внук, и была Библия, не осталось только наследства, и не было покоя. «И он, подавленный, неторопливый, / С какой-то вещей скорбью говорил. / Раскрыла Библию на повести об Иове / Его рука в узлах набухших жил. /…Сходились судьбы их, однако не совсем: / Начавши с ничего и снова став ничем, / Всё потеряв – детей, стада, именья – / Молил смиренья дед, но не было смиренья!»
Захара Фёдоровича схватили в рождественский сочельник, с 1929-го на 1930-й год, когда он приехал из Гулькевичей в Ростов повидать Тасю и её сына-школьника. «Лампада кроткая светилась пред иконой. / В малютке-комнате, неровно освещённой, / Огромный дед сидел – в поддёвке, в сапогах, / С багрово-сизым носом, бритый наголо, / Меж нашей мелкой мебелью затиснут. / Ему под семьдесят в ту пору подошло, / Но он смотрел сурово и светло / Из-под бровей навислых».
Сцена допроса матери и деда двумя чекистами будет подробно описана внуком в автобиографической поэме «Дороженька» – как пришедшие грозили взломать пол и распороть диван, как требовали у матери отдать бриллианты или золотые слитки, а она робко оправдывалась, что прошло двенадцать лет, что всё ушло в голодный год на масло, на муку… Как отняли у неё обручальное кольцо – память об муже, и как отвечал дед насильникам в буденовках: «Ось, в роте é два зуба золотых – возмыть, / А золота я николы не ймав / И не ховав». И как пустился дед в рассуждения о равенстве, объясняя чекистам: «А шоб уси равны булы – / Того нэ будэ николы. / Нэ будэ нас, так будуть инши, / Ще мабуть, гирши люды, злиши…»
История «крестьянского Столыпина» заканчивалась на глазах его одиннадцатилетнего внука и заканчивалась трагически – хоть и не нашли у деда золото: «Отпущен был домой / Развалиной оглохшей, с перешибленной спиной. / Два года жил ещё. Похоронил жену. / – “Пиду к остроголовымподыхать / Нэ прожинут!” Огонь глаза тускнеющие облил. / “Воны мэнэ ограбылы, убылы, так нехай / На гроши на мои хочь гроб мни зроблять”. Надел поверх рубахи деревянный крест, / В дверь ГПУ вошел – и навсегда исчез».
…К дому же, который построил Захар, судьба оказалась благосклоннее. Он пережил своего хозяина на восемь десятилетий, хотя тоже не раз стоял перед угрозой исчезновения. Здание и парковая зона были национализированы, переходили из рук в руки, одна контора сменяла другую, особняк ветшал, парк приходил в запустение. После войны здесь располагалась станция сои и клещевины, её сменил научно-исследовательский институт тракторостроения, последние два десятилетия здание использовал племзавод «Ленинский путь». В 1981 году, когда имя единственного наследника усадьбы ещё опасно было произносить вслух, дом попал в список памятников архитектуры федерального значения под названием «Дом помещика Щербака». По закону никто не имел права ни сломать его, ни перестроить, но сам вид здания красноречиво свидетельствовал о его печальной участи. Дом был заброшен, не отапливался. Оконные стекла с витражами, старинные камины с изразцами и уникальными миниатюрами, даже батареи отопления были варварски разбиты. Деревянные террасы и веранды прогнили, крыша протекала, двери рассохлись.
В Новокубанске поползли слухи, что дом отдадут под казино или разберут на старинный кирпич («кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных выжгли миллион штук», – гордился Захар). Многолетняя и изнурительная борьба, к которой временами подключался и сам писатель, может завершиться передачей родового гнезда Захара Щербака Свято-Покровскому храму в Новокубанске. «Я не мог бы представить лучшего использования дома и лучшей памяти Захару Фёдоровичу, в своё время известному широкодушием и щедростью… Мой дедушка, погибший в застенках НКВД, был глубоко верующий человек – нельзя придумать лучшего использования его здания, чем для храма Божьего» – писал Солженицын землякам в 1999-м.
А в 1964 году, когда писатель заезжал сюда по дороге на юг, он заглянул в дом деда инкогнито, как простой прохожий. Он помнил особняк только по рассказам матери, а впереди была работа всей жизни – «Красное Колесо». Много позже местные газеты напишут, будто жители посёлка стразу заметили странного гостя: легенда о несметных сокровищах, зарытых где-то здесь «расстрелянным помещиком Щербаком», ожила вновь. Охотников добыть клад за эти годы было немало – все окрестности изрыли! «За ним даже слежку устроили, – писали журналисты, со слов старожилов. – Боялись пропустить момент, когда приезжий обнаружит-таки схрон и достанет золото. Но чужак вёл себя странно: кружил возле панской усадьбы, а то заходил в парк и подолгу стоял в тени деревьев, прислушивался к чему-то. Или на лавочке у пруда садился – что-то записывал в блокноте, и опять смотрел, слушал…»
А. И. в эти россказни не верил: «Никто на меня тогда внимания не обратил; я пробыл там целый день, но никто меня в лицо не знал тогда и не засёк». Но даже если и видели его тогда новокубанцы, то догадаться, кто был тот визитёр и что он делал в старинном поместье, смогли только тридцать лет спустя. В 1994-м он снова оказался здесь. Теперь уже все знали, что приехал внук, единственный законный наследник, всемирно известный писатель. Но и в этот раз он ничего не увидел – не пустили, дескать, дом заперт, а ключ потерян.
А просто была там такая мерзость запустения, что постыдились открывать и показывать. И остался для наследника дедов дом таким, каким он был в августе 1914-го, в пору своего расцвета и своей славы.