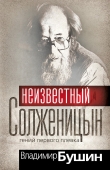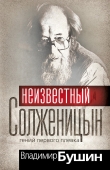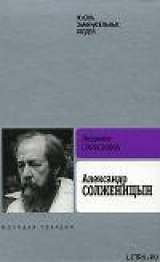
Текст книги "Александр Солженицын"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 28 страниц]
Солженицын от аргументов Копелева отмахивался и просто взрывался, когда тот пытался доказывать историческую неизбежность революции, гражданской войны, красного террора, коллективизации. «Он говорил, – вспоминал Копелев, – что раньше верил основным положениям марксизма, а потом стал всё больше сомневаться. Потому что не мог верить историческим анализам тех, чьи прогнозы оказались ошибочными. Ведь даже самые великие – Маркс и Ленин – ошибались во всех предсказаниях. А уж Сталин и подавно; объявил мировой кризис последним кризисом капитализма, потом придумал особого рода депрессию… В 1941 году обещал победу “через полгодика, через год”. Мы спорили, топчась по снегу, шёпотом, чтоб не услышали другие гуляющие, сквернословя и матерясь, чтобы “колорит” беседы не отличался от обычной зэковской трепотни…»
Панин досадовал, что Копелев, чистый сердцем человек, надевает на себя панцирь партийности, судорожно цепляется за идеологический мусор. «Со Львом мы расходились по всем главным вопросам современности и прошлого… Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру… Солженицын – человек уникальной энергии, и сама природа создала его так, что он не знал усталости. Он частенько терпел из вежливости наше общество, про себя жалея часы, пропавшие из-за такого времяпрепровождения, но зато, когда был в ударе или разрешал себе поразвлечься, – мы получали истинное наслаждение от его шуток, острот и выдумок… Не часто выходило наружу и другое его качество – присущий ему юмор. Он умел подметить тончайшие, ускользающие обычно от окружающих, штрихи, жесты, интонации и артистически воспроизводил их комизм, так что слушатели буквально катались от хохота. Но разрешал он себе это, увы, крайне редко и только тогда, когда это не идет в ущерб его занятиям…»
Друзья часто говорили о будущем. Копелев истово верил в грядущие перемены – успехи внутренней и внешней политики должны ослабить карательную политику. Панин страстно возражал. «Нас не отпустят из шарашки никогда… Ведь нас тут посвятили в тайны… За все здешние блага – за матрасы, простыни, за кисель придётся дорого платить… Нечего нам высчитывать годы, мы осуждены пожизненно». «Я пытался вести какую-то среднюю линию между ними, – вспоминал Солженицын, – но оттенок того, что каждый из них понимает жизнь лучше, чем я, у них был… Панин, и Копелев, оба на 6–7 лет старше меня, привыкли относиться ко мне как к младшему и как бы ведомому». «В Сане, – говорил и Копелев, – ощущалась явственная боль безотцовства. И в его стихах, и когда рассказывал о детстве и юности. Тогда я себе казался старше, умудрённее; хотел понимать его по-братски, по-отцовски. И даже самые жестокие наши споры истолковывал как “естественные противоречия поколений”».
С начала 1948 года режим и характер работ в Марфино резко изменились. Закрытым постановлением Совмина СССР от 21.01.1948 спецобъект № 8 системы МВД становился «Лабораторией № 1» при отделе оперативной техники МГБ СССР, созданной с целью «разработки аппаратуры засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости». Началась эпоха «секретной телефонии»: из ведомства Берии объект передали во владения Абакумова [39]
[Закрыть]. На шарашку стали прибывать связисты, радиоинженеры и радиотехники, физики, химики, математики. Зэкам было объявлено, что отныне они являются сотрудниками особо секретного НИИ и что им доверено изобретение и изготовление такого телефона, при котором на многие тысячи километров может поддерживаться связь абсолютно надежная и абсолютно недоступная для любых подслушиваний и перехватов. Тех, кто способен по-настоящему увлечься этой проблемой и отдать ей все свои творческие силы, ждут (при успешном решении поставленных задач) реальные блага: досрочное освобождение, высокие награды, почётное место в большой науке.
Панин попал в конструкторское бюро по разработке шифраторов, Копелев и Солженицын (передавший заведование библиотекой сотруднику МГБ) – в группу, изучавшую звучание русской речи. Математическим обеспечением исследования занимался Солженицын, фонетическим – Копелев. Четыре направления работы (художественная литература, разговорная речь, язык публицистики и техники), по ходу дела свелись к двум: язык разговорный и литературный. Основываясь на теории вероятности, Солженицын определял наименьшее количество текстов, необходимое для исследования, изучал слоговое ядро русского языка методами математической статистики. В соседних лабораториях создавались приборы-анализаторы речи. Распознание голосов по телефону, а также выяснение того, чтó именно делает голос человека неповторимым, должно было вместиться в полгода, но растянулось на целых два. Солженицын неспешно разрабатывал теорию и методику артикуляционных испытаний, Копелев, сидевший с ним спина к спине, кропотливо и дотошно изучал звуковиды – спектрограммы звуковых колебаний, вникал в физические параметры индивидуального своеобразия голоса. Начальство нервничало и торопило, требуя практических результатов, а не чистой игры ума.
Шарашка тем временем распространилась на всё здание, открылось много новых помещений, траву во дворе скосили под корень, двери на прогулку открывали строго по звонку. Письма приходили с большой задержкой (и теперь не через «Матросскую тишину», а через Таганскую тюрьму), и Саня посылал жене сообщения, что отменно здоров, увлеченно работает, ни в чём не нуждается, много читает и слушает классическую музыку – ни о чём другом писать было невозможно. Свиданий за весь 1948 год дали только два (вместо положенных шести), и выглядели они теперь вполне химерически: в присутствии надзирателей, с множеством запретов и жёстким регламентом прикосновений. Жена была у него на Таганке за три дня до защиты диссертации (23 июня) и 19 декабря, сразу после Саниного тридцатилетия, когда ей пришлось сказать о необходимости формального развода. Химическую лабораторию МГУ, где её оставляли работать, засекретили, и выбор был невелик: она могла, рискуя разоблачением, скрыть наличие мужа-заключённого, могла ничего не скрывать и немедленно потерять работу, могла написать в семейной графе анкеты «не замужем». Она затравленно и обречённо выбрала третье. Будто в предчувствии, что к этому неминуемо всё идёт, Солженицын писал ей в октябре: «Постарайся как можно меньше обо мне думать и вспоминать, пусть я превращусь для тебя в абстрактное, бесплотное понятие. Да это даже и неизбежно с ходом лет».
И всё же известие оглушило его. Он продолжал посылать Наташе регулярные листки с заботливыми вопросами, приветами, пожеланиями, привычно уверял, что всё в их любви осталось по-прежнему, поздравил её с Новым годом (она встречала праздник с Лидой и Кириллом, и там тоже назревала семейная драма, Сане совершенно понятная), похвалил за способность трезво оценивать жизненные обстоятельства, убеждал, что надо продвигать развод, не откладывая и не затягивая. Развод, однако, тогда так и не понадобился: Наташу благополучно засекретили и вскоре уволили, придравшись к пустякам: дескать, не закрыла форточку, уходя с работы; а в Рязанском сельхозинституте, куда она устроилась с 1 сентября 1949 года, режима секретности не было.
Но отравная мысль о неизбежности развода продолжала мучить Саню, и теперь он сам, с трудом подбирая слова, писал жене, что не имеет права бросать на неё тень, ни единого пятнышка; просил закончить начатый развод и предлагал вообще отказаться от переписки, «этой иллюзии давно не существующих семейных отношений». Но потом сам ужасался написанному. И бурно радовался, что покаего предложение отвергнуто: «Рассудок говорит, что лучше бы ты последовала моему совету, а сердце в страхе сжимается – неужели так и будет?» До конца шарашки у них случилось всего только два свидания – в Лефортово 29 мая 1949-го, и в Бутырках 19 марта 1950-го, и второе тоже было болезненно омрачено. «Саня сказал, что жалеет, что у нас с ним нет детей. Я погрустнела и сказала, что, вероятно, поздно об этом думать…» А Саня, в пятую годовщину смерти матери, мрачно констатировал: «Хорошо, что она не прожила ещё года – горько было бы ей умирать. Хотя, должно быть, умирать никогда не сладко».
В том же 1950-м чувство угрюмой безнадёжности найдёт естественный выход. «Отречением» назовет Солженицын своё горестное стихотворение о том дне, когда из уст жены впервые прозвучало слово «развод». «День второй в себя не приду. / Я – мужик, а рыданьями горло сжало. / Вот она – на каком году / Эта весть меня ожидала…» Лагерные стихи, начатые в 46-м, высвободили замерший, онемевший дар, стихия сочинительства дала силы преодолеть кризис надвигающегося одиночества; шарашка дарила уникальный опыт познания характеров, мировоззрений, судеб. Бок о бок с Солженицыным делили тяготы заключения десятки ярчайших фигур: каждая была достойна отдельного повествования, стоило лишь обратить внимание, вглядеться, расспросить, выслушать, проникнуться, запомнить…
Но прежде чем драматические истории обитателей шарашки попадут под перо Солженицына-романиста, он обязан будет отработать собственные долагерные сюжеты: в Марфино его взгляд на прожитые годы постепенно обретал новые краски. В 1947-м начал сочинять поэму: «Дороженька» создавалась устно, записанные отрывки в 20 – 30 строк выучивались и затем сжигались. «Солженицын писал большую автобиографическую поэму-повесть о том, как он вдвоём с другом плыл на лодке по Волге от Ярославля до Астрахани. (Саня читал Мите и Льву “Мальчиков с Луны” – Л. С.). Мне тогда нравились его стихи, по-некрасовски обстоятельные, живописные», – вспоминал Копелев. В 1948-м прозаическая повесть «Люби революцию» продолжила историю Глеба Нержина, начиная с первого дня войны и проводов друзей на фронт…
А старые друзья были легки на помине. Той же весной из далекого воркутинского лагеря сюда привезли Виткевича. «Опер спрашивал его и меня (видя по документам, что мы однодельцы), не будет ли конфликта. Я говорю: нет, не будет. И мы с ним обнялись, поговорили, легли рядом, и потом целых два года лежали рядом. Койки наши были рядом. Один одессит говорил: братья Солженицкеры. Прежняя дружба восстановилась». Точно так же запомнился этот эпизод и Копелеву. «Тюремный кум вызвал Солженицына и сказал, что скоро на объект привезут его “подельника” Виткевича, и предупредил: “Вам нужно будет вести себя особенно аккуратно”. Рассказывая об этом, Саня был очень встревожен: не провокация ли?.. Не собираются ли наматывать новое дело?.. Когда Кока приехал, первые день-два они все свободные часы были вдвоём, сосредоточенно, серьёзно толковали. Митя и я старались, чтоб им никто не мешал. Солженицын даже сменил свою нижнюю койку на верхнюю, чтобы оказаться рядом с другом» [40]
[Закрыть].
Копелев же писал о Сане как о самом близком на шарашке человеке. «Он лучше всех вокруг понимал меня, серьёзно и доброжелательно относился к моим занятиям, помогал работать и думать, дельно использовал мои “открытия” в ходе артикуляционных испытаний и толково их обобщал. Он убедительнее всех подтверждал смысл моего существования. И очень по душе мне пришёлся. Сильный, пытливый разум, проницательный и всегда предельно целеустремлённый. Именно предельно. Иногда я сердился на то, что он не хочет отвлечься, прочитать “незапланированную” книгу или поговорить не на ту тему, которую заранее наметил. Но меня и восхищала неколебимая сосредоточенность воли, напряжённой струнно туго. А, расслабляясь, он бывал так неподдельно сердечен, обаятелен…»
Та самая неколебимая устремлённость воли, которую так ценил в младшем друге Копелев, остро проявилась поздней осенью 1949 года, когда Лев Зиновьевич, внезапно вызванный к начальству, получил сверхсекретное задание и стал научным руководителем «Лаборатории № 1», за работу которой отвечал головой. Опознать и идентифицировать голос анонима, звонившего в американское посольство и выдавшего государственную тайну, то есть изобличить предателя родины – такова была правительственная задача. В распоряжение Копелева поступила магнитофонная пленка с ключевыми фразами: советский разведчик Коваль вылетает в Нью-Йорк; должен встретиться с американским профессором в радиомагазине; тот даст ему новые данные об атомной бомбе; Коваль вылетает сегодня. Копелев подписал бумагу о неразглашении и строжайшей ответственности «во внесудебном порядке», но в тот же день рассказал другу об оперативном задании.
Через тридцать лет Солженицын с изумлением прочитает в западной печати, будто это он, автор «Архипелага», «не спал ночами, чтобы поймать врага народа, торгующего с атомной Америкой». «Я, – ответит он, – не только ни минуты не состоял в их строго-секретной группе – но от первого рассказа Льва об этом тайном случае отшатнулся, отверг его щедрое предложение – при успехе группы в будущем в неё войти. Я только страстно ловил от Копелева – ещё, ещё подробностей об этом случае, ибо в тот же миг (а не годы спустя) с трепетом ощутил – какой это будет выдающийся литературный сюжет!»
Те три дня декабря 1949 года, которые Солженицын, предельно уплотняя время, опишет в романе о марфинской шарашке всего через пять лет после событий, начнутся невероятным звонком дипломата Володина (Иванова) и дадут точный ответ, ктó не спал ночами, чтобы изобличить предателя. «Перемочь болезнь, слабость, нежелание – и завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для России» – горит яростью Рубин после жестокой схватки с идейным антагонистом Сологдиным. «Не давать шифратора этой своре» – решает Сологдин после ночного спора с Рубиным. Но категорическое решение принимает именно Рубин. «Ему прояснялся единственный сокрушительный удар, который он мог нанести Сологдину и всей их своре. Ничем другим их не проймёшь, меднолобых! Никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав! Атомную бомбу! – вот это одно они поймут!» А что же Нержин? «Бомбу надо морально изолировать, а не воровать, – заявляет он Рубину, принципиально отказываясь от совместной ловли анонима. – Оставьте мне простору, не загоняйте на баррикады». И свидетельствовал Панин: «Солженицын изобразил самого себя исключительно правдиво и точно в главном персонаже романа – Глебе Нержине».
А Копелев успешно справился с заданием, идентифицировал анонима и вскоре приготовил вопросник (включавший слова с магнитофонной записи) для следователя, проводившего допрос арестованного дипломата. Тот нудно отпирался, этот, как положено, давил и жал… Копелев не скрывал, что отчёт о сличении голоса, звонившего в американское посольство, с голосом дипломата, занял два толстых тома и был подписан начальником института, начальником лаборатории и им самим, Копелевым, старшим научным сотрудником, кандидатом филологических наук, но всё ещё з/к…
Только через десятилетие поймёт Копелев-Рубин точку зрения своих тогдашних оппонентов на границы патриотизма: атомная бомба нужна России, но как же страшно, когда сверхоружием завладеет тиран-параноик. «От старых идолов и старых идеалов я освобождался медленно, трудно и непоследовательно… Было мучительно стыдно признать, что нашим кумиром стал просто ловкий негодяй, бессовестный, жестокий властолюбец, типологически подобный блатным “паханам”, которых мы встречали в тюрьмах и лагерях (Панин, Солженицын и некоторые другие мои приятели-зэки поняли это значительно раньше меня)».
К осени 1949-го шарашка исчерпала для Солженицына свой ресурс, и он перестал держаться за её блага. «Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядника с Красной Пресни – “не попасть на общие любой ценой”. Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке. Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть». Когда зимой 1950-го Солженицына вознамерились перевести в криптографическую группу, то есть погрузить в невылазную работу и безраздельно завладеть его временем, он уже не был рабом своего испуганного тела. «Все доводы разума – да, я согласен, гражданин начальник! Все доводы сердца – отойди от меня, сатана!»
Как следует из романа, Нержину-математику удаётся на шарашке составить серьёзную трехтомную монографию. Копелев утверждал, что Солженицын создал в Марфино нечто и впрямь небывалое – научно обоснованную теорию и практическую методику артикуляционных испытаний. «Он стал отличным командиром артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто видел его работу и мог здраво судить о ней. Это сознавал и он сам и вовсе не хотел переключаться на унылую математическую подёнщину рядовым».
Солженицын скажет о своём решении проще: «Очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму». Так, оставив математику ради литературы, он был списан с шарашки и вызван «с вещами». Несомненно, он был благодарен третьему острову и как з/к, получивший передышку, и как писатель. Именно здесь появился на свет артиллерист-фронтовик Глеб Нержин, арестант призыва сорок пятого года, который на своём просторном рабочем столе, между казенной бутафорией («застывший ураган исследовательской мысли») прятал нематематические записи – первые итоги зрелых размышлений о русской революции. В момент решающего выбора между спасительной математикой и смертоносной историей, Нержин скажет себе: «Милое благополучие! Зачем – ты, если ничего, кроме тебя?..» – и выберет лагерную тачку.
Но прежде Нержина этот выбор сделает Солженицын: в предвидении скорого этапа и генерального шмонавсё сочиненное (и обречённое огню) он карандашно уложит в два невнятных листика с дикой разноязыкой смесью сокращённых слов, и листики те изомнёт, «как мнут бумагу для её непрямого назначения». Так закончится шарашка для Солженицына, и Нержин, герой поэмы, повести, двух пьес и большого романа, будет след в след осваивать детскую, юношескую, военную и лагерную биографию автора. Произведения с автобиографическим персонажем исторически достоверно зафиксируют этапы и вехи зэка-героя и зэка-автора, «людей бездны».
Вместе с Солженицыным из Марфино уходил и Панин – в отличие от Сологдина, прототип, по его собственному признанию, не стремился оставаться на шарашке: «демонстративно не желал работать, задания всячески затягивал и сдавал только после нескольких напоминаний, часто огрызался, вечером иногда не выходил на работу». Весной 1950-го Панин неоднократно изъявлял желание убирать двор, и Солженицын дважды к нему присоединялся. «Никто из инженеров, дорожащих своим положением, о таком времяпрепровождении не смел и помыслить».
«19 мая мы мирно беседовали, сгребая листья…»
Свои конспекты по Далю, по истории и философии [41]
[Закрыть]Солженицын оставил Копелеву. «Все конспекты уцелели и вернулись к нему», – писал Л. З. Это удалось благодаря Гумеру Ахатовичу Измайлову, осуждённому за «плен» на десять лет, досрочно освобождённому и ставшему в Марфино вольнонаёмным. Именно он вынес и передал родным Копелева конспекты Солженицына и архив Льва Зиновьевича. Другую часть архива А. И. взяла к себе сотрудница Марфинского НИИ Анна Васильевна Исаева (в романе лейтенант МГБ Серафима Витальевна беззаветно влюблена в зэка Нержина). «Под страхом кары МГБ и уголовного кодекса, – пишет Солженицын в “Телёнке”, – она приняла от меня, сохранила 7 лет – и вернула мне в 1956 году мою рукопись “Люби революцию” (без того не собрался б её возобновить) и многочисленные блокнотики далевских выписок, так ценные для меня. Спасибо ей сердечное».
Солженицын вспоминал (2001): «Я знал, что она живет в бывшей церкви на Большой Серпуховской. И когда летом 1956-го я приехал в Москву, пошёл её искать. Нашёл церковь, посмотрел список жильцов, увидел фамилию “Исаева”, постучал. Она вышла в большом смущении (у неё был гость), потом вернулась и принесла тетрадки. В романе Нержин не оставляет Симочке архив – не мог же я дать на неё наводку! А на самом деле свои бумаги я Анечке оставил».
Глава 4. Вдоль по каторге. Поэзия каменной кладки
Заключённый категории 58-10, который претерпел Лубянку, троекратные Бутырки, два лагеря, три шарашки и которому нужно мотатьещё полсрока, – уже не новобранец, а уверенный, бронированныйзэк. Даже пребывая в лучшем из островов ГУЛАГа, он не застрахован, что в какой-то не самый удачный день к нему подойдёт сменный надзиратель и рявкнет (или пробубнит): «С вещами!» Но даже и такой зэк не знает, когдасвалится на него новость – этап всегда всех застаёт врасплох.
Но этап этапу рознь. Переезды из Бутырок в Рыбинск, из Рыбинска в Загорск, из Загорска в Марфино тоже были этапами, но они лишь улучшали качество отбывания срока. А этап из лагеря на Калужской заставе в Рыбинскую шарашку вообще был равносилен попаданию из почти адав почти рай.
Та стратегия поведения, которую стал практиковать Солженицын ближе к осени 1949 года, освобождаясь от математики (дважды за пятилетие спасшей ему жизнь), не могла рассчитывать на место, лучшее, чем Марфино: здешняя шарага было научно-техническим потолком для зэка-спеца. С точки зрения здравого смысла, инстинкта выживания и той самой боязни этапа, которая сжимает сердце каждого з/к, следовало держаться за Марфино всеми силами и средствами: ведь в 1949-м никто и мечтать не мог о близкой смерти вождя, аресте Берия, расстреле Абакумова и тому подобных нечаянных радостях. Рассудительные люди, выбрали для себя именно этот путь – остаться и работать на секретную телефонию до конца срока. Так поступили Копелев, Виткевич и многие другие насельники полукруглой комнаты церковного надалтарья.
Но Солженицын добровольновыбирает этап: лишая себя первого круга, уходит на адское дно, – и в этом великая загадка его судьбы. Не егоизгоняют из Рая, как некогда Господь изгнал непослушного Адама, обрекая Своё творение на земные тяготы, удел смертных. К тому же Адам, нарушив правила пребывания в райском саду, не знал, какой этапего ждёт, не ведал, что такое прóклятая Богом земля, не сознавал, что такое смерть, ибо никогда ещё её не видел, а если б знал, ведал и видел, так, может, и не ослушался бы.
Солженицын знал, чтó его ждёт за забором Эдема. Он слышал о медных рудниках Джезказгана и смертельных лесоповалах; напробовался баланды, нанюхался параши, навидался уголовной шпаны в тюремных и лагерных бараках. И всё же захотел вырваться из сытого почти раяна произвол гулажьей доли. «Разменивая уже второй год срока, я всё ещё не понимал перста судьбы, на что он показывал мне, швырнутому на Архипелаг, – писал Солженицын, вспоминая лето 1946 года, Калужскую заставу. – Внутреннее развитие к общим работам не давалось мне легко».
Однако шестой год срока имел совсем другую оптику, иное понимание свободы. Перст судьбы указывал поверх Марфинского забора, прочь от секретной телефонии, сулившей тюремщикам новые преимущества над узниками. Выбор Солженицына – не участвовать в поимке шпиона, не включаться в математическую каторгу ради укрепления режима, – имел свою логику, равно, как и поведенческая стратегия Копелева, убеждённого коммуниста, считавшего, что сталинская система «в корне» справедлива, ибо «закономерна». По Копелеву, создавая фоноскопию, он трудился для страны против её врагов: позиция ясная, простая, этически удобная и в первом приближении – патриотическая. Однако такой патриотизм не озабочен рефлексией – не думает, например, об ответственностиучёного за судьбу своего открытия. Безответственныйпатриотизм близорук и непрозорлив – мысль о том, в чьи руки может попасть сверхмощное оружие и с какой целью оно может быть использовано, не приходит ему на ум. Резонное опасение – не покроет ли всю Европу (а то и весь мир) колючая проволока ГУЛАГа в случае, если режим монопольно завладеет атомной бомбой, – не тревожит воображение такого патриота.
Но как раз в сороковые годы, пока Солженицын воевал, а потом сидел в тюрьмах и лагерях, миру стали известны другие примеры. Саня оканчивал училище в Костроме, 2 ноября 1942 года курсантам был зачитан приказ о выпуске, а ровно через месяц, 2 декабря, на другом конце планеты была впервые произведена цепная реакция, высвободившая ядерную энергию и положившая начало атомной эре.
Мировая война была в разгаре, но немецкие физики почему-то не торопились вооружить Гитлера атомной бомбой. Когда в апреле 1945-го Отто Ган, Вернер Гейзенберг, Макс фон Лауэ оказались в плену у американцев, выяснилось, что эти учёные всячески тормозили разработку ядерной бомбы, остужая рвение преданных нацизму коллег. Почему они не спешили дать вождю третьего рейха сверхмощное оружие? Потому что они были ответственными людьми и понимали, чтó может сделать с человечеством их фюрер, получи он в ходе войны атомное оружие. Поистине, это был заговор физиков против фашизма!
В надежде опередить физиков фюрера в августе 1942-го стартовал американский «Манхэттенский проект» – тогда была ещё неясна судьба германского «уранового проекта». Альберт Эйнштейн, «отец физики», в 1933-м изгнанный фашистами из Германии, в августе 1939-го подписал письмо президенту Рузвельту с пожеланием «установить постоянный контакт между правительством и группой физиков, ведущих исследования над цепной реакцией в Америке». Однако после войны Эйнштейн заявил: «Если бы я знал, что немцам не удастся достичь успеха в создании атомной бомбы, я бы никогда и пальцем не шевельнул». Он просил президента заморозить разработку атомной бомбы за её ненадобностью. Но Рузвельт умер, а новый президент был настроен иначе. Американской военной машине не терпелось испытать бомбу на «живых объектах».
Солженицын, переведённый из Лубянки в Бутырки, только-только выслушал приговор и ждал этапа, когда в августе (6-го и 9-го) американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Эйнштейн был потрясён: не империя Гитлера, а цитадель демократии первой пустила в ход оружие массового поражения: «Не следует забывать, что атомные бомбы были сделаны в США в качестве предупредительной меры против применения атомного оружия (в случае его создания) немцами. А сейчас мы перенесли к себе и хорошо освоили недостойные приёмы наших врагов в последней войне». В атомном пламени над Японией европейские ученые с ужасом увидели плоды своих трудов и своих научных побед. Читая в газетах описания чудовищных разрушений в Хиросиме, учёные в Лос-Аламосе, где под руководством Роберта Оппенгеймера и Энрико Ферми осуществлялся «манхэттенский проект», задавали себе вопрос: могут ли они сложить с себя ответственность за эти бедствия и взвалить её на военное командование? «Многим хотелось куда-то спрятаться, – вспоминала Лаура Ферми, жена учёного, – или бежать от всего этого. Громкие обвиняющие голоса раздавались во многих странах мира, и это заставляло учёных ещё больше терзаться угрызениями совести. В католической Италии папа вынес осуждение новому оружию».
Учёные Лос-Аламоса испытывали чувство вины, одни сильнее, другие слабее, но это чувство было общим для всех. Иные из физиков приходили к заключению, что следовало прекратить работы, как только стало ясно, что бомба осуществима. Были ли эти физики патриотами США, страны, укрывшей их от нацизма? Были ли непатриотичными терзания учёных, опасавшихся, что сила атома, выпущенная на волю, зависит отныне от нелепой случайности или от власти злой силы? «Сначала было страшно, что бомбу сделают немцы, теперь страшно, что её сделали мы». «В тот момент, когда атомная бомба была использована против населения Хиросимы, меня лично, – говорил один из соратников Ферми Бруно Понтекорво, – как и некоторых других ученых в стране, поставившей своей целью только производство атомного оружия, начала тяготить работа физика. Я начал стыдиться своей профессии».
Именно поэтому многие физики Европы и Америки на свой страх и риск стали сотрудничать с советской разведкой – после Хиросимы оставлять США (и кому угодно другому) монополию на атомное оружие было сверхопасно. Они не были предателями и не сочувствовали Сталину, но понимали, что наличие бомбы у СССР лишит США возможности применить её снова на «живом объекте» [42]
[Закрыть].
Когда советский атомный проект вступил в завершающую стадию, датский физик Нильс Бор дал советской разведке стратегическую информацию о том, какой тип бомбы можно быстрее довести до испытания на полигоне. Павел Судоплатов, руководивший прикрытием советского атомного проекта, позже писал: «Наши источники информации и агентура в Англии и США добыли 286 секретных научных документов и закрытых публикаций по атомной энергии. В своих записках в марте – апреле 1943 года Курчатов назвал семь наиболее важных научных центров и 26 специалистов в США, получение информации от которых имело огромное значение. Проверка ФБР в 1948 году установила исчезновение более 1500 страниц из отчётной документации по созданию атомной бомбы в Лос-Аламосе… Мне кажется, что между Бором, Ферми, Оппенгеймером и Сцилардом была неформальная договорённость делиться секретными разработками по атомному оружию с кругом учёных-антифашистов левых убеждений».
В истории атомной бомбы вопросы патриотизма имеют, как видим, две стороны. Немецкие физики «непатриотично» не дали Гитлеру атомную бомбу, учёные Лос-Аламоса «непатриотично» лишили США монополии на сверхоружие. Нет сомнений, что, обладай Сталин подобной монополией, он бы не побрезговал атомной атакой. Потому так «антипатриотично» ведёт себя, при всей спорности поступка, дипломат Иннокентий Володин. Потому сам себя «списал» с райского острова Глеб Нержин. Потому Солженицын и Панин «непатриотично» не желают своими руками и мозгами вооружать Сталина и предпочитают райской шарашке этап в неизвестность. «Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным», – напишет Солженицын жене с дороги. – Я принял известие о своём отъезде совершенно равнодушно, а во все последующие дни испытывал скорее облегчение, чем сожаление».
…Есть зловещее совпадение, которое более всего характеризует логику режима и «атомную» тему в судьбе Солженицына. В тот самый август 1949 года, когда СССР осуществил первый испытательный взрыв своейатомной бомбы, на севере Казахстана был создан Экибастузский лагерь, один из пунктов в системе Особлагов. «Особые лагеря, – пишет Солженицын в “Архипелаге”, – были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий наконец родилось это зрелое совершенство: эта однообразная, пронумерованная, сухочленённая организация, психологически уже изъятая из тела матери-Родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающая только производственные ценности и трупы».