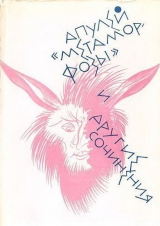
Текст книги "«Метаморфозы» и другие сочинения"
Автор книги: Луций Апулей
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
61. Вот и еще одно обвинение, которое они мне тут предъявили, огласив записку Пудентиллы: будто я заказал резчику сработать некое малое изображение, а понадобилось-де мне оно злонамеренного ради чародейства, а сработано-де тайно и из дерева весьма редкой и дорогой породы, и хотя с виду-де похоже на гнусный истлевший труп,90 но я-де обихаживаю его с превеликим почтением и именую его греческим словом «царь». Если я не ошибаюсь, я пересказываю их слова точь-в-точь, – а теперь я по ниточке расплету всю ткань этой хитросплетенной их клеветы.
Вы говорите, что изображение было сработано тайно; но как это может быть правдою, ежели вы настолько хорошо знакомы с резчиком, что потребовали его личного присутствия при дознании? Итак, здесь присутствует Корнелий Сатурнин, ремеслом резчик, средь сотоварищей искусством славный и столь же заведомо добронравный. Ты сам, Максим, только что обо всем подробно его расспросил, а он честно и откровенно со всею точностью рассказал тебе, как обстояло дело. Случилось так, что я увидел у него множество геометрических пособий, весьма умело сработанных из самшита, и, восхищенный рукодельным его искусством, попросил изготовить мне кое-что по механической части, а заодно изобразить какого-нибудь бога, какого сам пожелает, но которому я, по неизменной моей привычке, непременно стану молиться, и пусть кумир будет из древесины, а из какой именно – это мне безразлично. Вот Сатурнин и начал было резать по тому же самшиту, а я между тем отправился в загородное поместье – и тут пасынок мой Сициний Понтиан вознамерился порадовать меня подарком. Он принес резчику ларец черного дерева, который выпросил у Капитолины – женщины наичестнейшей! – и уговорил его употребить для работы эту более редкую и более твердую древесину, ибо такой-де подарок мне будет особливо приятен. Эту-то работу резчик и исполнил, насколько достало ему древесины от ларца, так что из разъятых на мелкие щепки дощечек удалось ему сложить и собрать маленького Меркурия. Повторяю, все это ты уже слышал. Кроме того, ты слышал от здесь присутствующего сына Капитолины, вполне добропорядочного юноши, точно такой же ответ на твой вопрос – что Понтиан действительно выпросил помянутый ларец и отнес его к резчику Сатурнину. Никто не отрицает также и того, что Понтиан получил от Сатурнина совершенно готовое изображение, а уж после того вручил его мне в подарок. Ежели все это всем ясно и еще доказано со всяческой очевидностью, то что же тут вообще остается, где тут место хоть малейшему подозрению в чародействе? Скажу больше: то, что остается, не уличает ли вас самих в неприкрытой лжи? Ведь вы утверждаете, будто тайком было изготовлено то, о чем явил попечение свое Понтиан – безупречный обладатель всаднического сана! то, что у всех на глазах строгал и резал, сидя в лавке своей, Сатурнин – почтенный муж, известный и уважаемый! то, чему помогла подарком своим достославная мать семейства! то, о чем знали заранее и о чем знали по окончании работы многие из челяди да и многие навещавшие меня друзья! А вы не постыдились солгать, будто я-де просто по всему городу отыскивал нужное для дела полено – да по какому же городу? Вы же отлично знаете, что меня в ту пору и вовсе в городе не было и что я, как явствует из свидетельских показаний, поручил резчику выбирать древесину по собственному его вкусу.
63. Третья ваша ложь в том, что сработанное изображение якобы имело мерзкий вид то ли иссохшего, то ли вовсе истлевшего трупа – одним словом, было вроде жуткой преисподней нежити. Уж если вам доподлинно известно, что изображение это – улика чародейства, то почему вы не потребовали от меня предъявить его? Не потому ли, что врать об отсутствующем предмете вам гораздо проще и сподручнее? Однако же сейчас из-за одной счастливой для меня привычки вы лишитесь возможности клеветать далее. А у меня и вправду вошло в привычку, куда бы я ни шел, прихватывать с собою, кроме книжек, еще и изображение какого-нибудь бога, чтобы по праздникам ублажать его ладаном, вином, а то и жертвою. Итак, едва я услыхал все эти лживые и бесстыжие разглагольствования о трупах, я мигом послал человека сбегать в здешнюю гостиницу и принести этого вот маленького Меркурия, которого сделал для меня в Эе помянутый Сатурнин. Давай-ка его сюда – пусть на него поглядят, пусть его пощупают, пусть хорошенько его рассмотрят! Вот вам тот, кого этот гнусный скелет обзывал гнусным скелетом! Слышите, какие гневные крики доносятся со всех сторон? Слышите, какие гремят проклятия вашей клевете? Неужто вам не стыдно за всю вашу ложь? Неужто вот это и есть труп, преисподняя нежить, неужто это и есть ваш так называемый демоний? Что же это за изображение, чародейное или самое обыкновенное? Максим, прошу тебя: возьми и погляди сам – твоим чистым и благочестным рукам по праву можно вверить всякую святыню! Ты только взгляни, сколь миловиден сей бог ликом, сколь напоен свежею силою ристалищ, сколь весела его улыбка! А как красив этот пушок на нежных ланитах, как чудно вьются кудри из-под широкополой шляпы, чуть затеняющей лицо, как хороши эти равно взнесенные над висками крылышки, как наряден наброшенный на плечи плащ! Да тот, кто смеет равнять такую лепоту с трупным обличьем, то ли никогда не видывал изображений богов, то ли не хочет их чтить; ну, а кто твердит, что это-де нежить, тот сам и есть сущая нежить! 64. Пусть же за клевету твою, Эмилиан, сей дивный посредник между богами горними и богами дольними91 обрушит на тебя ненависть небес и преисподнюю злобу! пусть вечно преграждают тебе дорогу лики мертвецов, и сонмы теней, и лемуры, и маны,92 и вся нежить, сколько ее ни есть! пусть застят тебе глаза все ночные страхи, и все могильные ужасы, и все гробовые чудища, от коих ты, впрочем, и без того недалек, ежели вспомнить лета твои и заслуги!
Не то мы, наследники Платоновы, – не ведаем мы ничего, кроме радости, и веселья, и праздника, и святости небесной. Воистину, в устремленности своей к высоте воспарило учение сие даже над высотами небесными и воздвиглось на горней вершине мира у самого предела его. Максим знает, что я говорю правду, ибо со вниманием прочитал, как сказано в «Федре»,93 об «области занебесной» и о «горнем хребте неба». Чтобы ответить вам заодно и об имени изображения, скажу, что, как отлично известно тому же Максиму, не я первый употребил сие имя, но возвестил о «царе» опять-таки Платон, поминающий «о царе всего сущего,94 который есть всё и ради которого суть всё» – и кто бы ни был сей царь, он есть первооснова всех вещей, первопричина природы, первоначало сущего, вышний прародитель духа, присноспаситель всякой живой твари, неустанный созидатель прилежащего ему мира, но созидающий без труда и спасающий без попечения и рождающий без семени – чуждый времени, чуждый месту, чуждый перемене, постижимый для немногих, неизреченный для всех. Вот так я сам же и даю пищу подозрению в чародействе: я не отвечаю тебе, Эмилиан, какого царя чту, и, право же, спроси меня о боге моем хоть проконсул, я бы и тогда промолчал!
65. Итак, об имени я сказал достаточно, однако же остается объяснить еще одно: насколько мне известно, кое-кто здесь жаждет услышать, почему я пожелал заказать изображение не золотое и не серебряное, но непременно деревянное. Не сомневаюсь, что они так ждут ответа не столько чтобы простить меня, сколько чтобы понять дело до конца, разрешив и это недоразумение – потому что все остальные подозрения в злодействе опровергнуты воочию и полностью. Что ж, ежели кто озабочен узнать еще и это – слушай, да только слушай сколь возможно внимательно и усердно, словно собрался слушать, как старец Платон самолично читает тебе из последней книги «Законов» такие слова:95
«А что до приношений богам, то скромному гражданину прилично и дары приносить скромные; а земля и домашний очаг пусть будут у всех посвящены всем богам; а по второму разу пусть никто жертв богам не приносит».
Тем самым он воспрещает кому бы то ни было устраивать домашние капища, полагая, что гражданам для заклания жертв довольно общегосударственных храмов. К сему он присовокупляет нижеследующее: «В иных городах золото и серебро находятся в частном владении и так в храмах становятся внушающим зависть приобретением. Тоже и слоновая кость, добытая от покинутого душою тела, – дар неблаголепный, равно и железо и медь, кои суть орудия войны; зато всякому пристало поднести дар, сработанный из дерева, но только из сплошного дерева, или же из камня, – сие безразлично.» Мне кажется, Максим, и вы, заседатели совета, что слышные со всех сторон возгласы одобрения довольно обнаруживают, как разумно я пользуюсь Платоном, который и в жизни меня наставляет, и в суде защищает и законам которого я, как сами видите, прилежно покорствую.
66. А теперь пора обратиться к письмам Пудентиллы или, пожалуй, прежде вспомнить по порядку96 кое-какие более ранние события, дабы всем стало наконец совершенно ясно, что я, якобы втершийся в дом Пудентиллы с корыстными намерениями, должен был бы бегом бежать из этого дома, будь у меня на уме хоть какая-то корысть. Действительно, пользы мне от этого брака весьма немного, а если бы супруга моя добродетелями своими не возмещала всех его неудобств, то был бы даже и вред. Право, тут не отыскать другой причины обвинения, кроме тщетной и злобной зависти, – из-за нее меня сейчас судят, из-за нее же раньше и самая моя жизнь подвергалась многим опасностям! Неужто у Эмилиана могли быть иные побуждения, даже если бы он на деле убедился, что я – заправский чародей? Я не только ни единым поступком, но ни единым словечком никак и никогда его не обидел – возможно ли вообразить, будто он вознамерился мне хоть за что-то мстить? Опять же и не ради славы он меня обвиняет, как обвинял Марк Антоний Гнея Карбона, или Гай Муций – Авла Альбуция, или Публий Сульпиций – Гнея Норбана, или Гай Фурий – Марка Аквилия, или Гай Курион – Квинта Метелла.97 То были ученейшие молодые люди, и этот свой пробный шаг при вступлении на государственное поприще они делали ради славы, чтобы какой-нибудь приметной тяжбою стяжать известность среди сограждан. Давно уже сошел на нет и старый обычай, предписывавший юношам для начала явить пред всеми цвет витийственного своего дара; но даже если бы этот обычай был и теперь в ходу, то Эмилиан от следования ему весьма далек, – не пристало неучу и невеже хвастаться красноречием, не пристало дикарю и деревенщине искать славы, не пристало пристраиваться в стряпчие полудохлому старику! Что ж остается? Предположить, что Эмилиан, по строгости своей и возмущенный злодействами моими, решился подать пример всем прочим и затеял свое обвинение ради соблюдения нравов – да будут безущербны? Я вряд ли поверил бы такому, даже если бы речь шла не об этом Эмилиане, а о том, древнем,98 не о жителе, а о сокрушителе Африки, о победителе Нуманции и законоблюстителе Рима; а касательно этого вот болвана я нипочем не поверю, будто он способен не то что возненавидеть – куда там! – а хотя бы только распознать порок. 67. Что же из этого следует? А то, что яснее дня: зависть, и только зависть подстрекнула и его самого, и суетливого его помощника Геренния Руфина, о котором я вскоре скажу, да и всех прочих моих врагов, – только злая зависть подстрекнула их облыжно оговорить меня в чародействе.
Итак, имеется пять обстоятельств, которые мне надобно разъяснить, ибо – насколько я помню – их обвинение касательно Пудентиллы основывалось именно на пяти утверждениях. Вот они. Во-первых, после смерти первого мужа она отнюдь не пожелала снова вступать в брак, но была-де принуждена к тому моим колдовством. Во-вторых, они полагают, что ее письма служат доказательством моего чародейства. Отсюда следует третье и четвертое: что на шестидесятом году она вышла замуж любострастия ради и что брачное соглашение было подписано в поместье, а не в городе. Наконец, последнее и самое завистливое обвинение – касательно приданого: тут они изрыгнули весь свой яд, ибо тут-то и была их главная досада. А именно они утверждают, будто я еще в самом начале нашего союза выманил у любящей моей супруги огромное приданое,99 удалив для того всех свидетелей и уединившись с нею в сельской усадьбе. Все эти обвинения столь лживы, столь ничтожны и столь безосновательны, и поэтому опровергну я их столь легко и бесспорно, что – вот как бог свят! – почти опасаюсь, как бы ты, Максим, и вы, заседатели совета, не подумали, будто я сам же нанял и подослал обвинителя, дабы иметь удобный случай принародно окоротить всех моих завистников. Поверьте же мне в том, что и так станет очевидно, а я изо всех сил постараюсь, чтобы вы не порешили, будто столь пустопорожнее обвинение – скорее моя лукавая выдумка, а вовсе не глупая затея вот этих дурней.
68. Теперь, покуда я буду вкратце рассказывать о событиях по порядку, с тем чтобы сам Эмилиан по рассмотрении дела был вынужден признаться, что неправ был в зависти ко мне и что весьма далеко уклонился от истины, вы тем временем вникните – очень вас прошу! – вникните с прежним, а ежели возможно, то и с большим вниманием в действительный повод и действительное основание сегодняшнего судебного прения.
Итак, Эмилия Пудентилла, которая ныне моя жена, родила от некоего Сициния Амика, с коим ранее состояла в браке, двух сыновей – Понтиана и Пудента. Амик умер при живом отце, сироты оставались под властью деда, и почти четырнадцать лет Пудентилла с достопамятным благонравием усердно воспитывала их, хотя столь долгое вдовство в столь цветущем возрасте было ей не в радость. Однако же дед мальчиков вопреки ее желанию старался свести ее с другим своим сыном – Сицинием Кларом и потому гнал всех прочих женихов, да еще и грозил, что ежели выйдет она за чужого, то он не завещает ее сыновьям ничего из отеческого их имения. Отлично понимая непреложность такового условия, благоразумная и отменно благочестивая женщина решила избавить сыновей от неизбежных в противном случае убытков и заключила брачное соглашение с кем было велено, то есть с Сицинием Кларом, но с помощью всяческих ухищрений откладывала свадьбу, покуда наконец не опочил дед мальчиков, назначивший их своими наследниками – причем с таким условием, чтобы старший годами Понтиан соделался опекуном брату. 69. Едва Пудентилла избавилась от помянутой докуки, к ней стали свататься первейшие из граждан, а она для себя рассудила больше не вдоветь, ибо ежели и могла еще стерпеть постылое одиночество, то долее мучиться телесным нездоровьем уже была не в силах. Женщина святого целомудрия, она прожила все эти вдовьи годы беспорочно, не подав ни единого повода к сплетне, однако же так долго воздерживалась от супружеской жизни и потому так ослабела от недвижности утробы, что чадородное чрево ее пришло в расстройство и она часто оказывалась у самого края погибели, изнуряемая непомерными страданиями. Врачи совместно с повитухами объявили, что причина болезни – отсутствие супружеских сношений, что с каждым днем недуг возрастает и приносит все более вреда, а потому, покуда дозволяют лета, надлежит поправить здоровье замужеством. Таковое решение одобрили все, а пуще всех вот этот самый Эмилиан, который только что без зазрения совести лгал, настойчиво твердя, будто Пудентилла вовсе и не помышляла о замужестве, покуда не была принуждена к оному злонамеренным моим чародейством, и будто только я один и осмелился с помощью заклинаний моих и зелий посягнуть на ее вдовство – ну прямо-таки словно растлить девственность. Не раз доводилось мне слышать, что лжецу надобно быть памятливым – метко сказано! А вот тебе, Эмилиан, не вспомнилось, что еще до моего появления в Эе ты сам же написал сыну Пудентиллы Понтиану, уже взрослому и жившему тогда в Риме, чтобы она выходила замуж. Дай-ка сюда письмо, письмоводитель, а лучше вручи его самому писавшему: пусть прочитает и пусть уличит себя собственным голосом и собственными словами. Вот это и есть твое письмо, верно? Почему же ты побледнел? Да, конечно, – краснеть ты просто не умеешь! Вот эта подпись твоя, не так ли? Читай, письмоводитель, – и я прошу тебя читать погромче, чтобы все поняли, в каком разладе у него язык с рукою и насколько наш с ним раздор меньше, чем его раздор с самим собою! (Оглашается письмо).
70. Ну как, Эмилиан, разве не ты написал то, что сейчас прочитано? «Я знаю, что она хочет и должна выйти замуж, но не знаю, кого она изберет». Тут ты прав: ты действительно этого не знал, ибо Пудентилла успела вполне понять твою ко мне злобную враждебность, а потому известила тебя только о предстоящем браке, но не стала называть жениха. Ты же по-прежнему полагал, что она собирается за брата твоего Клара, и в таковом ложном чаянии побуждал Понтиана дать матери согласие на брак. Значит, если бы она и вправду вышла за Клара – за этого деревенского неуча, за эту старую развалину! – если бы она за него вышла, ты бы говорил, что она-де по доброй воле и безо всякой магии давно уже собиралась замуж, но так как она предпочла человека молодого – да еще такого, каким вы тут меня описываете! – раз так, то ты твердишь, что она действовала по принуждению и что вообще замужество всегда было ей противно. Ты не знал, бесстыжий ты мерзавец, что у меня в руках твое письмо именно об этом деле, ты не знал, что тебя уличит твое же свидетельство! А между тем это письмо, очевидно свидетельствующее о твоих желаниях, Пудентилла выбрасывать не стала и предпочла сохранить, памятуя о том, что ты не только лжив и бесстыден, но ничуть не менее того вздорен и ненадежен. Зато она сама обо всем написала в Рим своему Понтиану и даже подробно объяснила причины своего решения. Речь шла единственно о ее здоровье – что нет уже никакого повода терпеть и терпеть страдания: долгим вдовством и полным пренебрежением к собственному своему благополучию она стяжала для сыновей дедовское наследство и даже приумножила его усердным своим попечением; а теперь-де по божьей воле уже и ему – то есть Понтиану – пора жениться, да и брату его настало время облачиться в приличную ему мужскую тогу,100 а потому-де пусть и ей наконец дозволят не мучиться более одиночеством и болезнью; а с другой стороны, пусть-де ничуть не опасаются лишиться материнской ее любви и не тревожатся о последней ее воле, ибо сколь предана она им была вдовою, столь же предана останется и после замужества. Я велю огласить список этого ее послания к сыну. (Оглашается письмо.)
71. Как я полагаю, из прочитанного совершенно ясно, что отнюдь не моей ворожбою была принуждена Пудентилла не упорствовать долее во вдовстве своем, но что она уже давно и по доброй воле подумывала о замужестве, а меня, вероятно, просто предпочла всем прочим. Почему таковой выбор столь почтенной женщины не делает мне чести, а вменяется в преступление, – этого я никак не понимаю! Зато меня весьма удивляет, почему Эмилиану и Руфину было столь горько это ее решение, в то время как другие, которые и сами прежде к ней сватались, нимало не обеспокоились, что вместо них она избрала меня. Мало того, поступая так, она подчинялась скорее желанию сына, нежели своему собственному, – и этого даже Эмилиан никак не сможет отрицать. Действительно, Понтиан, едва получив от матери письмо, сразу поспешил воротиться из Рима, опасаясь, как бы ей не достался в мужья корыстолюбец и как бы она – а такое часто случается! – не сделала мужа хозяином всего своего имения: по сему поводу он немало печалился и тревожился, ибо все его и братнины надежды разбогатеть зиждились на благосостоянии матери, потому что дед оставил им очень скромное наследство, а у матери имелось четыре миллиона, хотя немалая часть этих денег была взята в долг у сыновей, однако же без всяких расписок и только под честное слово – как и положено между родичами. Впрочем, этого своего опасения Понтиан не высказывал и вступать в открытые споры не осмеливался, чтобы никто не заподозрил, будто он не доверяет родной матери.
72. Вот так дело и колебалось между упорством матери и опасениями сына, когда вдруг – то ли случайно, то ли волею провидения – по пути в Александрию у них объявился я. Ей-богу, стоило бы сказать, что лучше бы мне было и вовсе тут не объявляться! – но нет, почтение к супруге моей не дозволяет мне молвить такое. Стояла зима. Изнуренный тяготами дороги, я довольно долго отлеживался у моих друзей Аппиев:101 они сейчас здесь, и я называю их по имени, дабы лишний раз выразить им любовь и уважение. Понтиан зашел навестить меня, ибо несколькими годами ранее в Афинах познакомился со мною через некоторых общих наших друзей, а потом и сам оказался связан со мною узами тесной приязни. Итак, он принялся всячески мне угождать, всячески заботиться о моем здоровье, всячески стараться, чтобы я его полюбил, а старался он потому, что вообразил, будто нашел наконец для матери своей подходящего мужа, которому можно спокойно вверить все семейное добро – бояться нечего. О намерениях моих он поначалу любопытствовал иносказательными обиняками, но когда понял, что я тороплюсь в дорогу и жениться отнюдь не склонен, стал упрашивать, чтобы я хоть немного помедлил: он-де хочет ехать вместе со мною, а на Сиртах-де102 в разгаре летняя засуха и бродят оголодавшие хищники, так что лучше уж дождаться следующей зимы, раз уж эту я потерял из-за недомогания. Нескончаемыми мольбами он добился от Аппиев, чтобы они дозволили перевезти меня в дом его матери, потому что там-де у меня будет более удобное жилье, да еще и вид на море, столь для меня милый, коим-де прямо из дома я буду любоваться вволю. 73. Так он изо всех сил уговаривал и наконец уговорил меня, а затем препоручил моему попечению мать и брата – вот этого мальчика. В общих наших трудах ему от меня выходила кое-какая выгода, и приязненная наша близость становилась все теснее. Между тем я выздоровел и по настоянию друзей принародно произнес какую-то речь в городском собрании: слушателей набралось превеликое множество, они громко выражали мне свой восторг, все вместе кричали «отлично!» и столь же единогласно требовали, чтобы я навсегда остался с ними и сделался гражданином Эи, – а едва они разошлись, Понтиан воспользовался случаем приступить ко мне с главною своею просьбой. Общий глас народа он истолковал как вещий глас божий и изъяснил мне свой замысел выдать за меня, если я не возражаю, свою мать, к которой-де сватаются очень многие, но он-де доверяет только мне и только на меня готов положиться во всех делах. При этом он твердил, что ежели я откажусь от такого бремени – ведь предлагают-то мне не красотку, а женщину посредственной наружности, да еще и с детьми, – ежели я по этой причине откажусь и в ожидании красоты и богатства останусь до поры холостяком, то поведу себя не как друг и не как философ. Было бы слишком долго припоминать и пересказывать, как я ему возражал, и сколько между нами было нескончаемых препирательств, и сколько он меня просил, и как настойчиво просил и не отступал, покуда наконец не добился своего. Не то чтобы за целый год совместной жизни я не успел приглядеться к Пудентилле – нет! я заметил и оценил, сколь щедро одарена она добродетелями, однако же я с такою страстью жаждал странствий, что женитьба казалась мне в то время докучною помехою. Впрочем, вскорости я и сам захотел вступить в брак со столь достойною женщиною – захотел ничуть не слабей, чем если бы стремился к этому сам и никем не побуждаемый. Тут и Понтиан убедил мать, чтобы она предпочла меня другим искателям, а после принялся с непомерною ретивостью торопить свадьбу, так что мы еле-еле добились от него краткой отсрочки: до тех пор, пока он сам женится, а брат его облачится в мужскую тогу, – тогда уж и мы сочетаемся супружескими узами.
74. Ей-богу, хоть бы можно мне было без великого ущерба для дела умолчать о том, о чем надобно теперь говорить! Хоть бы никому не показалось, будто я сначала совершенно простил Понтиану его поступок, который он так умолял простить, а теперь вот снова укоряю его за легкомыслие! Да, я согласен признать то, что было уликою против меня: действительно, после своей женитьбы он изменил своему же слову, разом отрекся от своих же намерений и принялся с упрямым упорством препятствовать тому, чего прежде добивался со столь же упрямою настойчивостью, – да, он готов был все стерпеть и все свершить, лишь бы помешать нашему браку. Однако же в этой бесчестной перемене собственного решения и в злой ссоре с родною матерью истинным виновником был не он, но да будет сие укором тестю его – вот этому Гереннию Руфину, которого никто во всем свете не сумеет превзойти ни подлостью, ни бесстыдством, ни развратом! Об этом-то человеке я по необходимости сейчас и расскажу со всею возможною сдержанностью и краткостью, а вовсе не сказать о нем нельзя, дабы не пропали все его труды – ведь он никаких сил не жалел, затевая против меня нынешнее обвинение! Да, это он подстрекал против меня мальчишку, это он сочинял ябеду, это он нанимал поверенных, это он оптом скупал свидетелей, это он оттачивал клевету, это он распалял и подстрекал Эмилиана – да и сам он повсюду без удержу бахвалится, что именно благодаря его хитроумной смекалке оказался я под судом. И рукоплещет он сам себе за подобные подвиги не зря, ибо воистину он – главный заводила всякой распри, главный сочинитель всякой лжи, главный построитель всякого обмана, главный сеятель всех пороков; воистину он – сущее вместилище распутства и похоти, сущее блудилище разврата, и чуть ли не с малолетства прославился он повсюду всеми непотребствами, сколько их ни есть! Еще мальчишкою – в те давние времена, когда не безобразила его эта вот плешь, – он дозволял сквернить себя всем, кому угодно было его обабить; а потом, уже в юности, плясал на подмостках103 – говорят, плясун он был вялый и неуклюжий, однако же грубого любострастия неумелой его пляске хватало: ежели и было в нем что от лицедея, так это бесстыдство. 75. Даже теперь, когда он стар – да накажут его боги, ибо придется оскорбить ваш слух! – даже теперь весь его дом остается притоном сводника, и все семейство его запятнано развратом: сам – бесстыдник, жена – шлюха, детки – под стать обоим! Хоть днем, хоть ночью дверь у него не на запоре, а пни ее ногой – и сразу нараспашку для загулявшего молодца, а под всеми окнами горланят песни, а за столом попойка за попойкой, а спальня всегда настежь для прелюбодея, и всяк смело заходи к жене, только вперед уплати мужу, – так что в прибыль ему даже и осквернение супружеского ложа. Да, раньше ловко торговал он собою, а теперь женою, и весьма многие с ним же самим – нет, я не лгу! – с ним же самим, повторяю, сговариваются, чтобы провести ночь с его супругою. При этом между мужем и женою заключено некое соглашение, а именно: которые посетители вручат ей изрядную мзду, тех никто потом словно не видит – когда захотят, тогда и уйдут; а вот ежели кто явится с пустыми руками, того по условному зову ловят как прелюбодея, и уж такой уходит не ранее, чем напишет заданный урок – точно как у учителя. И верно, что же еще остается делать бедняге, имевшему несчастье промотать немалое состояние, притом вовсе нежданное и добытое только отцовским жульничеством? Дело было так. Отец его, задолжавший слишком многим, предпочел деньги стыду: когда со всех сторон стали требовать с него уплаты по распискам и уже чуть ли не все встречные не давали ему проходу, словно полоумному, он воззвал к милосердию, объявил себя несостоятельным должником, поснимал с себя золотые перстни и прочие знаки гражданского достоинства и этим способом утихомирил заимодавцев, – а тем временем по-воровски исхитрился переписать почти все, что у него было, на имя жены. Нищий, разутый догола, зато надежно прикрытый своим бесчестием, он оставил этому вот Руфину три миллиона – я опять-таки не лгу! – три миллиона сестерциев на прокорм, ибо именно столько и безо всякого долгового бремени получил он из материнской доли, да притом еще и от жены доставалось ему каждодневно кое-какое приданое. Однако же за несколько лет этот усердный забулдыга все успел прожрать, пропить и протранжирить на всяческие непотребные пиршества, словно боялся, как бы кто не сказал, будто из добытых отцовским жульничеством средств у него еще хоть что-нибудь сохранилось: сей честный и благородный муж ревностно потрудился, дабы неправедное стяжание и расточилось бы неправедно – вот так и вышло, что от изрядного состояния уцелели у него лишь жалкое тщеславие да ненасытная прожорливость.
76. Тем временем жена, уже порядком постаревшая и поистаскавшаяся, отказалась долее кормить все семейство позорным своим ремеслом, и тогда молодцам, которые побогаче, стали предлагать дочь: предлагала ее родная мать, а иным женихам даже и дозволяла угоститься на пробу, но все без толку – не попадись им растяпа Понтиан, так, пожалуй, дочка и до сей поры сидела бы взаперти, быть бы ей прежде свадьбы вдовицею. А Понтиан, как его ни отговаривали, почтил ее именем супруги – ложным и мнимым именем, ибо отлично знал, что незадолго до того, как сам он женился на ней, она успела поладить с неким весьма именитым юношей, который оставил ее сразу, едва насытился. Вот так и взошла к нему юница, тихая и кроткая, с украденным стыдом, с сорванным цветком, наряженная заплатанным платком, после прерванной связи вновь невинная невеста! При ней было звание девицы, но отнюдь не девственность, и когда несли ее на носилках восемь носильщиков, то все вы наверняка заметили, ежели при том присутствовали, как нескромно глазела она на парней и как нагло выставлялась всем напоказ; всякий мог распознать материнскую науку по размалеванному дочкиному рту, по нарумяненным щекам и по бесстыжим глазам. Что же до приданого, то оно было взято взаймы накануне свадьбы – все, как есть, до последней полушки, – и взяли куда больше, чем было по силам разоренному и многодетному семейству.
77. Зато вот он при более чем умеренном своем достатке не ведал меры в упованиях: столь же алчный, сколь нищий, он в тщетных своих мечтах уже жрал все четыре миллиона Пудентиллы и только чаял прогнать подальше меня, чтобы ему легче было обманывать легковерного Понтиана и одинокую Пудентиллу. Итак, он принялся ругать зятя, зачем тот просватал мать за меня, и настойчиво советовал поскорее, пока еще возможно, отступиться и избавиться от этакой опасности: лучше-де самому управлять материнским состоянием, чем по доброй воле вручать его какому-то чужаку, а если-де зять не послушается, то он-де отберет у него дочь, – и своими угрозами старый негодяй сумел разбередить влюбленного молодожена. Что тут говорить? Конечно же, он заморочил и направил туда, куда хотел, простоватого юнца, еще и прочно прикованного к сомнительным прелестям молодой жены, – и вот сын уже спешит к матери пересказывать сказанное Руфином! Однако сломить ее упорство ему не удалось и, напротив, самому пришлось наслушаться упреков в легкомыслии и непостоянстве, так что к тестю он воротился с не слишком приятным известием: несмотря на всю свою кротость и ласковость, мать прогневалась, требования сына лишь усугубили ее упорство, а вдобавок под конец спора она объявила, что от нее-де не укрылось, что пришел-де он к ней по наущению Руфинову, и потому-де ей особенно нужна помощь мужа, чтобы противустать безудержной алчности этого наглого корыстолюбца. 78. Принужденный выслушать такое, этот мерзавец, торгующий в розницу собственной женой, едва не лопнул от злости и до того взъярился, что принялся говорить о чистейшей и стыдливейшей из женщин – да еще при ее родном сыне! – всякие пакости, которые вернее было бы ему говорить у себя в спальне. Он вопил, что Пудентилла – шлюха, что я – чародей и отравитель, что он убьет меня своею рукой, и брань его слыхали многие: ежели пожелаешь, я их назову. О Геркулес! сколь трудно мне унять мой гнев! сколь великое негодование переполняет душу! Да тебе ли, бабию из бабней, угрожать настоящему мужчине, что ты-де убьешь его своею рукой? Какою же это рукой? Рукой Филомелы? или Медеи? или Клитемнестры?104 Да ведь когда ты представляешь их на подмостках, ты до того трусишь, до того страшишься самого вида железа, что пляшешь даже и без игрушечного меча!








