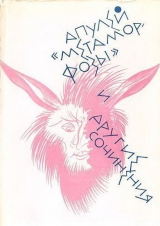
Текст книги "«Метаморфозы» и другие сочинения"
Автор книги: Луций Апулей
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Роман открывается эпизодом, в котором Луций рассказывает о своем пути в Гипату – город, издревле известный как родина магического искусства. Случай сводит его с двумя путниками, оживленно обсуждающими вопрос о существовании магии. Один из них отрицает даже самую мысль о чем-либо подобном, другой уверяет, что испытал силу магического воздействия на себе. Аристомен рассказывает, как он оказался случайным свидетелем невероятных обстоятельств гибели своего товарища, ставшего игрушкой в руках ведьм. История звучит как предупреждение Луцию не вмешиваться в мир темных тайн. Но герой, лишь только он оказался в Гипате, немедля бросился на поиски чудес: «Все мне казалось обращенным в другой вид… камни, по которым я ступал, казались мне отвердевшими людьми, и птицы, которым я внимал, – такими же людьми, покрытыми перьями; деревья вокруг городских стен – подобными же людьми, покрытыми листьями, и фонтаны текли, казалось, из человеческих тел» (II, 1).
Всякий новый эпизод Апулей строит как очередное предупреждение. В доме Биррены Луций видит скульптурную группу Артемиды и Актеона, уже наполовину превращенного в оленя. Актеон был растерзан собаками за дерзкую попытку проникнуть в тайны божества. Иронически предрекая его будущую метаморфозу, Биррена говорит герою, рассматривающему скульптуру: «Все, что ты видишь, – твое». Как и Актеон, Луций вскоре будет тайно наблюдать магические действия Памфилы и тотчас же окажется превращенным в осла. Вслед за тем герой слышит историю караульщика трупов, изувеченного ведьмами за безумное стремление им противостоять. И, наконец, последнее предупреждение, зловещая репетиция будущего превращения: именно вследствие хитрой уловки Фотиды, которая вместо волос некоего беотийского юноши принесла своей хозяйке козью шерсть, Луций оказывается невольной жертвой странного праздника бога Смеха. Над беспочвенными страданиями героя, втянутого в эту историю, потешается вся Гипата, и это происходит как раз накануне его превращения в осла, вызванного новым проступком Фотиды.
По иронии судьбы вместо редкостного и чудесного, познать которое стремился Луций-человек, Луция-осла преследует однообразие порока и преступления. Приобщенный к «тайнам магии», герой очень скоро осознает эту зловещую ведьминскую насмешку, но винит во всем случившемся не себя и свое любопытство, а фортуну. Именно фортуна, «жестокая и ненасытная», бросила Луция-осла в табун, где его чуть было не растерзали жеребцы; затем – в руки мальчика-живодера и вслед за этим – к его обезумевшей матери; наконец, «жесточайшая фортуна» позволила купить Луция жрецам-развратникам, облик которых потряс даже осла. Тема ужасной, губительной фортуны пронизывает «милетские» рассказы: их персонажи-неудачники, как и Луций, в своих несчастьях винят фортуну.
Апулей не придерживался общепринятой в его эпоху трактовки судьбы-фортуны как капризной случайности успехов и неудач. Трактовка фортуны в «Метаморфозах» связана с философской концепцией троякого проявления судьбы в космосе, и об этом он подробно говорит в трактате «О Платоне и его учении». Все в мире происходит под влиянием трех сил судьбы: провиденции, фатума и фортуны. Судьба-провиденция управляет космосом в целом, это – страж божественного порядка. Судьба-фатум властвует над конкретными явлениями, она осуществляет неизбежное. Судьба-фортуна является олицетворением непредвиденных препятствий и неожиданных помех, грозящих всякому, даже в мельчайших деталях продуманному действию. Эта диалектика трех сил судьбы нашла прямое отражение в трех частях романа. В «милетских» эпизодах движущая сила событий – фортуна; в сказке – фатум: это его волю возвещает оракул родителям Психеи; могущество провиденции в полной силе раскрывается в заключительной книге. Своего героя Апулей ведет по роману в соответствии с этой концепцией: от судьбы-фатума, управляющей жизнью Луция-всадника на белом коне, – через судьбу-фортуну злополучного Луция-осла – к судьбе-провиденции Луция – адепта религии Исиды.
То же самое можно сказать и о пути Психеи, героини вставной сказки. Здесь те же напрасные предупреждения Амура своей любопытной жене, сходные мытарства и страдания героини и такое же спасение благодаря божественному вмешательству. В образе Психеи Апулей воплотил свое представление о смысле человеческой природы. Любопытство присуще всякой человеческой душе, не только Луцию, Психее или Одиссею, но самому автору романа (в XI книге Апулей отожествляет себя с героем) и конечно же – читателю. В понимании Апулея любопытная человеческая душа, совершающая свое земное странствие, нуждается в божественном проводнике. Без него она не в состоянии противоборствовать натиску всюду подстерегающих ее злых сил.
Вместе с тем образ Психеи символизирует не только душу в целом, но прежде всего – лучшую часть смертной души. Психея прекрасна, благородна, всеми почитаема, рассудительна, совестлива. В то же время ей свойственны несамостоятельность, уступчивость, податливость. Для того чтобы лучшая часть смертной души жила в согласии с божественным началом, ей необходимы два качества: мужество и благоразумие. В сказке Психея должна пройти через испытания Венеры, чтобы эти качества обрести.
На абстрактном и аллегорическом уровне история Психеи в общих чертах повторяет историю Луция. Но аллегоризм сказки – явление своеобразное. Обычно аллегория предполагает изображение одной отвлеченной идеи. Образы сказки заключают в себе ряд идей. Фольклорные по своему происхождению, они переосмыслены Апулеем в философском ключе: в том, как автор изображает историю Психеи, можно легко заметить реминисценции из платоновских мифов и обнаружить явные параллели со священным сказанием об Осирисе и Исиде. Испытания героини напоминают мистериальные церемонии, и в том числе главную из них – посвящение в тайны преисподней.
Даже мелкие подробности в изложении сказки не случайны. Историю Психеи рассказывает выжившая из ума старуха, сидя в разбойничьей пещере. Несмотря на то что вся обстановка нарочито грубая и убогая, нельзя не заметить известной аналогии с двумя платоновскими образами: старуха явно соотносится с пророчицей Диотимой из диалога «Пир», а пещера разбойников – с пещерой из «Государства». Образ пещеры у Апулея таким образом представляет собой иронически трансформированный платоновский символ жизни человечества.
Особенно чувствуется ироническое отношение автора к персонажам «милетских рассказов»: как сюжеты этих рассказов напоминают мимы, так и их участники – условные амплуа мимических актеров или же маски комедии: разбойник-злодей, скряга-богач, незадачливый любовник. Их мир для автора как бы не реальный, а игрушечный; он смотрит на эти фигурки сверху вниз и, как опытный кукловод, заставляет их двигаться по своему желанию.
В «Государстве» Платона говорится, что проявления худшей части смертной души легче поддаются воспроизведению в искусстве. Поэтому писателю, стремящемуся воздействовать на человека, нельзя «всерьез уподобляться худшему, чем он сам, разве что в шутку» (396 е). В соответствии с этим Апулей использует единственно приемлемый для платоника способ говорить о пороке – иронию. Упоминая о ведьмах и злодейках, Апулей всякий раз говорит о них «добрые женщины» или «достойные женщины», о развратниках и ворах он скажет «честнейшие священнослужители», о разбойнике и головорезе – «доблестный человек». Все персонажи-злодеи, изображенные в «Метаморфозах», гибнут или оказываются осмеянными. Предлагая читателю панораму самых разнообразных пороков и выставляя их во все более отвратительном виде, Апулей ведет его к XI книге, в которой изображены радостные и благочестивые лица, в иной мир, где герой спасается наконец от чародейства и больше не принадлежит миру злому – болезненно реальному, но по сути своей мнимому. Апулей заставляет Луция посмотреть на этот мир глазами узника платоновской пещеры, перед которым проносились и исчезали только тени. Отвернуться от этого мира и увидеть мир настоящий, истинный, герой стремится в конце романа. Он уже не пытается своими силами найти волшебные лепестки розы, он взывает к божеству и просит о помощи. Ему является Исида и обещает счастье и славу – при условии, что его жизнь отныне будет принадлежать ей. В день праздника богини Луцию возвращается человеческий облик. Устами жреца Исиды Апулей всячески прославляет вторую, внутреннюю, метаморфозу героя.
Сократ, взявший девизом своей жизни изречение «познай самого себя», в одном из платоновских диалогов задается вопросом, какой же смысл был вложен в это изречение, и отвечает: «Увидь самого себя». Апулей в своей «Апологии» говорит, что Сократ советовал своим ученикам почаще рассматривать себя в зеркале: «Тот из них, кто останется доволен своей красотой, пусть прилагает все усилия, чтобы не опозорить благородной наружности дурными нравами; а тот, кто решит, что его внешность не слишком привлекательна, пусть прилагает все усилия, чтобы прикрыть свое безобразие подвигами добродетели. Так, самый мудрый из людей пользовался зеркалом для воспитания добрых нравов».
В равной степени философ и художник, Апулей принадлежал своему времени и говорил о близких ему проблемах. Сила Апулея в художественной интерпретации того комплекса идей, которыми жили его современники. Не исключено, что, используя жанр романа как одну из популярных форм «массовой культуры», Апулей стремился противопоставить «мудрость язычества» набирающему силу христианству. Во времена Апулея было распространено поверье, что христиане поклоняются ослиному богу. Христа карикатурно изображали с ослиной головой, намекая на невыразимую с точки зрения язычников глупость его учения и на то, что он родился в хлеву. Рассказ о том, как Луций был превращен в осла, чуть было не погиб, но был спасен Исидой, мог иметь еще одно – предостерегающее – значение, связанное с распространением христианства в Африке.
Апулей был современником Марка Аврелия и Лукиана, тишайшего философа на троне и саркастического Прометея красноречия. Но автор «Метаморфоз» не был похож ни на того, ни на другого. Став жрецом и приняв посвящения, он не отдалился от мира и не сделался безразличным ему. По убеждению философа-мистика, силой существующий мир исправить нельзя. Но бороться можно и нужно, только не со злом, а с питающим зло невежеством. Лишь невежда совершает злое, учил Сократ, а познавший, увидевший самого себя, может стать добродетельным.
Апулей не клеймил и не обличал, как Лукиан, и не был мрачно погружен в себя, как Марк Аврелий. Апулей – показывал. Он создал произведение, подобное странному зеркалу, в котором запечатлел крайние возможности проявления человеческой души, страдающей от пороков и радующейся очищению. Смотри, словно бы говорит Апулей своему читателю, иронически улыбаясь, возможно, и в твоей душе борются те же начала: если ты позволишь подчинить себя худшему из них, ты превратишься в животное, но если посвятишь себя служению высочайшим идеалам, ты сможешь обрести подлинно человеческий облик.
Н. Григорьева
АПОЛОГИЯ ИЛИ О МАГИИ
APOLOGIA SIVE DE MAGIA
Перевод E. Рабинович
1. Право же, я был вполне уверен, Клавдий Максим, и вы, заседатели совета! я просто не сомневался, что этот заведомо склочный старик – этот вот Сициний Эмилиан – взведет здесь на меня поклеп, не озаботившись загодя его обдумать, и постарается возместить скудость улик только изобилием брани! Конечно, оговорить можно и любого ни в чем не повинного человека, но уличить в преступлении нельзя никого, кроме преступника, – и от такового сознания я особенно рад, – вот как бог свят! рад удачному и удобному для меня случаю пред судом твоим доказать беспорочность философии невеждам, ничего в ней не смыслящим, и оправдаться самому, – пусть на первый взгляд и оклеветан я тяжко, да и трудность защиты усугубляется безотлагательной ее спешностью.
Ты ведь сам помнишь, как всего лишь пять или шесть дней тому назад явился я сюда вести тяжбу против Граниев за жену мою Пудентиллу и без малейших подозрений о всем остальном, – а поверенные обвинителя вдруг обрушились на меня с оскорблениями и с ябедами, будто я-де злонамеренный чародей и даже убийца пасынка моего Понтиана! Но я-то понимал, что не столько стараются они покарать преступление, сколько затеять свару, а потому принялся настоятельно требовать и настоял, чтобы вчинили они обвинение свое судебным порядком. Тут Эмилиан, заметив твое раздражение и вынужденный от слов переходить к делу, растерялся и начал нашаривать себе безопасную щель, где бы утаить вздорную свою склочность. 2. Итак, едва пришлось ему подписывать донос, он разом начисто позабыл о сыне родного брата своего, о том самом Понтиане, убийцей коего только что честил меня столь громогласно, – почему-то он даже и не обмолвился о безвременной кончине юного родича! Однако же, дабы никто не возомнил, будто он уж и вовсе отступился от обвинения столь великого лиходея, он выбрал изо всех ябед только донос о чародействе – доказать нелегко, зато ругаться привольно!
Впрочем, ему и здесь недостает храбрости действовать открыто, – нет, вместо этого он подает на другой день жалобу от лица несовершеннолетнего пасынка моего Сициния Пудента, а себя приписывает лишь в качестве его правозащитника. Вот новый способ драться – чужими кулаками! это для того, разумеется, чтобы под прикрытием мальчишки избежать наказания за облыжное доносительство. Хотя ты с безошибочною твоей проницательностью обратил на это внимание и потому опять велел ему поддержать вчиненное обвинение также и от собственного лица, и он обещал сие исполнить, однако заставить его судиться со мною напрямик оказалось невозможно даже по твоему приказу, – наперекор тебе он со всею своею клеветой по-прежнему упрямо нападает издали, вновь и вновь избегая опасного положения обвинителя и упорствуя в опекунской безответственности. Так что уже до суда всякому легко было сообразить, каково должно быть обвинение, ежели тот, кто сам его затеял и состряпал, сам же и боится произнести его от своего лица. А тем паче когда лицо это – Сициний Эмилиан, который, разнюхай он обо мне хоть что-нибудь достоверное, нипочем не стал бы тянуть с изобличением чужака, повинного в стольких злодействах! который, отлично зная о подлинности завещания дяди своего по матери, облыжно объявил его подложным! который твердил об этом без передышки, даже когда сиятельный Лоллий Урбик2 объявил решение совета консуляров, что завещание признано подлинным и должно вступить в силу! который до такого дошел умопомрачения, что, вопреки голосу сиятельного собрания, поклялся тогда, что завещание-де все-таки подложно, и сам Лоллий Урбик за это едва с ним не расправился!
3. Уповая на твою нелицеприятность и мою невиновность, я надеюсь, что сходное с помянутым решение положит конец также и настоящему разбирательству, ибо очевидно, насколько легче оговорить невинного тому, кто привычен к оговорам и уже был, как я сказал, уличен в лжесвидетельстве по весьма важному делу самим префектом города. Право же, если честный человек, раз ошибившись, следит затем за своим поведением с еще пущею осмотрительностью, точно так же сущий подлец со временем только наглеет и тем менее скрывает свои подлости, чем чаще удается их совершить, ибо стыд – словно одежа: чем больше ветшает, тем меньше о ней попечения. Именно поэтому я почитаю необходимым ради незапятнанности стыда моего прежде опровергнуть всю взведенную на меня хулу, а уж после перейти к сути обвинения. Воистину, защищаю я не одного себя, но и самое философию, коей величие хотя бы и малейшим уязвить попреком есть злейшее преступление; и тем не менее только что поверенные Эмилиана, столько навравшие лично обо мне, заодно – как и свойственно невеждам! – охаяли продажными своими словесами всех вообще философов. Даже если предположить, что пустословие их было корыстным и что за бесстыдство свое они успели получить задаток, – у этих наемных сутяг издавна такой обычай, чтобы непременно ядовитым своим языком бередить чужие болячки, – даже если это так, все же хотя бы и в немногих словах мой ответ должен содержать необходимое по сему поводу опровержение, дабы не показалось, будто я, неизменно и упорно ревнующий, как бы не замараться никаким бесчестием, вовсе не отвечаю на этот вздор не из презрения к оному, но от неумения порядочно ответить. Право же, я думаю, что людям скромным и щепетильным вообще свойственно огорчаться, ежели бранят их, хотя бы и облыжно, коль скоро даже тот, кто сознает себя в чем-либо виноватым, все-таки тревожится и гневается, заслышав дурной о себе отзыв, – а ведь, взявшись за дурные дела, можно и попривыкнуть к дурному с собой обращению уже потому, что ежели другие и промолчат, то сами виноватые помнят и понимают, сколько заслужили попреков. Тем паче всякий честный и непричастный никакому злодейству человек, неупражненный слух которого к брани не приучен и который свыкся с похвалами, но отнюдь не с нежданными оскорблениями, – такой человек особенно скорбит душою, когда его облыжно оговаривают в том, в чем на самом-то делe он сам бы мог винить кой-кого другого.
Поэтому ежели вдруг покажется, что в защитительной моей речи я склонен отвлекаться на пустые и неважные безделицы, то укорять в этом надлежит тех, у кого охота к столь гнусному доносительству, а с меня спросу нет, ибо по чести я буду опровергать все – даже и любую чушь.
4. Итак, ты только что слышал, какими словами начинается обвинение, а слова такие: «Мы обвиняем пред тобою философа миловидного,3 а также» – вот ведь кощунство! – «равно и весьма искушенного в греческом и латинском красноречии». Именно так, если я не ошибаюсь, начинал обвинение против меня Танноний Пудент, о коем просто немыслимо сказать, будто он искушен в каком бы то ни было красноречии. О, если бы он и вправду уличил меня в столь тяжких преступлениях – в миловидности и в речистости! Тогда я без труда возразил бы ему, как Гектору возражает Гомеров Александр:
Нет, не презрен ни один из прекрасных даров нам бессмертных:
Их они сами дают, произвольно никто не получит,4 —
то есть: «Отнюдь нельзя охаивать преславные дары богов, однако таковыми дарами непременно наделяют сами боги, а многим вожделеющим не достается ничего». Это я ответил бы касательно красоты, да еще добавил бы, что даже философам позволительно иметь приятную наружность: так Пифагор, первый объявивший себя философом, красою превосходил всех своих современников;5 тоже и древний Зенон, уроженец Велии,6 который первый с искуснейшею проницательностью разрешил неразрешимые апории, этот самый Зенон тоже был на редкость хорош собою – так пишет Платон!7 Можно припомнить к слову еще множество весьма почтенных философов, у коих лепота телесная украшалась добротою честного нрава; но подобные оправдания имеют ко мне весьма отдаленное касательство, потому что наружность моя и вообще достаточно заурядна, а от неустанных ученых трудов внешняя моя приятность и вовсе слиняла – все соки из меня выжаты, тело хилое, вид испитой, лицо бледное, сила на исходе. Даже волосы, о которых они тут лгут в глаза, будто я-де ношу их длинными развратного ради щегольства, – ты сам видишь эти мои прельстительные кудри: взъерошенные, нечесаные, свалявшиеся в войлок, там и сям вихрами, всклокоченные, косматые, такие, что и не расчесать: я давным-давно не имел времени не то чтобы позаботиться о прическе, но хотя бы распутать гребнем мой колтун! Полагаю, что этим достаточно опровергается злонамеренная моя кучерявость, за которую они тут хотят, чтобы я чуть ли не головой отвечал.
5. Касательно же красноречия, когда бы и вправду владел я таковым даром, то чему здесь дивиться и чему завидовать, ежели с юных лет я только и ревновал о словесной науке, отдавая ей все силы и совершенно презрев прочие удовольствия? Да и ныне, осмелюсь полагать, вряд ли найдется кто другой, кто бы вот так, как я, день и ночь проводил бы в ученых трудах, пренебрегая даже и ущербом собственному своему здоровью. Однако же красноречия моего они боятся напрасно, ибо ежели я в нем сколько-нибудь и преуспел, то превосходства мне это не дает, но лишь надежду. Тем не менее нет сомнений, что если Стаций Цецилий8 в стихах своих впрямь говорит правду, будто кто речист, тот и душою чист, то я, конечно, на таковом основании готов повсюду объявить, что никому на свете речистостью не уступлю! Воистину, найдется ли тогда кто-нибудь речистее меня, ни разу не помыслившего ничего такого, о чем нельзя было бы сказать открытой речью? Да, я утверждаю, что горазд говорить, ибо нет за мною такого слова или дела, о котором я не мог бы говорить при всех. А коли так, вот я и поговорю теперь о своих стихах, сочинение коих вменяется мне тут чуть ли не в постыдную провинность. Ты уже и сам заметил, как меня сразу и смешило и раздражало, когда стихи эти оглашались тут этими невеждами с безграмотным неблагозвучием.
6. Так вот, из этих моих безделиц они для начала выбрали маленькое стихотворное послание к некоему Кальпурниану о зубном порошке. Тот решил использовать эту записку против меня, но слишком увлекся, желая мне напакостить, и недоглядел, что ежели эти стишки свидетельствуют о моем злодействе, то и он мне сообщник. Итак, из стихов очевидно, что он просил у меня какого-нибудь средства для чистки зубов, – слушай:
Кальпурниану привет резвыми виршами!
Шлю по просьбе твоей для очищения рта
Дар Аравийской земли, тонко промолотый:
Нежит, белит добела, знатно лощит, мягчит,
Десен распухлость больных бережно пользует,
Начисто крошки метет трапезы давешней, —
Да не приметит никто пятнышка малого,
Если нежданно уста смехом оскалятся.
А теперь я спрашиваю, есть ли в этих стихах какая-нибудь названная или подразумеваемая непристойность, поминается ли тут хоть какое-нибудь зазорное для философа слово или дело? Попрекнуть меня можно, пожалуй, лишь тем, что я послал Кальпурниану молотые в порошок аравийские плоды, а ему куда как больше пристало бы, по свинскому обычаю иберов, о коем гласит Катулл,9 собственною своею мочой
пасть полоскать и зубы драить дочиста!
7. Я видел далее, как кое-кто просто давился смехом, когда представитель обвинения сурово уличал эту самую заботу о чистоте рта и вопиял о зубном порошке с таким негодованием, с каким даже об отраве никому не возгласить. Но что же делать? Философу никак нельзя презреть обвинение, будто он избегает всякой неопрятности и не терпит, чтобы неприкрытые части его тела были грязными и вонючими, а уж особенно рот, который в жизни нашей чаще всего при деле и на виду: кого-то целует, с кем-то разговаривает, порой рассуждает перед слушателями, порой молится в храме, – воистину, всякому людскому делу предшествует слово, о коем сказано великим поэтом, что выходит оно «из-за ограды зубов».10 Или возьми, к примеру, какого-нибудь знатного витию – он тоже изъяснит тебе на собственный лад, что ежели кто хоть как-то заботится о своей речи, то должен изо всех частей тела более всего ухаживать за устами, каковые суть преддверие духа и врата словес и вече помыслов. Ну, а я мнение свое выскажу прямо и просто: для человека приличного и благородного непристойнее всего именно немытый рот – помещается он высоко, виден далеко и употребляется в разговоре часто. Вот у зверей и скотов пасть помещается низко и обращена вниз, поближе к следу и корму, потому-то у животных пасть почти никогда не видна, разве только у дохлых или у готовых от ярости кусаться. Не то у человека: когда он молчит и уж тем паче когда говорит, прежде прочего примечаешь как раз уста.
8. Поэтому я желал бы, чтобы нравоблюститель мой Эмилиан ответил, есть ли у него привычка хоть изредка мыть ноги, а буде он таковой привычки отрицать не станет, то чтобы доказал, насколько мытье ног важнее чистки зубов. Впрочем, совершенно ясно, что ежели кто-то – как ты, Эмилиан! – разевает пасть редко и только ради брани и клеветы, то такому и я советую не трудиться чистить рот и не отбеливать заморскими порошками зубы, которые разумнее драить угольною сажею, а полоскать не обязательно даже и простою водой, – пусть его зловредный язык, орудие ругани и лжи, вечно купается в собственной смрадной вони! Право же, что толку иметь чистый и свежий язык, а гласить лишь пакости да гадости? что толку на змеиный лад извергать черную отраву белоснежными зубками? Вот если кто-нибудь вознамерится произнести речь небесполезную и небесприятную, тому само собою следует прежде ополоснуть рот, как ополаскивают кубок ради доброго вина. Но зачем говорить о людях? Грозное чудище, нильский крокодил11 – даже он, насколько мне известно, беззлобно разевает пасть, когда надобно ему почистить челюсти, потому что зев у него громадный, но без языка и почти всегда погруженный в воду, а от того меж зубами во множестве застревают пиявицы: тогда он вылезает на берег, разевает пасть – и тут некая дружелюбная ему речная птичка засовывает туда клюв и выклевывает сор без малейшей для себя опасности.
9. Но довольно о сем предмете – перехожу к другим моим стишкам, которые они тут называют любовными, хотя прочитали их так грубо и безграмотно, что слушать их было скорее ненавистно. Да и какое отношение к злонамеренному чародейству имеют эти строки, в коих воспел я малолетних сыновей друга моего Скрибония Лета? Или я чародей уже потому, что поэт? Слыхано ли когда-нибудь столь правдоподобное подозрение, столь многоумный домысел, столь надежное доказательство? «Стихи сии сочинил Апулей». Что ж, если стихи плохие, то это вина не философа, а поэта, если же стихи хороши, то в чем вообще здесь вина? «А в том, что стихи он сочинил игривые и любовные». Стало быть, в этом-то и заключается мое преступление, а вы просто перепутали обвинения, волоча меня к ответу за чародейство? Да ведь подобные стихи сочиняли и другие поэты, о которых вы и понятия не имеете: был у греков один такой сочинитель с Теоса, и другой – из Лакедемона, и еще один, с Кеоса, и еще множество было таких; даже одна женщина с Лесбоса сочиняла, хоть и шаловливо, но столь сладостно, что прелестью песен возмещается нам чуждость ее наречия. И у нас так сочиняли Эдитуй и Порций и Катул и несчетное множество других стихотворцев.12 «Но они не были философы». Но не станешь же ты отрицать, что весьма почтенным гражданином и сущим философом был Солон, – а ему тем не менее принадлежит вот такой весьма игривый стих:
Лакомых уст и чресл сласть вожделея вкусить.
Найдется ли во всех моих виршах хоть что-нибудь, сравнимое озорною своею игривостью с этою единой строкой? Я уж помолчу о стихах киника Диогена и того Зенона, который основал стоическую школу, – а писано их много и в подобном же роде. Лучше я прочитаю собственные свои стихи: пусть все знают, что я отнюдь их не стыжусь:13
Критий мне мил, и тебе, любезный Харин, половину
Я от любови моей в вечную власть уделил.
Истинно огнь и огнь меня жгут, однако не бойся:
Пламени жар двойной я терпеливо снесу,
Лишь бы быть мне для вас, как вы для меня, драгоценну —
Вы же, как пара очей, дороги будете мне!
А вот еще и другие стихи, которые оглашались под конец обвинения в качестве примера полнейшего моего бесстыдства:
Вот тебе, сладкий ты мой, цветы в подарок и песня:
Песня – тебе, а венок – дивному стражу души!
Песнею, Критий, да славится свет благодатного утра
В день, как твоя занялась дважды седьмая весна;
Да увенчают чело на радость долгую розы,
Дабы в цветущих летах прелесть цветами цвела!
Ты же за вешний цветок воздай твоею весною,
Щедрой наградой твоей щедрость мою превзойди:
Крепкосплетенный венок отдари объятием крепким,
Пурпур роз отдари ласкою розовых уст;
Тоже и песни мои медовой уступят цевнице,
Ежели в гулкий тростник ты соизволишь подуть.
10. Вот в чем, оказывается, состоит мое преступление, Клавдий Максим: в венках да песенках – точно как у распоследнего гуляки! Ты наверняка заметил, как меня корили тут даже тем, что я называю этих мальчиков Харином и Критием, хотя на самом деле их-де звать иначе. Верно, но тогда пусть винят заодно и Гая Катулла, ибо он именует свою Клодию Лесбией, а еще Тициду, ибо он в писаниях своих зовет Периллой Метеллу, а кстати и Проперция, который скрывает Гостию и говорит о Кинфии, и Тибулла за то, что на уме у него Плания, а в стихах Делия. Вот я скорее попрекнул бы за нескромность Гая Луцилия, хотя он и ругатель, – за то, что в стихах своих он вывел на позорище юных Гентия и Македона под их подлинными именами. Насколько же скромнее мантуанский стихотворец, который в игривой эклоге хвалит юного раба приятеля своего Поллиона и при этом – точно как я! – избегает подлинных имен, а зовет себя самого Коридоном, а мальчика – Алексидом. Мало того: Эмилиан, превзошедший невежеством всех Вергилиевых пастухов и подпасков, этот сущий грубиян и дикарь почитает себя куда как добронравнее любых Серранов, Куриев и Фабрициев, а потому со всею строгостью утверждает, что философу Платоновой школы сочинять подобные стихи никак нельзя.14 Даже тогда нельзя, Эмилиан, если я объясню, что в стихах мне примером сам Платон? А ведь от него никаких стихов не осталось, кроме любовных: все прочие стихотворения он сжег, ибо они были не столь изящны, – я уверен, что поэтому. Так послушай же научения ради стихи философа Платона к отроку Астеру – если только в твои годы не поздно учиться словесности. Слушай:
Прежде всходил для живых ты, Звезда моя! ясной Денницей, —
Ясной Вечерницей днесь, мертвый, для мертвых взошел.
Вот и другое стихотворение того же Платона сразу к двум мальчикам – Алексиду и Федру:
Только я молвить успел, сколь милый Алексид прекрасен,
Всюду и все на него с жадностью стали глазеть:
Псам костей не кажи, любезный! после придется
Каяться – разве не так Федр улизнул от меня?
Больше перечислять не стану, только прочитаю для завершения последнюю сроку из его же стихотворения к Диону Сиракузскому:
О вожделенный Дион, разум отхитивший мой!
11. Да сам-то я в своем ли уме, ежели распространяюсь тут перед судом о подобных предметах? Или еще безумнее клеветники, твердящие в обвинении, будто по таким вот игривым стишкам можно распознать и собственные нравы сочинителя? Неужто вы не читали, как ответил Катулл зложелателям по сходному поводу:
А божественный Адриан на могильном памятнике друга своего, поэта Вокона, написал так:
Был ты стихом шаловлив и помышлением чист, —
хотя никогда не сказал бы такого, если бы некоторое поэтическое легкомыслие было верным доказательством житейского бесстыдства. А я помню, что читал многое в подобном роде, сочиненное даже и самим божественным Адрианом, – так не трусь, Эмилиан, скажи людям, сколь вредоносны достопамятные творения законоблюстителя и державного полководца – божественного Адриана! И притом неужто ты полагаешь, будто Максим, зная, что сочиняю я в подражание Платону, осудит меня за эти сочинения? Приведенные мною сейчас в пример Платоновы стихи столь же чисты, сколь нелицемерны, и столь же скромны слогом, сколь просты смыслом, ибо развратная игривость во всех подобных обстоятельствах лукавит и таится, а игривость шутливая признается сразу и откровенно. Воистину, невинности природа даровала голос, а порок наградила немотой!








