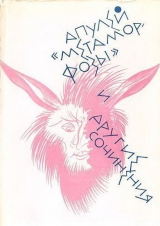
Текст книги "«Метаморфозы» и другие сочинения"
Автор книги: Луций Апулей
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
13. Как я это услышал, холодным потом, несчастный, обливаюсь, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей, дрожа, затанцовала. А добрая Пантия говорит: – Отчего бы, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам,163 или, связав как следует, не оскопить? – На это Мерое (я отгадал ее имя, так как она подходила к рассказам Сократа) отвечает: – Нет, его оставим в живых, чтобы было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного. – И, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к ране маленький мех,164 так чтобы ни одной капли не было видно. Своими глазами я это видел. К тому же, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения, добрая Мерое, запустив правую руку глубоко, до самых внутренностей, в вышеуказанную рану, вынула сердце моего несчастного товарища. Горло его от такого удара было рассечено, и голос, вернее хрип неопределенный, из раны извлекся, и заклокотал воздух. Затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантея сказала: – Ну ты, губка, бойся, в море рожденная, через реку переправляться!165 – После этого, подняв с меня кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока совсем зловоннейшей мочой меня не залили.
14. Как только они переступили порог, как двери встали в прежнее положение как ни в чем не бывало, петли заходили, створки стали одна к другой, болты легли в свои места. Я же как был, так и остался на полу простертый, бездыханный, голый, холодный, весь мокрый, словно только что появившийся из материнского чрева, или, вернее, полумертвый, переживший самого себя, как последыш или человек, обреченный на виселицу, – я произнес: – Что будет со мною, когда этот зарезанным обнаружится? Кто найдет мои слова правдоподобными, когда я буду говорить правду? Должен был бы звать на помощь, если такой мужчина не мог справиться с женщиной! На моих глазах режут человека, и ты молчишь! Почему же сам ты не погиб при таком разбое? Почему свирепая жестокость пощадила свидетеля преступления? Но хотя ты и избег смерти, теперь к товарищу присоединишься.
Подобные мысли приходили мне в голову; а ночь близилась к утру. Лучшим мне казалось до свету выбраться тайком и пуститься в путь, хотя бы ощупью. Беру свою сумку и, отодвинув задвижку, вставляю в скважину ключ. Но эти добрые и верные двери, что ночью сами собою раскрывались, только после долгой возни и трудов открыли мне проход.
15. Я закричал: – Эй, есть тут кто? Откройте мне дворовую калитку: до свету хочу выйти! – Привратник, поперек калитки на земле спавший, говорит спросонья: – Разве ты не знаешь, что дороги от разбойников неблагополучны! Как же ты так ночью в путь пускаешься? Если у тебя такой грех на душе, что ты помереть хочешь, так у нас-то головы не тыквы, чтобы из-за тебя умирать! – Не долго, – говорю, – до света. К тому же что могут отнять разбойники у такого нищего путника? Разве ты, дурак, не знаешь, что голого раздеть десяти силачам не удастся? – На это он, засыпая и повернувшись на другой бок, говорит: – Почем я знаю. Может быть, ты зарезал своего товарища, с которым вчера вечером пришел на ночлег, и думаешь спастись бегством?
16. При этих словах (до сих пор помню) показалось мне, что земля до самого Тартара расселась и голодный пес Цербер готов растерзать меня. Тогда я понял, что добрая Мерое не из жалости меня пощадила и не зарезала, а от жестокости для крестной казни сохранила. Итак, вернувшись в комнату, стал я раздумывать, каким способом лишить себя жизни. Но так как судьба никакого другого смертоносного оружия, кроме единственной моей кроватишки, не предоставила, то начал я: – Кроватка моя, кроватка, дорогая душе моей, ты со мной столько несчастий претерпела, ты по совести знаешь, что ночью свершилось, тебя одну в моем бедствии я могу назвать свидетельницей моей невиновности. Мне, в преисподнюю стремящемуся, облегчи туда дорогу! – Сказав это, я отдираю от нее лямку, которою она была обвита; закинув и прикрепив ее за край стропил, что выдавались над окном,166 на другом конце делаю крепкую петлю, влезаю на кровать и, приподнявшись, в петлю вкладываю голову. Но когда я ногой оттолкнул точку опоры, чтобы тяжестью тела петля сама затянулась и прекратила мое дыхание, внезапно веревка, сгнившая, да и старая уже, обрывается, и я валюсь с высоты на Сократа, что около меня лежал, рушусь и с ним вместе качусь на землю. Как раз в эту минуту врывается привратник, крича во все горло: – Где же ты? среди ночи приспичило тебе уходить, а теперь храпишь, закутавшись?
17. Тут Сократ, придя в себя, не знаю уж, от падения ли нашего или от этого крика, первым вскочил и говорит: – Недаром все постояльцы не терпят этих дворников! Этот нахал лезет сюда, наверное, чтобы стащить что-нибудь, и меня, усталого, разбудил от глубокого сна своим ораньем.
Я весело и бодро вскакиваю от неожиданного счастья.
– Вот, надежный привратник, мой товарищ, отец мой и брат! А ты с пьяных глаз болтал, что я его ночью убил! – С этими словами я, обняв Сократа, принялся его целовать. Но тот, услышав отвратительную вонь от жидкости, которою меня те ведьмы залили, грубо оттолкнул меня.
– Прочь! – говорит он, – несет как из отхожего места! – И начал меня шутя расспрашивать о причинах этого запаха. И я, несчастный, кое-как отшучиваясь, чтобы снова перевести его внимание на другой предмет, хлопнул его по плечу и говорю: – Пойдем-ка, воспользуемся утром для пути.
Я беру свою котомку, и, расплатившись за постой, мы пускаемся в путь.
18. Мы уже несколько отошли, и восходящее солнце все освещало. Я с любопытством смотрел на шею своего товарища, на то место, куда вонзили, как я сам видел, меч. И подумал про себя: как это так напился, что мне привиделись такие странности! Вот Сократ: цел, жив и невредим. Где рана? где губка? и где, наконец, язва, такая глубокая и такая свежая? Потом, обращаясь к нему, говорю: – Недаром врачи опытные тяжелые и страшные сны приписывают невоздержанному питью!167 Вот я вчера не считал бокалов, так ночью мне снились ужасные и жестокие вещи, так что до сих пор мне кажется, что я весь залит человеческой кровью!
На это он, улыбнувшись, заметил: – Не кровью, а мочой! А впрочем, мне и самому приснилось, будто меня зарезали. И горло болело, и сердце, казалось, вырывали: даже теперь дух замирает, колени трясутся, шаг нетверд и хочется для подкрепления съесть чего-нибудь.
– Вот, – отвечаю, – готов тебе завтрак! – С этими словами я снимаю с плеч свою сумку и протягиваю ему хлеб с сыром. – Сядем, – говорю, – у этого платана.
19. После чего и сам собираюсь приняться за еду. Смотрю я несколько минут внимательно, как он с жадностью ест, и вдруг замечаю, что, смертельно побледнев, он лишается чувств; живые краски в его лице так изменились, что мне показалось, что снова приближаются к нам ночные фурии,168 и кусочек хлеба, который я откусил, как ни мал он был, застрял у меня в горле и не мог ни вверх подняться, ни вниз опуститься. При виде частых прохожих я еще больше впадал в ужас. Кто же поверит, что убийство одного из двух путников произошло без участия другого? Между тем Сократ, достаточно насытившись, стал томиться несносной жаждой. Ведь он сожрал добрую половину превосходного сыра. Невдалеке от подножья платана протекала медленная река, вроде стоячего болота, цветом и блеском похожая на серебро или стекло. – Вот, – говорю, – воспользуйся молочным источником. – Он поднялся и, найдя удобное на берегу местечко, встал на колени и жадно потянулся к чаше. Но едва только концами губ он верхнего слоя воды прикоснулся, как рана на шее его широко открылась, губка снова из нее выпадает, и вместе с нею несколько капель крови. Бездыханное тело упало бы в воду вниз головой, если бы я его, удержав за ногу, не вытянул с трудом на высокий берег, где, наскоро оплакав несчастного спутника, песчаной землею около реки навеки его я засыпал. Сам же, трепеща за свою безопасность, в страхе, разными окольными и пустынными путями, я убегаю, словно действительно имея на совести убийство, я отказался от родины и родимого дома, взяв на себя добровольное изгнание. Теперь, снова женившись, я живу в Этолии.169
Вот что рассказал Аристомен.
20. Но спутник его, который с начала рассказа упорствовал в недоверии, промолвил: – Нет ничего баснословнее этих басен, нелепее этого вранья! – Потом, обратившись ко мне: – И ты, по внешности и манерам образованный человек, веришь таким басням?
Я, со своей стороны, отвечаю: – Ничего не считаю невозможным, и все, что решено судьбою, со смертными и совершается. И со мною ведь, и с тобою, и со всяким часто случаются странные и удивительные вещи, которым никто не поверит, если рассказать их неиспытавшему. Этому человеку я верю и благодарен уже за то, что приятностью интересной истории он нас позабавил; я без труда и скуки скоротал тяжелую и длинную дорогу. Кажется, даже лошадь моя радуется такому благодеянию: ведь до самых городских ворот я доехал, не утруждая ее, скорее на своих ушах, слушая повесть, чем на ее спине.
21. Тут пришел конец нашему пути и вместе с тем разговорам, потому что оба моих спутника направились налево к ближайшим домам. Я же подъехал к первой от ворот гостинице, попавшейся мне на глаза, и расспрашиваю пожилую хозяйку: – Не Гипата ли, – говорю, этот город? – Подтвердила. – Не знаешь ли Милона, одного из первых здесь людей? – Рассмеялась. – И вправду, – говорит, – первейший человек Милон, его владения даже за городские стены простираются. – Шутки в сторону, добрая тетушка, какой он такой и где обитает? – Видишь, – говорит, – крайние окна, что выходят на улицу, а вход в переулок с другой стороны? Тут этот Милон и обитает, набит деньгами, страшный богатей, но скуп донельзя, и всем известен как человек преподлый, больше всего ростовщичеством занимается, золото и серебро дает под большие проценты; сам живет в чулане с женой, такою же как и он, сапог сапогу пара. Только одну служаночку держат,170 и ходит всегда что нищий.
На это я, рассмеявшись, подумал: вот славную мой Демея дал мне для дороги рекомендацию. К такому человеку послал, в гостеприимном доме которого нечего бояться ни чада, ни кухонной вони.
22. Дом был близко, приближаюсь я ко входу и стучу в накрепко закрытую дверь, крича. Наконец является какая-то девушка. – Эй ты, – говорит, – что в двери барабанишь? подо что взаймы хочешь? Один ты, что ли, не знаешь, что кроме золота и серебра у нас ничего не принимают? – Лучше, – говорю, – встречай и скорее скажи, застану ли дома твоего хозяина? – Конечно, – отвечает, – а что тебе за нужда? – Письмо я принес ему от Демеи Коринфского. – Сейчас доложу, – отвечает, – подожди меня здесь. – С этими словами заперла она снова двери и ушла внутрь. Через несколько минут вернулась и, открыв двери, говорит: – Просят.
Вхожу, вижу, что хозяин лежит на диванчике и собирается обедать. В ногах сидит жена,171 и, указав на пустой стол, говорит: – Милости просим. – Прекрасно, – отвечаю и передаю письмо Демеи. Пробежав его, хозяин говорит: – Демея очень мил, послав мне такого гостя.
23. С этими словами он велит жене уступить мне свое место. Когда же я отказываюсь из скромности, он – садись – говорит, – здесь других стульев нет, боязнь воров не позволяет мне держать мебели в достаточном количестве. Я исполнил его желание. Говорит: – Правильно я заключил бы и по изящной манере держаться, и по этой почти девической скромности, что ты благородного корня отпрыск? Да и Демея мой в своем письме это же самое сообщает. Итак, прошу, не презирай скудость нашего жилища. Вот этот покой рядом будет для тебя вполне приличным помещением. Удостой его принять. Твое достоинство возвеличит мой дом, и тебе будет случай последовать славному примеру. Удовольствовавшись маленьким очагом, ты в добродетели сравнишься с Тесеем, пресловутым тезкой твоего отца, который не пренебрег скудным гостеприимством старой Гекалы.172 – И, позвавши служаночку, говорит: – Фотида, прими гостевы вещи и положи их бережно в ту комнату. Потом принеси из кладовой масла для натирания, полотенце утереться и все прочее и своди нашего гостя в ближайшие бани, – устал он после такого дальнего и трудного пути.
24. При этих словах, желая угодить Милону, войти в его экономные обычаи и теснее с ним сблизиться, я говорю: – У меня все есть, что нужно в пути. И бани я легко сам найду. Всего важнее, чтобы лошадь моя, что так старалась, не осталась голодной. Вот, Фотида, возьми эти деньжонки и купи овса и сена.
После этого, убрав свой багаж в том покое, сам я отправился в бани, по дороге зайдя на рынок купить что-нибудь поесть. Вижу – выставлена масса рыбы. Стал торговаться, – вместо ста нуммов уступили за двадцать денариев. Я уже собирался уходить, как встречаю Пифея, школьного товарища моего еще по аттическим Афинам. Некоторое время он не узнает меня, потом радостно обнимает, целует. – Луций мой! – говорит, как долго мы не видались, с самого того времени, как оставили школьную скамью! Что занесло тебя сюда? – Завтра узнаешь, – говорю, – но что это? тебя можно поздравить? Вот и связки,173 и лозы, весь чиновный прибор!.. – Продовольствием занимаемся, – отвечает, – и исполняем обязанности эдила.174 Если хочешь закупить что, могу быть полезен. – Я отказался, так как уже достаточно запасся рыбой на ужин. Тем не менее Пифей, заметив корзинку, стал перетряхать рыбу, чтобы лучше рассмотреть ее, и спрашивает: – А это дрянцо почем брал? – Насилу, – говорю, – уговорил рыбака уступить мне за двадцать денариев.
25. Услышав это, он тотчас схватил меня за правую руку и, снова приведя на рынок, говорит: – А у кого ты купил такое ничтожество?
Я указываю на старикашку; сидел в углу.
Тогда он на того набросился и стал распекать его по-эдильски: – Так-то обращаетесь вы с нашими знакомыми, да еще нездешними! Продаете таких паршивых рыб по таким ценам! Доведете вы цвет фессалийской области до голода, и опустеет он, как скала! Даром это не пройдет! Узнаешь ты, как у меня поступают с мошенниками! – И, высыпав рыбу на землю, велел он своему помощнику встать на нее и всю ее растоптать ногами. Удовольствовавшись такою суровостью нравов, мой Пифей обращается ко мне: – Мне кажется, мой Луций, для старикашки достаточное наказание такой позор!
Ошеломленный и огорченный этим происшествием, направляюсь я к баням, лишившись, благодаря остроумной выдумке моего школьного товарища, и денег и ужина. Вымывшись, возвращаюсь я к дому Милона прямо в свой покойчик.
26. Тут Фотида, служанка, говорит: – Зовет тебя хозяин. – Зная уже Милонову воздержанность, я вежливо извиняюсь, что, мол, дорожная усталость скорее сна, чем пищи, требует. Получив такой ответ, он сам является и, обняв меня, тихонько увлекает. Я то отговариваюсь, то скромно упираюсь. – Без тебя, – говорит, – не выйду, – и клятвой подтвердил слова. Я нехотя повинуюсь его упрямству, и он снова ведет меня к своему диванишке и, усадив, начинает: – Ну, как поживает наш Демея, что жена его, что дети, домочадцы? – Рассказываю по отдельности о всех. Расспрашивает подробно о причинах моего путешествия. Все обстоятельно ему рассказываю. Тщательнейшим образом тогда разузнает он о моем родном городе, о первых его гражданах, о градоначальнике,175 пока наконец не заметил, что, устав после дороги, я утомился разговором и засыпаю посреди фразы, вместо слов бормоча что-то неопределенное, и не отпустил меня в спальню. Так я освободился от трапезы болтливого старика, отягченный сном, не пищею, поужинав одними россказнями. И, вернувшись в комнату, я предался желанному покою.
КНИГА ВТОРАЯ
1. Как только ночь рассеялась и солнце новый день воздвигло, расстался я одновременно со сном и с постелью, в некоем беспокойстве, жадный узнать, что за чудеса меня окружают. При мысли, что я нахожусь в сердцевине Фессалии, единогласно прославленной как родина магического искусства, что история, рассказанная добрым спутником Аристоменом, происходила здесь, я в волнении с некоторым благоговением оглядывался кругом. Не было ни одной вещи в городе, при виде которой я считал бы ее за то, что она есть. Все мне казалось обращенным в другой вид волшебными заклятиями. Так что и камни, по которым я ступал, казались мне отвердевшими людьми; и птицы, которым внимал, такими же людьми оперенными; деревья вокруг городских стен – подобными же людьми, покрытыми листьями; и фонтаны текли, казалось, из человеческих тел. Я уже ждал, что статуи и картины заходят, стены заговорят, быки и прочий скот запрорицают и с самого неба, с солнца внезапно раздастся предсказание.
2. Так все обозреваю я, удивленный, ошеломленный мучительным любопытством и не видя никакого признака, чтобы началось осуществление моих ожиданий. Брожу, как богатый бездельник, зевакой с места на место, незаметно для себя прихожу на рынок. Тут, ускорив шаг, догоняю какую-то женщину, окруженную многочисленными слугами. Золото и драгоценности на платье, там вшитые, там затканные, выдавали ее за знатную даму. Рядом с ней находился пожилой уже человек, который, как только увидал меня, воскликнул: – Клянусь Геркулесом, вот Луций! – поцеловал меня и тотчас зашептал что-то, не знаю что, на ухо даме. Наконец говорит: – Что же ты не подойдешь и не поздороваешься со своей родственницей? – Я уважаю, – говорю, – незнакомых госпож. – И тотчас, покраснев, я опустил голову и отступил. Тогда та, пристально на меня глядя, начала: – Да, вот и благородная честность покойной Сильвии, матери, и правильная пропорциональность тела, соразмерный рост, стройность без худобы, умеренная красота в лице, светлые от природы вьющиеся волосы, глаза голубые, но зоркие, орлиный взгляд, смягченный нежностью, очаровательная и свободная поступь!
3. Продолжает: – Я, мой Луций, тебя воспитала вот этими самыми руками. Почему и нет? я не только родственница, я молочная сестра твоей матери. Обе мы из рода Плутарха, и одна у нас была кормилица, выросли мы как две сестры; разница была только в положении, она вышла замуж за знатнейшего человека, я – за скромного. Я – та Биррена, имя которой, часто повторяемое твоими воспитателями, наверное ты запомнил. Прими же доверчиво мое гостеприимство, считая мой очаг за свой.
Я, перестав краснеть во время этой речи, отвечаю: – Неприлично, тетушка, покидать дом Милона без всякого повода. Но я буду посещать тебя так часто, как позволят дела. В другой раз, сколько бы сюда ни приезжал, кроме тебя ни у кого не остановлюсь.
Обмениваясь такими разговорами, через несколько шагов мы пришли к дому Биррены.
4. В прекраснейшем атриуме176 видны были в каждом углу по колонне, украшенной победоносной богиней.177 Каждая на четыре страны света, летучая, не покидая столбов, шаткой ногой отталкивает точку опоры и, кажется, летит, оставаясь на месте. Всю середину комнаты занимала Диана из паросского камня,178 превосходной работы, с развевающимися одеждами, грудь вперед, навстречу входящим, внушая почтение божественным величием. С обеих сторон сопровождают ее собаки, тоже из камня. Глаза грозят, насторожены уши, раздуты ноздри, зубы оскалены. Если поблизости раздается лай, подумаешь, он из каменных глоток исходит. Мастерство художника выразилось больше всего в том, что передние лапы у собак словно бегут, оставаясь в воздухе, меж тем как задние опираются на землю. За спиной богини высился грот, украшенный мохом, травой, листьями, ветками, плющом и растущим по скалам кустарником. Сумрак углубления рассеивался от блеска мрамора. По краю скалы яблоки и виноград висели, превосходно сделанные, в правдивом изображении которых искусство соперничало с природой. Подумаешь, их можно сорвать для пищи и зрелым цветом ожелтила их плодоносная осень. Если наклонишься к фонтанам, которые, разбегаясь из-под следов богини, журчали звонкой струей, подумаешь, что висящим лозам, кроме прочей правдоподобности, придана и трепещущая живость движения. Среди ветвей изображен Актеон, наполовину уже оленем смотрит внимательно он на собирающуюся купаться Диану, и в мраморе и в бассейне.
5. Пока я наслаждаюсь поочередным лицезрением всего этого, Биррена говорит: – Все, что видишь – твое. – С этими словами она всех высылает, желая поговорить со мной наедине. Когда все ушли, она начинает: – Эта богиня порука, Луций дражайший, как я боюсь за тебя и как хочу, словно родного сына, спасти тебя от опасности. Берегись, ой берегись вражды и низких чар этой Памфилы, жены Милона, который, говоришь, твой хозяин. Первой ведьмой она считается и вызывательницей духов. Нашепчет на палочку, камушек, на какой другой пустяк – и весь звездный свод в Тартар низринет, и мир погрузит в древний хаос. Как только увидит юношу красивой наружности, тотчас покоряется его прелестью и приковывается к нему душой и взором. Обольщает его, туманит рассудок, по рукам навеки связывает глубокой любовью. Если же кто воспротивится и пренебрежет ею, тотчас обращает в камень, в барана, в любое животное или же совсем уничтожает. Я в трепете думаю, как тебе следует остерегаться. Она непрестанно ярится, а ты по возрасту и красоте ей подходишь. – Так Биррена со мной взволнованно беседовала.
6. Я же в крайнем любопытстве, лишь только услышал давно желанное слово «магическое искусство», как, вместо того чтобы избегать козней Памфилы, всею душой стал стремиться предаться за любую цену ее руководительству, готовый стремглав броситься в бездну. Вне себя от нетерпения я вырываюсь из рук Биррены, как из оков, и, наскоро сказав: – Прости! – лечу с быстротой к Милонову дому. Ускоряя шаги, как безумный, – действуй! – говорю сам себе, – Луций, не зевай и держись! Вот желанный тобою случай: теперь можешь насытиться давно ожидаемыми чудесными сказками! Отбрось детские страхи, нужно осторожно обделать дело, воздержись от объятий твоей хозяйки и считай священным ложе честного Милона! Но надо усиленно постараться насчет служанки Фотиды. Она ведь и лицом привлекательна, и нравом резва, и на язык очень остра. Вчера вечером, когда ты падал от сна, как обязательно проводила она тебя в спальню, уложила ласково на постель, хорошо и любовно укрыла и, поцеловав тебя в лоб, с неохотой ушла, опять просунула голову, наконец удалилась, сколько раз оборачиваясь! Что ж, принимаю примету: будь что будет, попытаю счастье с Фотидой!
7. Так рассуждая, достиг я дверей Милона, укрепившись в своем решении. Но не нахожу дома ни Милона, ни его жены, только дорогую мою Фотиду. Она тушила в кастрюльке фаршированные кишки и куски мяса. Даже издали носом слышу я вкуснейший запах. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко, немного под самые груди красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке; она плавными кругами вздрагивала, всем членам передавалось движение, заметно бедра трепетали, гибкая спина заметно встряхивалась и волнилась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою, удивляясь; восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое. Наконец говорю к ней: – Что за прекрасное, что за пышное кушанье, Фотида, ты стряпаешь, тряся кастрюлей и ягодицами? Что за медвяный соус готовишь? Счастлив и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему коснуться! – Тогда девушка, столь же развязная, сколь прекрасная: – Уходи, – отвечает, – уходи подальше от моего огня! Ведь если малейшая искра моя тебя зажжет, сгоришь дотла. Тогда, кроме меня, никто твоего огня не угасит, я ведь не только кастрюли, но и ложе сладко трясти умею!
8. Сказав это, она на меня посмотрела и рассмеялась. Но я не раньше ушел, чем осмотрев ее всю. Но что говорить о подробностях? И в обществе, и в домашних забавах меня одно всегда интересовало: лицо и волосы. Причина такого моего предпочтения ясна и понятна, ведь видная эта часть тела всегда открыта и первая представляется взорам людей, и чем для остального тела служат расцвеченные веселым узором одежды, тем для лица волосы – природное украшение. Наконец, многие, чтобы доказать свое расположение, последние одежды сбрасывают, являя нагую красоту, предпочитая розовый цвет кожи золоченым одеждам, – но если бы (ужасное предположение, да сохранят боги от его осуществления), если бы у прекраснейших женщин снять волосы с головы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшая, морем рожденная, волнами ласкаемая, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором граций сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, киннамоном179 благоухающая, бальзам источающая, – если плешива будет, даже Вулкану своему180 понравиться не сможет.
9. Что, в самом деле, дает волосам милый цвет и лучезарит их сверкающим блеском, что блистают навстречу солнцу или отливаются спокойно и меняют свой вид с разнообразным очарованием?
Что же скажешь, когда у волос цвет приятный, и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощное они испускают сверканье или спокойный отблеск и изменяют свой вид, сообразно различному, но всегда для них благоприятному освещению, то, златом пламенея, погружаются в нежную медвяную тень, то, вороньей чернотою соперничая с темно-лазурным оперением голубиных горлышек, или когда, аравийскими смолами умащенные, острыми зубьями гребня по-тонкому разделенные и собранные назад, они привлекают взоры любовника и, наподобие зеркала, отражают его изображение еще приятнейшим? Что скажешь, когда, сжатые во множество кос, они громоздятся на макушке, или, широкой волною откинутые, покоятся за спиной? Одним словом, шевелюра имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина ни оделась, чем бы на свете она ни разукрасилась, если она не радеет о прическе, убранной назваться не может.
Но Фотиде моей не замысловатый убор, а естественный беспорядок волос придавал прелесть, так как пышные локоны ее, слегка распущенные и свисающие с затылка, откуда они располагались по обе стороны щек вроде природной волнообразной бахромы, чуть-чуть завивающиеся на концах, на самой макушке были стянуты узлом.
10. Дольше не смог я выдерживать такой муки жгучего вожделения, а, приникнув к ней в том месте, откуда волосы у нее зачесаны были на самую макушку, сладчайший поцелуй напечатлел. Тут она обернулась ко мне и, искоса взглянув на меня лукавым взором, говорит: – Эй ты, школьник! за кисло-сладкую закуску хватаешься.181 Смотри, как бы, объевшись медом, горечи в желчи не нажить!
– Что за беда, – говорю, – моя радость? Когда я до того дошел, что за один поцелуйчик готов изжариться, растянувшись на этом огне! – и с этими словами, еще крепче ее обняв, принялся целовать. И к ней, уже по-братски разделяющей со мною равную степень одинаковой страсти в любви, уже упоенной, судя по благовонному дыханию полуоткрытого рта, по ответным ударам сладостного языка, близким к концу вожделением, – погибаю, – воскликнул я, – и погиб уже совершенно, если ты не придешь на помощь! – На это она, опять меня поцеловав, говорит: – Успокойся. Меня тебе отдало взаимное желание, и завершение нашей страсти откладывается ненадолго. Чуть смеркнется, я приду к тебе в спальню. Теперь уходи и соберись с силами, я всю ночь напролет ведь буду с тобой бороться крепко и от души.
11. Без конца обмениваясь такими и тому подобными словами, мы наконец разошлись. Как только наступил полдень, Биррена в гостинец мне прислала отличную свинью, пяток курочек и бочонок превосходного старого вина. Я кликнул тогда Фотиду и говорю: – Вот к тому и Либер182 прибыл, оруженосец и уговорщик Венеры. Сегодня же все это вино и выпьем, чтобы оно заставило исчезнуть стыдливую немочь и силу веселую придало страсти. Ведь на Венерином корабле один провиант требуется, чтобы на бессонную ночь в лампе достаточно было масла, в чаше – вина.
Остаток дня посвящен был бане и наконец ужину. Так как по приглашению доброго Милона я разделил с ним его изысканную трапезу, стараясь, памятуя наставления Биррены, как можно реже попадаться на глаза его супруге и потому отвращая свои взгляды от ее лица, как будто от страшного Авернского (адского) озера,183 но наблюдая без устали за прислуживающей Фотидой, я уже несколько приободрился, как вдруг Памфила, взглянув на зажженную лампу, говорит: – Какой сильный ливень будет завтра! – и на вопрос мужа, откуда это ей известно, отвечает, что это лампа ей предсказала.184 На эти слова Милон, расхохотавшись, говорит: – Великую Сивиллу185 мы держим в этой лампе, что с высоты своей подставки наблюдает за всеми небесными делами и за самим солнцем.
12. Тут я вступил в разговор и заявляю: – В этом и состоят первые признаки любого предвиденья; нет ничего удивительного, что этот скромный, зажженный человеческими руками огонечек, который тем не менее есть частица того большого небесного светила186 или родственного ему, что взойдет сейчас на вершину эфира, обладает способностью божественного провиденья и может знать их состояние и возвещать нам об этом. Да вот и теперь у нас в Коринфе гостит проездом некий халдей,187 который своими удивительными ответами весь город сводит с ума и за известную плату кому угодно открывает тайну судьбы, в какой день вернее всего заключать браки, в какой крепче всего постройки закладывать, какой торговым сделкам сподручнее, какой для путешествия посуху удобнее, какой для плаванья благоприятнее. Когда я наконец задал ему вопрос, что случится со мною в этом странствии, он насказал много удивительнейших и разнообразных вещей, сказал, что и слава цветущая меня ожидает, и великие приключения невероятные, которым трудно будет верить и в устной передаче и в письменной.
13. Ухмыльнувшись на это, Милон говорит: – А какой с виду этот халдей и как его звать? – Длинный, – отвечаю, – и черноватенький, Диофан по имени. – Он самый! – воскликнул. – Никто, как он! Он и у нас подобным же образом многое многим предсказывал за немалые деньги, и больше того, достигши уже высшей платы, впал, несчастный, в убожество, даже, можно сказать, в ничтожество.
В один прекрасный день, когда, окруженный тесным кольцом народа, давал он предсказания в кружок стоявшим, подошел к нему некий купец, по имени Кердон,188 желая узнать день, благоприятный для отплытия. Тот ему уже день указал, уже кошелек появился на сцену, денежки высыпали, отсчитали сотню денариев, условленную плату за предсказание, как вдруг сзади протискивается какой-то молодой человек приличного вида, схватывает его за полу, а когда тот обернулся, обнимает его и крепко-накрепко целует. А тот, ответив на его поцелуи, усадил рядом с собой и, ошеломленный неожиданностью встречи, забыв о торговой сделке, которую совершил, говорит ему: – Что же так поздно приходишь ты, долгожданный? – А тот другой отвечает на это: – Как раз с наступлением вечера. Ты лучше, братец, расскажи мне, каким образом держал ты путь морем и сушей с тех пор, как ты поспешно отплыл с острова Евбеи?








