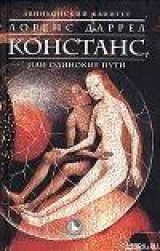
Текст книги "КОНСТАНС, или Одинокие Пути"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
А он думал: «Когда же наконец я закончу книгу, которую так давно мурыжу? Когда перестану дышать? Но идея-то была в создании идеальной книги – титанического труда – le roman appareil.[94]94
Здесь: роман-механизм (фр.).
[Закрыть] В конце концов, почему бы не поместить в книгу куски из других книг, черты чужих персонажей, циркулирующих в крови друг друга, – но чтобы все они были свежими, никакого повтора, вторичного пережевывания, вторичного дыхания. Такая книга может прозвучать вопросом: стоит ли жизнь того, чтобы жить, если все равно умрешь… Одно не может быть без другого. Я слышу голос: «Чем несчастный болел?» – «Смертью!» – «Смертью? Почему же он умолчал об этом? В смерти нет ничего особенного, если она приходит вовремя».
А она думала: «Познание боли – самое большое, что может дать любовь. Ну и дураками же мы были! Теперь мне все ясно. Одни браки чуть тлеют, у других все как у всех, а мы познали экстаз. Нам повезло! Поэтому мне трудно собраться с силами после такого удара. Что дальше? Буду жить одна, как Обри, спать одна на своей правой половине кровати головой на север; вот так, совсем одна».
Он же размышлял о своем: «Соединять и перемешивать реальности – вот настоящая игра! В конце концов, нам очень мало дано – всего несколько разновидностей характеров, типов поведения; вряд ли их больше, чем христианских имен, которыми мы пользуемся. Сколько наносной шелухи нужно соскоблить, чтобы добраться до истинно чистой поверхности, до сути? Все мы – фрагменты друг друга; каждый изначально получает кусочек от целого. От абсолюта – скажем, Аристотелева пятого элемента;[95]95
По Аристотелю, весь предметный мир состоит из так или иначе скомбинированных четырех элементов: огонь, воздух, вода, земля. Пятый элемент – эфир, он неизменяем и лишен материи. (Прим. ред.)
[Закрыть] все персонажи по сути одинаковы и все ситуации идентичны друг другу или очень похожи. Вселенная наверняка умирает от скуки. И все-таки, я упорно мечтаю о книге, в которой не будет совсем отвлеченных персонажей, так как я дам им предков и потомков – могут ли такие люди вторгаться в чужие жизни и покидать их, не нанося никому вреда? Хм. И вся книга будет состоять из уменьшенных квинт – если говорить об оркестровке. Большая раздвижная книга, в которой всё – и суть и подходы к ней. Голгофа, а не книга. Надо поговорить о ней с Обри». Он наклонил голову, а воображаемая аудитория долго аплодировала ему.
Она думала: «Проснуться бы однажды и увидеть Абсолютное Добро! Какое оно?»
Сатклифф, сосавший трубку, чтобы не курить сигареты, отложил ее и взял еще одну сигарету, при этом с вызовом щелкнул пальцами, глядя на собственное отражение в тусклом зеркале, висевшем в кафе.
Выпитое уже начало сказываться на обоих; она ощущала беспокойство, ей было не по себе.
– Надо поесть, – сказал он и махнул неразговорчивому официанту, чтобы тот принес наводящее уныние меню. – Plat du jour, – печеная фасоль на тосте, – простонал он, проглядев его. – Придется взять это.
Ей не хватило сил возразить, они и впрямь должны были что-то съесть, чтобы не опьянеть совсем. Кроме того, это повод дольше пообщаться, Констанс пока не поняла, рискнет ли она вернуться к себе в квартиру, до которой было два шага, или опять потащится через озеро в клинику. Кстати, нужно было что-то решать – последний паром уходил в одиннадцать. У нее сильнее забилось сердце, а на щеках то и дело вспыхивал румянец – она чувствовала легкую растерянность. Принесли еду, и они с жадностью накинулись на нее.
– Жизнь – сплошное разочарование, – проговорил сидящий напротив Констанс великан, проглотив пережеванную порцию фасоли. – Я увидел объявление о том, что с моей конторой готова сотрудничать опытная секретарша, и отозвался на него, чтобы посмотреть, кто такая; о господи, ну и девица! Копна грязных волос на помеле. Ну, я отослал ее в департамент к Тоби. Им там все равно.
Она не слушала его, размышляя: «До чего же ярки сны о прошлом». А вслух сказала:
– Я все еще вижу сны о прошедшем лете, когда мы все были в Провансе, – они там все как наяву. Даже подробности вижу очень ясно. Иногда нечто совсем банальное о Хилари, моем брате, и Обри. Знаете, когда Обри стал совершенно невыносим с его идеей превосходства французов над англичанами, мы ему устроили… В итоге всех своих бессмысленных рассуждений об Искусстве и Сексе он в качестве аргумента выдвигал богатство французского языка. Мол, в нем намного больше бранных слов, чем в английском, высокомерно заявил он. Мы ужасно разозлились и разыграли небольшую сценку, и потом, стоило ему сесть на своего конька, мы с жуткими гримасами хором скандировали примерно полудюжину ругательств, которые он всегда приводил в пример. Звучит не особенно смешно, но видели бы вы наши гримасы, а он еще ужасно краснел при этом…
– Что это было?
– Cuistre! Mufle! Goinfre! Rustre! Jobard! Goujat! Fourbe! Gniaf![96]96
Хам! Грубиян! Обжора! Невежа! Простофиля! Мужлан! Мошенник! Дубина! (фр.).
[Закрыть]
– Отлично.
А она вздохнула.
– Интересно, что он сейчас делает, совсем один во дворце, когда Нил течет по потолку?
– Я скажу, правда, это лишь писательская догадка. С нарастающим раздражением он прислушивается к гнусавому нытью Кейда, своего слуги, который с укоризной массирует его. Кейду стало известно всё о греческой сиделке, и он говорит на своем унылом кокни: «Что до меня, сэр, то я ни за что не стал бы иметь дело с девушкой, у которой все сразу нараспашку».
– Мне пора, – сказала она, – но я столько выпила, что сама не дойду.
Покинув мрачное помещение с пыльной мебелью, они вышли на улицу и обнаружили, что идет дождь – осенняя изморось, к которой ни один из них не был готов.
– Ближе всего моя квартира, – проговорила она, радуясь, что все решилось само собой. – Тут за углом.
Они припустились бегом, как могли быстро, и сильно запыхались. Она долго искала ключ, наконец нашла, и они поднялись на третий этаж. Внутри было полно пыли, как в нежилом помещении. Бросалась в глаза гора немытой посуды, и в открытую дверь можно было разглядеть неубранную постель. Однако сама по себе маленькая студия над озером была прелестна, и диваны были удобные. Констанс пригласила Сатклиффа располагаться как дома, пока она поищет что-нибудь выпить. В буфете оставалась только водка, но она, решила Констанс, будет для него роковой. Однако, видимо, он уже решил залечь там, куда плюхнулся; стащив с себя неуклюжие ботинки, он рассматривал большой палец на левой ноге, вылезший из дырки в носке.
– Мне нравятся эти пригородные квартиры в Швейцарии, – сказал он. – Они уютные. В холле всегда membre fantômt,[97]97
Фантом ампутированной конечности (фр.).
[Закрыть] а в туалете – открытый томик Валери. В них живут психоаналитики и гинекологи, промышляющие абортами.
– Спасибо.
– Не стоит.
– Вижу, вы не верите в науку.
– Нет, верю, но в поэзию науки.
– И в счастье?
– При чем тут это? Нельзя создать таинственную и прекрасную энергию – le bonheur[98]98
Счастье (фр.).
[Закрыть] – заступничеством или хлыстом, силой или обманом, можно лишь мольбой. Здесь начинается поэзия, и молитва тоже; поэзия и молитва ведут к мысли, а мысль создает науку. Но родословная длинная. – Он умолк из-за приступа икоты, изрядно напугавшей его. Шестипенсовик в рождественском пудинге надо принимать на веру. Надо верить, что он достанется именно тебе и действительно принесет счастье. Святая крупица истины.
– Вы слишком многословны, – с упреком проговорила она.
Он печально покачал головой.
– Смерть Сэма стала для вас ужасным потрясением.
После этих его слов оба, не сговариваясь, заплакали, схватившись за руки. С несказанным облегчением она поняла, что снова способна испытывать нормальные человеческие эмоции. Он плакал, как старая лошадь, а она плакала, как застенчивый подросток – шумно и некрасиво. Плача, она думала: «Появление на сцене смерти придает всему невероятную прелесть – роскошь недолговечности, о которой человек старается не думать – боится. «Смертельное падение» существует для всех: клоунов, героев, влюбленных, хамов, дураков, уродов, королей, для здравомыслящих и сумасшедших, для молчунов и болтунов».
Она положила затуманенную, пьяную голову ему на плечо, и он, забыв про мужские амбиции, измученный пьяной истомой, гладил ее волосы корявыми ладонями и беспомощно повторял: «Ничего, моя хорошая, ничего». Она же продолжала размышлять об открытиях Фрейда: «Искусственно взращенный гнойник исповедального анализа! Истощение и неразбериха! «Стена плача» иудейского вороватого мышления, не способного отвлечься от инвестиций; сдираешь болячки с ран и еще удивляешься, почему они кровоточат. Рубцовая ткань неутоленных желаний!»
– Он прислал мне дурацкое письмо, – выпалила она, – в котором только мальчишеские шуточки и один-единственный искренний кусочек. Подождите, я принесу его. Оставила в туалете.
Она хотела разорвать его и спустить в унитаз, а вместо этого положила возле ванны, где соединяются раздвоенные трубы. Она достала отсыревший конверт и сняла ненужную бумагу, как кожуру с луковицы. «Конни, – прочитала она, – в смерти нет ничего особенного, и это правда. Конечно, человек немного боится боли, но вместе с ней приходит забвение. Величайшая слабость, которая никого не обходит стороной, с которой мы не можем справиться, – это любовь».
– Все листки склеились, – произнес Сатклифф.
– Я помню его наизусть, – отозвалась Констанс. – Но оно пришло слишком поздно. Вот почему мне так мучительно больно. Он пишет, чтобы я обязательно сохранила ребенка, ведь мы оба были абсолютно уверены в том, что я беременна. Я сказала ему, что не собираюсь удерживать его с помощью ребенка, так как когда он вернется, чувства его могут измениться.
Она постучала костяшками пальцев по лбу.
– Я играла в благородство. Не хотела привязывать его к себе только ради ребенка, случайно зачатого во время войны. В общем, я думала, когда мы снова будем вместе, у нас хватит времени зачать другого младенца. И я убила его. Я убила его. И сразу же пришло сообщение о гибели Сэма. Естественно, этот ребенок стал бы для меня дороже всего на свете – если бы я сохранила его!
Теперь он понял всю глубину ее отчаяния и вины. Констанс стояла посреди комнаты, опустив голову, и восстанавливала в памяти холодный день в квартире старого врача – она лежала, раскоряченная, в кресле дантиста и смотрела на окно, в котором с поверхности озера отражались облака. Старый доктор что-то торопливо приговаривал, пока она лежала с раздвинутыми ногами. Боль и забытье от анестезии таяли, смешиваясь. Потом были горы ваты, чтобы остановить кровотечение. Старик принес помойное ведро, в котором лежал эмбрион, плод их с Сэмом любви, похожий на маленькую зеленоватую древесную лягушку, с отлично сформировавшимися пальчиками. Он лежал, как умирающий пловец, выброшенный на покинутый берег.
Поняв, что ему предназначена роль целителя-наперсника, Сатклифф начал задавать ей вопросы, и в конце концов она выплеснула на него отравленные мысли, накопившиеся в ее голове. Они все разговаривали и разговаривали, сидя в темноте, а в промежутках, когда голоса их стихали, слышали свист чаек и рев сирены, установленной на пароме, эти звуки смешивались с булькающими звуками дождя, бившегося в окна. И сам предмет их беседы, и общее отчаяние оплели их умиротворяющей паутиной разделенных чувств; тем временем циркуляция алкоголя в крови медленно делала свое дело, и они заснули крепким сном. Констанс больше не плакала, а Сатклифф все громче храпел, положив голову ей на плечо. На рассвете она неожиданно проснулась, словно ее толкнули – ночь раздвигалась, наподобие экрана. На цыпочках, чтобы не разбудить своего наперсника, она пошла в кухню и принялась готовить сытный завтрак, чувствуя, что ее аппетит будет ничуть не меньшим, чем у него. Было еще очень рано, но она торопилась, потому что ей надо было перебраться на другую сторону озера, в клинику. А Сатклифф спал, время от времени похрапывая, и тогда жирные, похожие на желе щеки подрагивали. Ему тоже надо было быть на работе, поэтому, проснувшись, он был рад душу и яичнице с беконом. Вторгшаяся в их сонное царство реальность внесла свои коррективы – зазвонил телефон, разрезая, словно ножницами, его сон. Констанс коротко ответила и повернулась к своему гостю, который начал потягиваться и зевать, возвращаясь к бодрствованию.
– Это Шварц, – проговорила она с явным облегчением. – Он вышел на работу, и я наконец могу заняться своими делами. Хотите, чтобы я что-нибудь передала ему, когда мы сегодня будем вести прием? Или ей?
Сатклифф печально задумался.
– Мне обещали, что она сможет днем прогуливаться по набережной. Почему из этого ничего не вышло?
Констанс покачала головой.
– Ничего не слышала об этом. Может быть, она не захотела с вами встречаться? Я узнаю.
Он отправился в туалет, прихватив старый номер «Тайме», чтобы почитать там, а она принялась убирать в кухне и накрывать стол к завтраку, что она проделала тщательно и быстро, предвидя серьезные недомогания после чудовищного количества выпитого вчера спиртного. Опустошенная бутылка из-под водки лежала, оскалив зубы, так сказать. Неужели они и в самом деле столько выпили? На ее вопрос ответили громкие звуки в туалете. Она постучала в дверь и спросила, все ли в порядке.
– Да. Спасибо, – ответил он. – Я заблудился среди лиан своих трудов, читая передовицу в «Тайме». Строгая очищающая проза, теперь я потопаю в свою контору прекрасный, как древняя богиня – девственница с рогами. Ох, моя голова!»
На улице прояснилось, солнечные лучи прогнали туман с озера. Расставаясь, они нежно обнялись.
– Ах, огромное вам спасибо, милый! – импульсивно воскликнула Констанс, и он благодарственно развел руки в стороны.
– Пятьдесят на пятьдесят, – ответил он.
И это было правдой.
– Помните, если надумаете послать Обри письмо, у меня есть возможность сделать это по телетайпу Красного Креста. – Сатклифф хохотнул и энергично кивнул. – Конечно, пошлю, – улыбнулся он. – И, вообще, Конни, не пропадайте и помогите мне, если придумаете как.
– Конечно.
В маленьком кабинете пахло турецкими, а не французскими сигаретами, и Сатклифф сразу понял, что утром тут побывал его коллега Райдер. Это было ясно и по кипам газетных вырезок и отпечатанных страниц, которые украшали соседний стол. За неделю надо было перевести ужасное количество технических статей из немецкой и швейцарской периодики. Напряженно работая, сходя с ума от скуки, иначе не скажешь, они искали что-нибудь, что помогло бы расшифровать коды немецкой «тайной машины», не поддающиеся сотрудникам разведки. Тысячи и тысячи статей уже были обработаны, и тысячи еще ждали своей очереди. Они с Райдером заполняли «папку шифратора», которая должна была содержать все что только известно о таинственном предмете. Райдер – что удивительно для военного – великолепно знал немецкий, почему его и отправили заниматься этим тягомотным делом, но он работал вполне прилежно и нисколько не роптал. Маленький желчный молодой человек с усами щеточкой никогда не опаздывал. Он мало пил, мало курил и нечасто терял терпение. Сатклифф ненавидел его, так как понимал, что профессионализм Райдера подчеркивает его собственную нерадивость. Бывало, когда Райдер критиковал что-то в его переводе, Сатклиффа душила ярость. Он скрипел зубами, чувствуя, как на висках его вздуваются жилы от бешенства.
Однако критику приходилось принимать – ведь она исходила от человека более знающего; к тому же Райдер был начальником сектора, и их переводы шли в другие отделы с его подписью. Сатклифф всего лишь исполнял обязанности клерка. Но до чего же он ненавидел свое положение подчиненного!
Сатклифф тяжело опустился на стул и почувствовал, как съеденное утром поднимается к горлу, – это когда он одним пальцем перевернул кучу вырезок из немецкой прессы. Он уже собирался взять свою папку, но тут в кабинет вошел сияющий Райдер, держа в правой руке два бокала для шампанского, а в левой – бутылку, обернутую мокрой салфеткой. Благодаря хорошему настроению его петушиная походка была еще более комичной.
– Сегодня, – сказал он, – будем праздновать. Я всё принес. Пьем шампанское. Г.Э. выразил нам вчера благодарность, так что звоним во все колокола.
Сатклифф чуть не застонал от раздражения и едва не спросил: «Всего-то?» – но Райдер продолжал:
– Однако повод для праздника совсем иной. Вчера вечером я добрался до Лондона и выяснил, что там наконец-то начали что-то понимать – пока немного – из того, что мы надергали у фрицев.
Вот эту новость стоило торжественно отметить, так как она освобождала от научных статей в ближайшем будущем, и Сатклифф почувствовал себя счастливым. Однако… как ему ни хотелось присоединиться к «колоколам» Райдера, из-за отвратительного похмелья, накатывавшего волнами дурноты, это удовольствие было для него, видимо, недоступным.
– Совсем немножко, – слабым голосом попросил он.
Однако Райдер наполнил его бокал до краев.
– Пейте, старина. За нас!
По иронии судьбы вино было однолетним чувственно-нежным «боллинджером», и в то время как желудок Сатклиффа в ужасе пасовал, нёбо жаждало наслаждения. Сатклифф закрыл глаза и со страстным отчаянием, как человек, бросающийся со скалы в воду, поднес бокал к губам и выпил большую часть драгоценной влаги. На вкус она была чудесной, с этим не поспоришь, но по мере того, как шампанское продвигалось внутрь, в желудке началась предвиденная реакция, – слабые, но потом все более сильные спазмы. Сатклиффу было необходимо попасть в туалет, и поскорее; неописуемая ярость охватила его из-за отвратительных ощущений. В какой-то степени это состояние показалось ему символичным, учитывая тот бедлам, в котором они пребывали, – тот бедлам, в котором пребывал весь мир: бедлам в сердцевине самой реальности.
– Первый добровольный бокал по поводу гитлеровских фокусов, и видите, что происходит!
Фронтовые сводки были ужасны, будущее неясным, и вряд ли можно было вскоре рассчитывать на вторую бутылку.
– Похмелье, насколько я понимаю! – воскликнул Райдер не без восхищения.
Белый, как рис, Сатклифф со стоном занял место за своим столом.
– Великий Климактерий, – сказал он. – Я знал, что однажды он меня настигнет… Великий Климактерий, – с достоинством ответил он на вопрос Райдера, – это момент, когда проблема близящейся смерти становится актуальней проблемы «как жить».
Зеркало в туалете упрекнуло и глубоко обескуражило его – глаза были красными, как сырая печенка. Легче ему не стало даже после звонка доктора Шварца, который сообщил, что прогулки его жене разрешены, но при одном условии: она будет гулять там, где не будет его; он не должен видеться с ней, пока ей кажется, будто ее преследуют.
– Преследуют! – презрительно отозвался Сатклифф, и тогда добрый доктор добавил:
– Ее будет сопровождать подруга-негритянка, – она согласилась приехать и гулять с ней между тремя и четырьмя часами.
Он надеялся, что Сатклиффу эта новость придется по душе.
Так и возник ритуал, которому теперь была подчинена дневная жизнь Сатклиффа; бледная блондинка и стройная пышущая здоровьем негритянка (обычно одетая в нечто фиолетовое, оранжевое, пурпурное) рука об руку медленно прогуливались по берегу серого озера. Позади, на большом расстоянии, шел Сатклифф в черных очках, в шляпе, подняв воротник пальто. Он хотел видеть ее; он не мог сопротивляться желанию видеть ее, его все еще мучили воспоминания о ней, она постоянно присутствовала в его мечтах. Болезнь, разворачивающаяся медленно, как питон, своими ремиссиями и путаными метаморфозами сводила на нет его старания не раскисать. Он следовал за двумя девушками, как следуют за похоронной процессией, что-то бормоча едва слышно, иногда постукивая слева или справа своей тростью, словно сбивая головки цветов, воображаемых, потому что ничего не росло на сером мрачном бетоне у подножия горы.
Изредка чернокожая девушка останавливалась, что-то показывала, говорила, часто смеялась, и тогда ее большой рот становился похожим на открытый зонтик. Зато ее белокожая подруга никогда не улыбалась и никогда ничего не говорила. Хотя время от времени она тихо, но внятно повторяла то или иное слово, удивленная его незнакомым звучанием. Весь ее вид свидетельствовал о том, что панический страх вернул ее в ту пору, когда ей было лет десять.
Далеко, очень далеко позади шагал третий одинокий член этой не святой троицы, лелеявший убийственные мысли о судьбе и методах лечения доктора Шварца. «Вам чертовски хорошо известно, – мысленно говорил он невидимому доктору, – вам, Шварц, чертовски хорошо известно, тут с подсознанием ничего не выйдет, она превратилась в худенького ребенка. Вы возвращаетесь к уже апробированному, приятель, хотя ваша электрошоковая терапия устарела. Любой поэт скажет вам, что в основе болезни эго, которое приводит к стрессу, вносящему беспорядок в реальность. А потом еще тайные прогулки с гномами и Doppelgängers;[99]99
Призраки, двойники из потустороннего мира.
[Закрыть] однако стоит только уяснить это, как от позитивизма не остается и следа. Монета падает, жетон срабатывает, и вот уже сам далай-лама на проводе; получается одна поэзия – в высшей степени аберрантный[100]100
Отклоняющийся от нормы.
[Закрыть] акт природы! Это другая сторона кризиса личности, стресс, вспышка, переход на другую стадию через турникет. Однажды в этих спокойных водах кто-то познает иной смысл бытия. – Так, стараясь незаметно идти вдоль озера, он остановился и внимательно поглядел на спину своей жены, прежде чем закончить монолог. – Так и только так можно стать великим любовником, укрываясь под иссеченной рубцами тканью старой высушенной любовной поэзии; несмотря на слезящиеся от непрерывного курения глаза и ухмылку миноги, я стал наконец-то Человеком, которым, собственно, был всегда. Любовником, созданным для блока интенсивной терапии в некоей великой клинике на озере. В этой клинике Конни в белом халате и со связкой ключей важно расхаживает среди игрушек, которые дают пациентам, – напрасная попытка наладить с ними контакт. Шварц, когда ступите за пределы христианства и посмотрите на него с другой стороны решетки, у вас похолодеет кровь!»
Девушки, шедшие впереди, остановились у лотка, с которого продавались beignets de pommes, пончики с яблоками, и купили себе по штуке: неожиданно и Сатклифф от всех своих благочестивых размышлений ощутил дикий голод. Он не мог дождаться, когда девушки продолжат прогулку, чтобы незаметно подойти к лотку. Он хищно смотрел, как те кусают свои пончики, с удовольствием слизывая застывший сахар с губ и пальцев. Незамысловатое удовольствие вновь превратило их в школьниц, сбежавших с уроков. Белокожая девушка даже вроде бы улыбалась, как будто сахарная пудра вернула ей давно забытые воспоминания. Когда они вновь неспешно зашагали вдоль озера, желудок Сатклиффа свело от голода, и рот наполнился слюной. Ему стоило невероятных усилий дождаться, когда они отойдут на приличное расстояние, предоставив ему возможность чуть не бегом устремиться к лотку и торопливо попросить парочку восхитительных пончиков. Сатклифф со слезами на глазах смотрел вслед двум удалявшимся в сторону серых гор фигуркам, замерев на месте с пончиками в обеих руках. Его переполняло чувство вины. Удивляясь своей ненасытности, он с жадностью откусывал, а в его памяти оживали давние картинки – как она лежала с закрытыми глазами в его объятиях и спала, словно Офелия среди лилий. Но уже тогда разум изменял ей, и Сатклифф был твердо убежден, что если он сумеет сделать ей ребенка, это благотворно отразится на ее психике. А она вела себя так, будто ничего не замечала. Она подчинялась ему, как покорный зверек, не выражая никаких чувств, позволяла ему всё, но сама оставалась безучастной. Их поцелуи бесследно испарились, а жизнь желанному ребенку они так и не дали… Сатклифф поплотнее закутался в пальто и продолжил свой беспокойный монолог, адресованный Шварцу,[101]101
Шварц – «говорящее» имя, на немецком означает – «черный». (Прим. ред.)
[Закрыть] – в сознании христиан священная Чернота символизирует смерть. Смерть, знающая толк в несчастье, всегда поблизости, терпеливо ждет, когда можно будет позвонить. Из глубины Женевы до Сатклиффа донесся колокольный перезвон, отмечающий время: ночью потемневшие старые зубы-башни болели в нежных деснах вогнутого берега.
– Какие предосторожности можно принять, чтобы больная не совершила суицид?
Шварц спрашивал униженно, разведя руки, словно показывая совершенную невозможность этого.
– Никакие.
Христианский разум – чудесная страна непристойностей, подумал несчастный писатель и зашагал дальше. Почему так трудно вообразить реальность без свойств, иллюзорную душу? Вся Европа умирает от заражения крови из-за этой неспособности. И они с женой были смертельно больны задолго до того, как она отреклась от спасительных пут логики и причинности.[102]102
Причинность – одна из наиболее характерных категорий классического рационализма. (Прим. ред.)
[Закрыть] Прекрасно быть умным – но теперь он горько сожалел обо всех своих нарочито-ироничных изречениях, к которым он прибегал в разговоре с ней, по своей глупости воображая, будто она, благодаря им, восхитится его интеллектом. Например, когда он изрек, будто парадокс любви заключается для него в том, что человек жаждет чего-то постоянного, а любовь не бывает долговременной. За свою неискренность в любви он получил сполна! Многочисленные врачи в белах халатах и с нежными, как мотыльки, голосами кружили вокруг да около.
Вот так началась жизнь в Вене, где были Фрейд и Юнг, – психоанализом под кисло-сладким соусом, если так можно выразиться. Оставим в покое нелепую старую рогожку Подсознания со всеми его ужасами и недоразвитыми страстями. Он довольно быстро уяснил суть и был околдован тем, что открывалось перед ним; в то первое время все горели энтузиазмом, никто еще не знал, что потрясающие перспективы ведут в cul de sac.[103]103
Тупик (фр.).
[Закрыть] Если один стежок в рогожке порвался, делать нечего – разве что, естественно, совершить самоубийство, и тогда вся рогожка превратится в клочья. Тем не менее, он многому научился в Вене. Это была проверка, и еще какая. Выпивка и булочки с кремом разоряли. Кто-то, наверно сам Фрейд, уверил его, что люди с сильным характером почти всегда серьезно больны. Мы живем, стараясь компенсировать этот изъян; наши слезы, порожденные болью, превращаются в драгоценные камни проницательности. «Болезнь устрицы – жемчужина». Однако после того, как пара стаканчиков приводила Сатклиффа в чувство, он понимал, что если счастье не нашло к нему дорогу, то в этом виноват он сам, так как не сумел хорошенько подготовиться к встрече. Теперь, после долгих лет злоключений, он осознал, до чего же неправильно западный человек воспользовался своими преимуществами; цель находилась не между ног, а между глаз – в шишковидной железе «белого видения».
Пока он смотрел на отдаляющиеся женские фигуры, нахлынули и другие воспоминания. Скоро подруги дойдут до конца набережной, и для него это будет сигналом – пора скрыться в боковой улочке, чтобы его не узнали. Чернокожая Трэш казалась сегодня очень оживленной, однако Сатклифф был слишком далеко, чтобы слышать ее грубоватый смех; и это к лучшему, ведь он мог бы прийти в ярость, вспомнив, как она спровоцировала сцену насилия в Сапфическом клубе, в одном из подпольных заведений Вены, и всё только из-за того, что он шел следом, рассчитывая отвадить партнершу и получить обратно жену. В ярости он погрозил Трэш кулаком и обещал побить ее, после чего получил удар в ухо, от которого у него зазвенело в голове. Дверь захлопнулась перед его носом, и какой-то Иуда щелкнул замком, оставив Сатклиффа одного на продуваемой насквозь улице, где пахло ночью и приближающимся снегопадом. Он зашел в кафе рядом и напился так, что мозги едва не отказали ему совсем. Он сказал себе, что Трэш не женщина, она работает на батарейках. На вешалке у входа он приметил трость, висевшую на ручке, и его озарило. Он ворвется в клуб и примерно накажет негритянку, которая встала между ним и его больной женой. Когда Сатклифф с украденным оружием приблизился к заведению, то с удивлением обнаружил, что дверь распахнута настежь. Нерешительно войдя, он сверкнул глазами в предчувствии побоища и медленно пошел по коридору, тянувшемуся вдоль тяжелых портьер из Дамаска, от которых пахло пылью и кошачьей мочой. Едва он переступил порог салона с высокими потолками, как свет погас, и он понял, что попал в засаду. Со всех сторон из-за занавесей выпрыгнули голые люди, которые принялись бить его палками и зонтами. Шляпа помялась, галстук с него стащили одним рывком; его сбили с ног, он рухнул на колени, но яростно защищался с помощью трости, пока, несмотря на пару удачных выпадов, его не разоружили незримые девушки и не подавили его сопротивление – он нюхом чуял, что это были женщины, так как не мог их видеть. Счастье еще, что они разбили только его очки, правда дорогие очки. Сатклифф как мог увертывался от лавины ударов. Он медленно отступал, двигаясь на четвереньках в сторону коридора, который вел к парадной двери, а как только оказался снаружи, его, покрытого синяками и вспотевшего от унижения, отпустили на все четыре стороны. Сатклифф постоял немного, посылая проклятия небу, однако легкие снежинки освежили его…
Вот так! В эту минуту его жена и негритянка повернули и пошли в обратную сторону. Настало время прятаться, и Сатклифф торопливо перебежал через дорогу, чтобы укрыться в боковой улочке, после чего медленно побрел назад в контору, где ему предстояло просидеть до шести часов, а потом – либо домой, где его поджидает чинный приятель, либо сразу в родной старый бар – плохо освещенный, мрачный и заставленный темной мебелью. Подходящий кокон для двух холостяков. Здесь он заказал себе выпивку и уселся, развернув женевскую газету, до того нелепую с виду, не говоря уж о дурацких статьях, что она вполне могла бы сойти за творение неграмотного идиота, обитающего в снегах на ближайшей горе. Одних новостей с театра военных действий было бы достаточно, чтобы ввергнуть читателей в отчаяние, но даже эти параграфы не производили должного впечатления, и отчасти в этом был виноват тот французский, на котором писал швейцарский журналист – что-то вроде овсянки, налитой в гитару.
Наконец-то появился Тоби, с важным видом переступив порог бара; ему очень нравилось быть шпионом, пусть даже кабинетным шпионом. Он носил темные очки и шляпу с чрезмерно большими полями и все время оборачивался, уверенный, что за ним идет «хвост», заглядывал под стол в поисках убийц и под кровать в поисках похитителей. Словом, не кабинетная крыса, а самый настоящий оперативный работник секретной службы. Сатклиффу надоедало смотреть на нелепые выходки приятеля, он разыгрывал его, подсовывая нечто более существенное вместо умозрительных страхов.
Время от времени он сообщал Тоби о странных телефонных звонках или о том, что загадочный черный автомобиль с закрытым кузовом – немецкий «Хорхе» с пуленепробиваемыми стеклами – проезжает по их улице после наступления темноты по нескольку раз. Так как автомобиль был полон вооруженных людей, то Сатклифф посоветовал другу обзавестись пуленепробиваемым жилетом, чтобы не бояться нападения, когда он возвращается с работы. Однако Тоби возразил – жилет слишком тяжелый и, не дай бог, можно заработать грыжу. Тем не менее, советы друга произвели на него впечатление, и теперь, когда он ходил по улицам, вид у него был настороженно-озабоченный.







