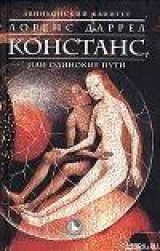
Текст книги "КОНСТАНС, или Одинокие Пути"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Глава восьмая
Исповедь
Настроение фон Эсслина было несколько иным, ибо он не стал ждать, когда волна оптимизма, поднятая приездом Констанс, спадет. Испытывая чуть ли не эйфорию, он въехал в Авиньон, желая попасть в часовню Серых Грешников, ибо его посетила новая идея насчет мессы и исповеди. Его каблуки уверенно стучали по невысокой дамбе, пересекавшей бурлящий канал со старомодными деревянными водяными колесами. Автомобиль фон Эсслина сопровождал весьма скромный эскорт, так как ему не хотелось привлекать лишнее внимание к своему генеральскому чину, кроме того, не стоило заполнять улицы вооруженными людьми без официального, так сказать, повода. Высокие двери из прогнившего дерева со вздохом отворились, и фон Эсслин перешел с каменных ступеней на деревянный порожек и из дневного света в слабо мерцающий свет расставленных повсюду свечей. В маленькой часовне никого не было, несмотря на зажженные свечи, которые как будто возвещали скорую службу. Три исповедальни, похожие на телефонные будки, были открыты. Рядом с ними фон Эсслин заметил электрический звонок и карточку с именем дежурного священника, которого, очевидно, надо было позвать. На минуту фон Эсслин присел на скамью, потом преклонил колени и помолился, словно желая предварить ритуал, заранее очистить его, прежде чем он будет совершен. Потом нажал на звонок и слушал, склонив голову, пока звук не затих где-то внутри церкви. Снаружи слышался лишь шорох водяных колес, которые гнали воду для работавших тут когда-то и давно исчезнувших кожевников. Наконец из-за алтаря, двигаясь очень медленно, как будто лениво, вышел дородный священник с массивной квадратной головой и густыми, постриженными en brosse,[141]141
Бобриком (фр.).
[Закрыть] седеющими волосами. Фон Эсслин вскочил. Завидев священника и помешкав несколько мгновений, чтобы успокоиться, он спросил на своем хромающем французском:
– Отец мой, я хотел узнать. По просьбе моих офицеров. Где они могли бы прослушать мессу и исповедаться?
Дерзкие черные глаза смотрели с жабьим безразличием; лицо священника не выражало ничего, пока он предавался размышлениям. Наконец, окинув генерала взглядом с ног до головы и не выказав ни грана подобострастия, он сказал:
– В Монфаве есть священник, который знает немецкий. Я позвоню ему, и вы можете исповедаться у него когда пожелаете, только сначала надо договориться. Когда бы вы хотели быть там?
– Через час, – ответил фон Эсслин, довольный, что сумеет так быстро сбросить с себя непосильный груз. – Это возможно?
Квадратноголовый священник опустил подбородок на грудь.
– Отлично. Через час. Сейчас я позвоню в Монфаве.
Все складывалось невероятно удачно. Священник повернулся на каблуках и медленно пошел обратно к алтарю. Фон Эсслин наблюдал за ним несколько секунд, немного выбитый из колеи его безразличием. Потом тоже развернулся и вышел из сумрачной часовни на солнечный свет, наружу, где его дожидалась свита. У него на сегодня было назначено несколько официальных визитов, и он отправился на них немедленно, чтобы не явиться в церковь слишком рано – пусть у священника будет достаточно времени для переговоров со своим говорящим по-немецки confrére.[142]142
Собратом (фр.).
[Закрыть] Прошло часа полтора, прежде чем он выехал на обсаженную деревьями, петляющую дорогу, которая вела в старинную деревню. Везде в реках поднялся уровень воды, и она с шипением бежала между зелеными лугами. Высоко в синем небе летали жаворонки. У фон Эсслина вновь поднялось настроение, и он вдруг заметил, что тихонько напевает мелодию из оперы. До чего же далеким, немыслимо далеким был теперь для него мир музыки!
Автомобиль с эскортом прокатил по зеленой лужайке перед старой церковью и остановился. Фон Эсслин энергично вышел из него и пружинистой походкой проследовал в полумрак церкви. Он больше не испытывал робости, убедив себя, что и в самом деле действует во благо офицерского братства. Однако в церкви было пусто и темновато – лишь дневной свет из высоких окон падал на большие, почти неразличимые изображения святых. Помедлив, он вошел в придел под номером IV, сел на скамейку и терпеливо подождал несколько минут; потом, решив не терять время даром, опустился на колени на prie-dieu[143]143
Скамейка, на которую становятся коленями молящиеся (фр.).
[Закрыть] и попытался произнести несколько искупительных покаянных молитв деве Марии, которыми как бы предварял более важный обряд – исповедь, которая должна была последовать за этим. Звук шагов – странная шаркающая поступь – привлек его внимание. Оказывается, из-за алтаря вышел священник и уже одолел половину пути к исповедальням с маняще распахнутыми дверьми. Он был крошечный, чахлый, смуглый, как почерневшая олива, и глаза его сияли умом. Нижняя часть тела приближавшегося человека была вся искорежена, ноги вывернуты вопреки законам симметрии, так что идти ему приходилось боком, раскачиваясь в вымученном ритме. Однако появление его было столь неожиданным, что фон Эсслин не успел даже толком его рассмотреть, – маленький священник, дружелюбно распахнув руки, уже приглашал в исповедальню. Фон Эсслин подчинился и, оказавшись в полумраке, стал смотреть на прорезь в деревянной перегородке, в которой никого не было видно – крошечный священник не доставал до нее головой. До фон Эсслина доносилось неровное тяжелое дыхание, и он произнес первую обязательную фразу peccavi:[144]144
Признание вины (лат.).
[Закрыть] «Отче, я согрешил».
Ответы и промежуточные замечания крошечного священника действительно звучали по-немецки – но с таким явным еврейским акцентом, что генерал едва не разразился проклятиями. Боги словно смеялись над ним! Неужели они намеренно назначили еврея отпустить ему грехи? Нет, не может быть. Но почему бы и нет? Что может помешать иудею стать католиком? Что? Увы, ничто не мешает. Несколько мгновений генерал никак не мог совладать с постыдной яростью – рука его сама собой потянулась к револьверу, пальцы осторожно и бессмысленно гладили рукоятку. Только этого не хватало, картавого выговора венского психоаналитика! Ему было мучительно слышать этот хорошо знакомый порок в произношении определенных слов. До чего же глупо получилось! Ему стоило больших усилий продолжить исповедь и, запинаясь, довести ее до конца, получив наставление и мнимое наказание, которое, согласно католическим канонам, подразумевало отпущение грехов и прощение. Все эти непредвиденные обстоятельства отчасти превратили исповедь в некий фарс. Из-за этого его терзали сомнения, он спорил сам с собой. Вот в таком состоянии растерянности он вернулся в свою штаб-квартиру в крепости. Его штаб занимал целый лабиринт соединяющихся между собой помещений, вход в который был только через центральную дверь в главном коридоре – мечта любого офицера спецслужб. В кабинете на стене висели карты, много карт, на которых были отмечены не только его несколько неопределенные владения, но также расположение основных частей дальше на севере. Он смотрел на все эти карты с неизменным энтузиазмом и благодушием. Новости из России беспокойства не вызывали, но все же свидетельствовали об определенном спаде – остановки, перегруппировки, усилившееся сопротивление. Что ж, с такими растянутыми коммуникациями нужно было предвидеть временную паузу для консолидации сил.
В тот же вечер Фишер, оставшись один в столовой, перечитывал свою единственную – так сказать, единственную интеллектуальную – собственность: «Шахматные задачи» Кропотника. Он был задумчив и не хотел ни с кем разговаривать, что отлично соответствовало настроению подошедшего позже генерала. В высокомерном молчании генерал съел свой обед. В его памяти все еще звучал голос с напевными, словно раскачивающимися интонациями, свойственными идиш, например, в таких фразах, как: «Welch einen Traum entsetzensvoll…»[145]145
Что за сон, наполненный кошмарами (нем.).
[Закрыть] Вдруг ему пришло на ум: а не окажется ли крошечный священник в один прекрасный день в гестаповском списке? Генерала несколько покоробило от этой мысли.
На другой день с утра было холодно и туманно, потом начался дождь; немецкий офицер приехал точно в назначенный час и, несколько напряженно выпрямив спину, сидел в служебном автомобиле – эта поза почему-то сразу наводила на мысль о его глухоте. От смущения он был чересчур педантичен, но все же чувствовалось, что ему приятно сопровождать двух хорошеньких женщин – Нэнси Квиминал решила вместе с Констанс посетить Ту-Герц. Над бурлящей рекой стоял туман, когда они проезжали знаменитый мост, оставляя позади скопление церквей и колоколен и беря направление на горы. Констанс сидела впереди рядом с шофером, с нетерпением читая указатели, которые были для нее бесценными напоминаниями о прошлом.
Глава девятая
Вновь Ту-Герц
Что касается работы в Авиньоне, то Констанс пока еще не решила, останется она или уедет, – ее смущало очевидное раздражение принца, который не допускал даже мысли о том, чтобы бросить ее одну, когда ему пора будет уезжать. Здешнее уныние и варварство, поистине средневековая антисанитария – ну как ей справиться с этим одной? Он спрашивал ее об этом, но Констанс понятия не имела, что ему сказать в ответ. Она словно бы ждала какого-то знака, знамения, чтобы все решилось само собой. А тем временем богатый гобелен, хранившийся в ее памяти, расстилался вокруг, украшенный густыми лесами и живописными пригорками над чистыми реками. Немецкий офицер вел машину не очень ловко, но осторожно, отгороженный своей глухотой. Нэнси Квиминал тоже молчала, хотя время от времени задумчиво поглядывала на Констанс. До чего же пустынными были дороги! Пригороды выглядели в зимнем свете мрачными и угрожающими – и не только выглядели, но и были такими. Ехать было недалеко, но Тюбэн прятался в собственной тайной лощине, так что, когда они въехали в поместье, из-за его уединенности им показалось, будто они проехали много лье.
Немец выключил мотор, и его шум, понемногу стихая, замер в лесу. Неподалеку стоял небольшой особняк, отсыревший и некрашеный, желоба для стока воды были завалены листьями, их было полным-полно и на крыльце, и на широкой каменной террасе, затененной штамбовыми розами. Прибывшие, все трое, сидели и молчали.
– Этот дом? – спросила Квиминал, и Констанс кивнула. – Я как-то была тут, давным-давно, еще девочкой. Здесь жила старая безумная дама? Да. Мы привезли ей яйца!
Констанс вышла из автомобиля.
– Мне надо посмотреть, все ли на месте.
Знакомым щелчком ее приветствовали ворота. Все канавы превратились в ручейки или болота, так как ночью шел дождь, однако теперь небо расчистилось. Сад, как всегда в эту пору, выглядел губительно заброшенным, – в ожидании лета, пчел, песен дроздов и кукования кукушек. Кухонное окно как было разбитым, так и осталось; Констанс заглянула внутрь и увидела стол, за которым вся компания часто собиралась поесть и сыграть в карты. В очаге было полно обрезков лозы и бумаги – наверно, в доме кто-то жил, и у Констанс сжалось сердце. Неужели и вправду здесь живут? Резко обернувшись, она крикнула:
– Надо поехать в деревню и взять ключи. Я хочу осмотреть дом.
Нэнси Квиминал пожала плечами.
– Bien sûr.[146]146
Конечно (фр.).
[Закрыть]
Но Констанс, когда оборачивалась, успела заметить какое-то движение в лесу, а потом увидела мужчину, топтавшегося на опушке и явно не знавшего, стоит ли возвращаться. Это был возчик Блэз, они вместе с женой присматривали за домом в последнее лето перед войной. Констанс стала настойчиво звать его, и в конце концов он с опаской двинулся ей навстречу, хотя узнал ее, только когда подошел совсем близко. Тут уж он бросился к ней бегом.
– Вас арестовали, да? – в отчаянии, едва слышно, спросил он, схватив ее за руки.
Однако Констанс, улыбнувшись, успокоила его, а так как они были довольно далеко от автомобиля, то она шепотом вкратце рассказала о своих делах и объяснила, почему вдруг оказалась в Ту-Герц. Блэз, прищурившись, внимательно слушал, глядя на нее с опаской и сочувствием. Но когда Констанс намекнула, что она только и думает о том, как бы вернуться в Ту-Герц и жить тут, он откинул назад голову и громко, восторженно рассмеялся.
– Погодите, пойду скажу жене! – воскликнул он. – Вот уж она будет рада.
– Но сначала мне надо посмотреть, что творится внутри! – воскликнула она в ответ, потому что ее все еще одолевали сомнения.
– Хорошо, – сказал он, вынимая из кармана ключ. – Заходите. Тут все, как было при вас. Все что нужно для проживания.
Странно было переступить порог темной кухни, в которой буфеты были высотой до потолка, а на столе остались отметины от ножей бывших поварих, к которым Констанс имела право причислить и себя. Она провела пальцем по каминной полке и обнаружила, что на ней нет пыли; кто же убирал в доме и содержал его в такой чистоте? Из слов Блэза стало ясно, что этим занималась его жена. Обсудив домашние проблемы, он вдруг спросил:
– А как там мальчики? Как они поживают?
Его вопросы застали Констанс врасплох, и ей стало не по себе.
– Хорошо, – ответила она, – очень хорошо.
– И Сэм?
Констанс была потрясена: ведь для Блэза Сэм все еще живой… и значит, он как бы не совсем мертв. И она тоже могла сказать себе, что он там, на службе в Египте, вместе со своим другом Обри. Неожиданно ее охватила радость, потому что она как бы получила его, своего мужа, обратно, хотя бы и таким фантастическим способом. Ей даже почудилось, будто Сэм крикнул «Браво!» и схватил ее за руку. Эхо этого возгласа и самого его присутствия перелетало из одной пустой комнаты в другую по всему дому; и Констанс могла свободно говорить о нем, потому что здесь он все еще был живой! Как психолог, Констанс осуждала себя за слабость, но как влюбленная женщина радовалась; возможность просто говорить о нем так, словно он не погиб, была счастьем, это помогало ей одолевать боль утраты, которую она загнала внутрь под напором собственной никчемной профессиональной гордыни. Более того, это был знак, которого она так ждала. Она будет жить в Ту-Герц с призрачным, мифическим Сэмом, она станет, скажем так, единственной владелицей тайны его гибели, до тех пор пока не износит свою печаль и тоску; она пробьется в богатую жилу боли, вызванной его гибелью и ранением Блэнфорда – в жуткое несчастье, замурованное внутри еще более страшной беды, внутри терзающей мир войны.
– Я буду жить здесь, – сказала Констанс и, уже сидя в автомобиле, взволнованно повторила это Нэнси Квиминал, которая весело кивнула в ответ.
Почему бы нет? В доме вполне достаточно мебели, чтобы приспособить его для жизни. По стеклянной крыше оранжереи с разноцветными окнами монотонно барабанил дождь. Там внутри стоял тот самый диван из кабинета психоаналитика – тихий, покорный, терпеливый, будто перенявший качества идеального психоаналитика. Констанс на минутку присела на него и услышала, как запела пружина. «В снах истоки ответственности», – мысленно процитировала она; вот и это был сон, с которым ей придется жить, – Сэм, какой он был и будет, изменившийся, приспособившийся к обстоятельствам; а все так или иначе связано с воспоминанием об убитом ребенке. Сколько же всего тут было, до сих пор будившего боль; но переживания были плодотворными, ведь только печаль может подарить такое богатство эмоций. Констанс будет жить в этом гористом краю, с которым связано столько воспоминаний, и плохих и хороших. Прибежала жена Блэза и стала бурно выражать свой восторг – она не смела и мечтать о том, что Констанс когда-нибудь снова вернется в Ту-Герц! Они с Блэзом обещали, что через несколько дней дом будет готов; а Квиминал сказала, что в пустовавшем сейчас доме ее сестры много постельного белья, посуды и мебели.
– Сначала надо получить разрешение, – сказала Констанс, – и проводить принца. Он рассердится, когда я скажу ему.
После продолжительного прощания с Блэзами Констанс и Квиминал повезли назад в город, и Констанс еще долго оглядывалась на свой «шато», прятавшийся среди зеленых лесов.
Принц был весьма многоречив, когда спорил с ней, – конечно же, он был против; однако его доводы лишь укрепили ее решимость.
– Хотите остаться? И что вы будете делать тут одна? – вопрошал он. – Ни телефона, ни радио, зима, снег, комендантский час… Боже мой, Констанс, soyons raisonnables![147]147
Будем благоразумны (фр.).
[Закрыть]
– Я остаюсь, – проговорила она, сжав его маленькие ручки своими – куда более сильными – руками. – Как только вы уедете, я переселюсь в свой дом. Мне это необходимо, неужели вы не понимаете?
– Типично по-женски! – сказал он, уже по-настоящему разозлившись.
– Ладно вам, – отозвалась Констанс. – Вы же знали, что такое возможно, когда мы собирались ехать сюда. Вы сами это предлагали. Поэтому я уложила два чемодана, которые вы пришлете мне с первым же курьером. – Принц издал рычание – оказалось, он всего лишь решил откашляться. – Я все тут организую, – крепче стиснув маленькие ручки, продолжала Констанс, – помещения, транспорт и все остальное. Фермер и его жена будут мне помогать. Если предоставят служебный автомобиль, то мне всего ничего до города.
Пожелав друг другу спокойной ночи, они печально расстались, а утром, когда Констанс спустилась вниз, принца уже не было. Ночью, еще даже не рассвело, за ним приехал автомобиль, и принц захватил с собой все свои вещи, оставив Констанс короткую и сердитую записку: «Забираю вещи, потому что, возможно, сразу поеду в Женеву. Пожалуйста, приезжайте почаще хотя бы для того, чтобы проконсультировать Аффада».
Констанс почувствовала себя брошенной, одинокой и, разумеется, расстроилась; она-то рассчитывала, что он еще вернется и поможет ей устроиться. А теперь… Но были и добрые новости. Мэр получил в свое распоряжение служебный автомобиль для Красного Креста – с водителем в форме, правда, на автомобиле будет флаг со свастикой. А потом пришел глухой офицер и объявил, что вилла, которая находится в горах выше Ту-Герц, является опорным пунктом. Это означало, что там будет постоянный патруль, и Констанс может утром приезжать в Авиньон и уезжать домой вечером в служебном автомобиле. О таком удобстве и мечтать было нельзя, так что оставалось только радоваться удаче. Все складывалось как нельзя лучше – если бы не гнев принца. Констанс было неизвестно, заедет ли он напоследок в Авиньон или ее неповиновение рассорило их навсегда.
– Ну и ладно, – сказала Констанс. – Полагаю, за все эти милости нам надо благодарить генерала. Дай бог, чтобы не последовало каких-то особых условий.
Условий как будто никто выставлять не собирался, ибо генерал не показывался; он был занят решением личных проблем, и в конце концов ему подобрали подходящую виллу. Наконец-то он мог избавиться от столпотворения, которое действовало ему на нервы. Он даже не соизволил устроить прощальный ужин или хотя бы сообщить о своем отъезде – в один прекрасный день он просто исчез вместе с денщиком и полудюжиной чемоданов. Фон Эсслин унаследовал бывшую резиденцию лорда Банко, где его обслуживали денщик, повар, адъютант и офицер связи, который также исполнял обязанности стенографиста. Обязанностей у самого генерала прибавлялось, и его действия становились более «решающими» с точки зрения профессиональной. Его успехи совпали с первой проигранной в России битвой, а также с менее масштабными, но неприятными поражениями на Ближнем Востоке. Пунктирных линий на картах становилось все больше, попутный ветер победы несколько поутих. Фон Эсслина радовал отъезд из замка, потому что останься он там, на душе было бы гораздо тяжелее. Что-то менялось, уже изменилось, у немцев пропал прежний кураж. Надо сказать, торопливое и едва ли не тайное «передислоцирование» генерала разозлило мнительного Фишера, который отпраздновал это событие по-своему, устроив пивную вечеринку, на которой сам же до чертиков напился. Пирующие наслаждались свободой, как это бывает со школьниками в отсутствие учителя. Они распевали песни, а под конец стали стрелять в свечи, поставив их на каминную полку; над нею было высокое зеркало, в котором отражались все эти игры с оружием. Пули с оглушительным треском дырявили то зеркало, то стену. Никому не удалось попасть в огонек свечи, то есть в цель. Все крепко напились, смеялись без стеснения, а в перерывах между взрывами хохота орали песни и выкрикивали боевые кличи. Когда у Фишера кончились патроны, он устало опустился на стул, стоявший возле стены, и сказал оказавшемуся рядом офицеру:
– Знаешь, что мне нравится? Брать заложников! Останавливаешь автобус или поезд с рабочими. Смотришь на их физиономии и говоришь: «Мне нужен ты, и ты, и ты». – Он попытался изобразить себя самого в образе жестокого воина. Помолчал немного. – Потом я говорю: «Выходи». – Он опять помолчал, будто выжидая, когда рабочие уяснят смысл приказа. – Тут начинается. «Кто? Я? Но я ничего не сделал. Совсем ничего. Почему я?» А я говорю: «Мне известно, что ты сделал. Выходи и поторапливайся».
Он вскинул пистолет – для большей убедительности. И вдруг его лицо сморщилось, затем на нем появилась усмешка, после чего он разразился грубым и каким-то судорожным хохотом и, хлопая себя по коленке, еще долго повторял с большим удовольствием: «Кто? Я? Но я ничего не сделал». Твердил, что до смерти ему не забыть выражения их лиц, когда они это говорили. И продолжал хохотать до слез, до изнеможения. После полуночи веселье стало стихать. Но тут молодой эсесовец решил изобразить русских – как они швыряют в камин пустые бокалы. Но нашлось всего несколько человек, пожелавших последовать его примеру; эта выходка повергла всех в задумчивость. Мысль о том, что на данном этапе войны подобная шутка не совсем уместна, Фишера не смутила, и он с готовностью избавился от двух пивных кружек, но тут кто-то схватил его за плечо и уговорил прекратить это пьяное безумство. Когда компания решила наконец разойтись, вид у него был измученный и мрачный.
Так все распрощались с фон Эсслином – с его невыносимым аристократизмом и леденящим высокомерием. Естественно, его имени никто не называл, да и сам факт переезда не обсуждался. Только интеллектуал Смиргел сохранял спокойствие и не очень охотно участвовал в этой попойке, но изредка выдавливал из себя улыбку, как бы говоря, что он не против такого молодечества.
Остаться одной вот так вдруг совсем не просто, остаться одной в городе, который стал совсем другим, – ничуть не походил на солнечно-золотистый разнеженный Авиньон того лета. Зимний ветер, кружащиеся листья, бурлящая река у крепостных стен – все это придавало городу совсем иной облик, но именно с этим незнакомым городом ей теперь предстояло остаться один на один. Правда, она сама жаждала этого, сама настояла на одиночестве – и не отрекалась от него, потому что оно было ей необходимо. Все же после отъезда принца Хассада начались сумерки, зимние сумерки, населенные немцами, началась нелегкая жизнь с бытовыми трудностями и комендантским часом, которую немцы принесли с собой; жизнь с продуктовыми карточками и приказами, ограничивавшими передвижение, – все это мешало нормально работать, вызывало апатию и раздражение. Люди постоянно недоедали и мерзли. Продуктов не хватало, а если и были, то их надо было припрятывать, чтобы не отобрали немцы. Вот тут-то Констанс научилась и настойчивости и дипломатичности – да и ее знание немецкого языка помогало ей в бесчисленных препирательствах с офицерами службы снабжения или с мелкими чиновниками, старавшимися понравиться немецким начальникам. Некоторое время она даже взывала к Петэну, рассчитывая получить хоть какую-то независимость, однако образ старого маршала быстро тускнел на фоне насильственной депортации евреев и облав на потенциальных рабочих для немецкой военной промышленности, ибо у него не было почти никакой власти, и в обществе росло раздражение – из-за бесконечного его кривляния, из-за наглого злоупотребления доверием людей, а неудовольствие вскоре непременно должно было перерасти в отчаяние. Так и должно было случиться, как только люди поняли, что их хваленая независимость от немцев – пустые слова. Как ни странно, чувство стыда лишь усилило ненависть к англичанам, которые, в отличие от французов, отказались от всяких компромиссов с фашистами. Кроме того, люди и сами побаивались устраивать инциденты здесь, в «свободной зоне», из-за которых могли бы пострадать все – ответные меры немцев были скорыми и не очень избирательными. Ну а рассердить их ничего не стоило. За один случайный выстрел из автомата они могли – и часто именно так и поступали – уничтожить всю деревню. Кроваво-красные объявления были очень простыми: «Германское верховное командование ведет беспощадную борьбу с franc-tireurs. Их ждет жестокое наказание».
Переезд Констанс назначила на воскресенье и пригласила в помощницы Нэнси Квиминал. Если у Констанс и были страхи или опасения насчет того, что в Ту-Герц ей будет очень одиноко, то они мгновенно рассеялись – с такой радостью ее приняли Блэз и его жена, не считая их троих детей. Весь дом был вымыт и вычищен снизу доверху, в небольшом камине уютно потрескивала виноградная лоза, блики пламени играли на медной посуде, которой были увешаны стены, – эта batterie de cuisine[148]148
Кухонная батарея (фр.).
[Закрыть] могла пригодиться для приема гостей когда-нибудь в будущем. Посуда, скатерти, простыни и одеяла – все было заботливо сохранено женой Блэза, и теперь Констанс просто диву давалась, как преобразился ее дом. Снаружи стояла канистра с керосином, который наливали в маленькие уютные лампы. Констанс вся дрожала, когда садилась за вымытый стол, не сводя взгляда с огня и чувствуя, как наливаются румянцем ее щеки в тепле кухни. Бессвязные мысли о Сэме мешали ей успокоиться, и хотя Квиминал чувствовала ее волнение – она держала ее за руку, – его причины оставались для нее загадкой. А все дело было в тайной боли из-за невидимого Сэма – это он когда-то чистил газетой маленькие лампы и аккуратно ставил их в буфет до следующего лета – они все упрямо считали, что оно настанет. Блэз отыскал припрятанную бутылку вина, довольно крепкого, и все выпили по бокалу за «успех дома». Это было чудесно – прыгающий огонь, запах еды (a ragout), которую готовили на старой, топящейся углем плите, детский гомон… все это, так казалось Констанс, было добрым знаком. Работать и есть она будет в кухне, из большой, похожей на сарай буфетной сделает гардеробную, спать будет в своей прежней спальне – в той самой, что она делила с Сэмом, так как эта спальня не продувалась северным ветром. В хорошую погоду можно спать в оранжерее, которая, несмотря на частые перебои с водой, вся была густо оплетена свежими побегами роз, защищавшими ее от солнечного света, – казалось, будто ты на дне какого-то пруда. Там же, как на якоре, стоял старый диван, дожидаясь лучших времен.
Женщины привезли с собой немного еды – рис, овощи, кофе, сыр. Констанс не сразу, но уговорила Нэнси Квиминал остаться на ночь, и жена Блэза заботливо приготовила ей постель в прежней комнате Блэнфорда.
– Совсем как летом! – воскликнула Нэнси Квиминал. – Здесь можно забыть о бошах – и все-таки мы всего в нескольких километрах от города.
В небольшой деревушке немцы и вправду почти не показывались; благодаря этому Блэз, как обычно, сделал приготовления на зиму и вообще вел себя так, словно не было ни войны, ни немцев, ни дефицита продуктов. В конце года он умудрился, как всегда, купить в Тюбэне пару гусей, двух поросят и полдюжины цыплят. Двор был со стороны леса. И можно было распределить живность таким образом, чтобы ее не видели проезжающие мимо патрули. В старинном провансальском сундуке у него хранилось немного муки, риса, чая, а также засушенные травы для лечебных чаев – tisanes, столь любимые французами, которые с их помощью поправляли здоровье и уравновешивали лишние жиры в пище. Каждый год он делал домашнее вино, но в небольших количествах, пользуясь виноградниками соседей, где сборщики не замечали или нарочно оставляли несколько гроздей. Это называется grapiller: небогатые люди собирают оставленный на лозах виноград, чтобы сделать себе вина. Вот и Блэз тоже. Его вино было хорошего цвета – как настоящий француз он поднял бокал на свет, прежде чем выпить: у вина был «букет», едва заметная тень прохладной земли, теплого погреба, неуловимые прикосновения человеческих рук, которые срывали грозди, благоухание магмы десятилетий больших винных прессов… любовь и ласка. Все, что давно считалось романтикой и фольклором, продолжало существовать в этой кухне с прыгающим пламенем и розовым светом ламп, зажженных заблаговременно, чтобы как следует осветить все эти бессмертные драгоценности. Жену Блэза звали Колетт, это была гордая и сильная женщина из протестантской части Севенн, где долго загораются, «как каменный дуб», говорит пословица, «зато долго горят». Констанс давно уже пришлась ей по душе, и она была искренне рада, что эту ужасную зиму та проведет вместе с ними в Ту-Герц. Нэнси Квиминал тоже заслужила ее расположение и симпатию, да и невозможно было устоять перед ее миловидностью, искренностью и прямодушием. Женщины привезли супругам «последние новости» из Авиньона обо всем, что творилось в мире, словно те жили за сотни миль; это были мрачные новости о взысканиях и арестах – и в некоторых случаях о непостижимой бессмысленной жестокости, к которой, как это ни парадоксально, они были абсолютно не готовы. Они не были готовы увидеть повешенных на платане людей – напротив Папских дворцов. А в другой части города на одном из балконов второго этажа болтались на веревке юноша и собака. Все кровавые эпизоды имели свою предысторию, и Нэнси Квиминал рассказывала их одну за другой своим низким мелодичным голосом. Потом наступила тревожная тишина, и черный мрачный взгляд Колетт переходил с лица на лицо, словно вопрошая о причинах и смысле происходящего.
– Вам не будет тут страшно? – спросила она Констанс и, пожалуй, успокоилась, когда та покачала головой.
– Не так страшно, как в городе, уверяю вас.
И правда, тут не действовал комендантский час и не было патрулей, которые время от времени устраивали стрельбу по мишеням, выбирая в полной тьме освещенное, несмотря на запрет, окно.
Будучи настоящими крестьянами, Блэз и его жена все же ушли рано, чтобы лечь спать в обычный час, но прежде Блэз спустился в погреб и включил старенькое радио, настроенное на Лондон, чтобы послушать новости с фронта. Это было очень опасно и могло рано или поздно привести к страшным последствиям, однако Блэз не мог лишить себя этой последней связи с внешним миром, делавшей сносной его жизнь в деревне, которая иначе ничем не отличалась бы от жизни Робинзона Крузо на острове.
– Вот еще что, – сказала Колетт. – После наступления темноты по дороге начинают ездить автомобили. Не открывайте, если к вам постучат. Так оно надежнее. Много людей прячется в горах, чтобы не идти на принудительные работы. В конце этой дороги они сворачивают в лес, и были таковы. Здесь последний пункт. Они идут ночью, иногда слышно, как они разговаривают. Однажды я видела огоньки сигарет в темноте. Но я никогда не отпираю дверь, и ко мне никто не стучится.







