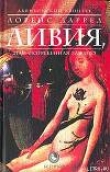Текст книги "Любовь и Рим (По воле рока)"
Автор книги: Лора Бекитт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА VIII
Мелисс шел вперед, ступая, словно по размытой глине. Его правая рука была в крови, он не отнимал ее от раны, и она онемела так, что он ее почти не чувствовал. Он говорил себе: «Там должен быть поворот, не пропусти, а здесь нужно перейти мост». И вот наконец подъем – Мелисс остановился и оценил его взглядом. Пожалуй, не потянуть. Почему она, такая низкая, всегда была так высоко, почему?! Вздохнув, он начал взбираться наверх.
Он шел очень долго, потом остановился. В глазах сгущалась черно-красная пелена. То становилось тихо, то что-то словно бы обрушивалось навязчивым звоном. Внезапно мир закачался и поплыл, грозя исчезнуть совсем. И тогда Мелисс наконец упал, неловко, разбивая колени и локти, и остался лежать, неподвижный, как труп.
Его нашла Стимми, когда вышла запереть ворота; к тому времени Мелисс снова пришел в себя от свежего ветра и холода твердой земли. Опасливо склонившись над ним, рабыня увидела огромные зрачки без блеска, словно бы поглотившие тьму, и полуоткрытые запекшиеся губы. Она узнала лежащего, а потому, немного поколебавшись, отправилась к хозяйке.
Как водится, Амеана была не одна. Она недовольно повела плечом и поджала губы, но все же вышла из комнаты вслед за рабыней. Выслушав нумидийку, резко произнесла:
– Сейчас мне только не хватало испачкаться в крови! Стимми замерла с привычно безразличным видом. Если бы Амеана велела ей оставить раненого там, где он лежал, она бы, наверное, так и сделала.
– Ладно, – решила гречанка, – позови садовника, пусть тебе поможет. Сбегай за врачом. Делай, что считаешь нужным, и больше меня не беспокой.
Перед тем как вернуться к гостю, Амеана выпила немного неразбавленного вина, отчего ее щеки загорелись, а губы стали пунцовыми. Даже не слишком внимательный человек сумел бы разглядеть произошедшие в ней перемены. Амеана никогда еще не была такой, полностью растворившейся в своих чувствах, столь явно несущей в себе некую волнующую женскую тайну. Даже ее тлетворная, ядовитая прелесть, ее изощренная красота, казалось, уступили место особой сияющей мягкости и нежности.
Карион сидел на обитом вышитой материей низком ложе с изящной спинкой и бронзовой отделкой по краю и смотрел на нее испытующе и смело.
– Что случилось? – спросил он.
– Ничего. – Амеана улыбнулась. – Так, досадное недоразумение.
Она села рядом.
– Будь моей! – сказал юноша. – Сегодня, сейчас!
Женщина чуть поежилась, обнимая руками свои обнаженные плечи. Возможно, она решилась бы, но ей мешало присутствие Мелисса – пусть даже где-то там, в дальних комнатах, (а если он умрет и вдобавок ко всему придется возиться с телом?!) и еще – странное ощущение неверия в происходящее.
Она промолвила:
– Не желаю, чтобы это было так, как… с другими. Карион взял ее руку в свою и гладил, нежно лаская пальцы.
– Ты хочешь, чтобы я женился на тебе?
По красивым губам Амеаны скользнула улыбка.
– О, нет! Я никогда не потребую от тебя такой жертвы! – Она встала, освобождая руку, и прошлась по озаренной золотым светом комнате. Ее белокурые волосы переливались множеством оттенков, одеяния легко колыхались, источая аромат духов. Голос привычно вибрировал, но в нем не было сладострастных нот, а словно бы созданные рукою небесного чеканщика черты лица исказила боль. – Я не хочу скрывать свое прошлое. Я всю жизнь торговала собой, это началось, когда мне не исполнилось и пятнадцати лет. Я знала стольких мужчин: наверное, несколько сотен, а, может, и больше! – Амеана перевела дыхание, и в этот миг из ее широко распахнутых глаз с холодным любопытством глянуло другое, расчетливое и бездушное существо. Карион ничего не заметил, и женщина продолжила: – Я никого не любила, я отдавала свое тело, но не душу, так мне казалось, и все же… что-то уходило, исподволь, незаметно, и в какой-то момент я подумала, что уже растратила всю себя, свою сокровенную сущность, но нет… Когда я встретила тебя, то окончательно поняла, как сильно мне надоела такая жизнь. Меня давно не радуют деньги, вещи, все эти празднества и оргии. Давай уедем! Я располагаю большими средствами, станем жить в уединении, ты будешь сочинять свои стихи и любить меня… сколько захочешь и сможешь. Я старше тебя, и намного, и если ты посвятишь мне хотя бы несколько лет, я буду счастлива до конца своих дней. Скажи, кто я для тебя… теперь?
– Кто? Та, что возникла из тумана действительности, пришла из глубины тысячелетий, чтобы сделать мою жизнь такой, какой ей предначертано быть! – легко произнес Карион.
Амеана смотрела ему в глаза. В какой-то миг в ее взгляде мелькнуло и исчезло предчувствие грядущих душевных терзаний.
– Так ты согласен?
– Конечно, моя госпожа!
– Но ведь ты наверняка мечтал не о такой…
– Скромной, счастливой, замкнутой жизни? Я мечтал о великом творчестве, а это сбудется, я уверен!
– И все-таки ты должен подумать, – тревожно улыбаясь, произнесла Амеана, – хотя бы до завтра. Приходи вечером, и я постараюсь не обмануть твоих ожиданий.
Признаться, ее несколько путал его пыл, она боялась, что не сможет ему ответить, не сумеет стать достаточно искренней. Что ни говори, между ними лежала мрачная пропасть, которая представлялась Кариону чем-то вроде заманчивой внутренности шкатулки с секретом, тогда как для нее…
Проводив гостя, Амеана быстро вернулась в дом, обнаружила, что Стимми не нашла лучшего выхода, чем устроить Мелисса в ее спальне. По словам рабыни, он настоял, чтобы его проводили именно туда. Врач уже ушел: он сделал все, что нужно, и велел передать, что рана не опасна для жизни.
Амеана вошла в комнату, скрывая раздраженность, и остановилась возле ложа. Врач дал Мелиссу какое-то питье, отчего горячечный свет в его глазах уступил место тусклому сонному блеску. Он бессильно распластался под покрывалом, и в нем совсем не чувствовалось неутолимой свирепой жажды мести и жизни, прежде сжигавшей и тело и душу.
Женщина без опаски присела на край ложа и задала вопрос:
– Кто это тебя?
– Да так… напоролся, – нехотя ответил он. Потом прибавил: – Просто очень хотелось оказаться в твоей постели.
Амеана нахмурилась:
– Это место занято – отныне и навсегда.
– Не понимаю тебя.
– Я влюбилась, – просто сказала она.
Мелисс даже не вздрогнул. И только его взгляд как-то странно растекался по комнате, избегая возбужденного взора Амеаны.
– Он, должно быть, богат?
– Вовсе нет. Скорее, беден. И… очень молод.
– А, вот что! – Он словно бы сразу все понял. – Я забыл: у тебя же есть деньги. Ты сделала правильный выбор. Даже денег может быть слишком много. А молодость…
– Ты бы хотел стать моложе?
– Я? Нет. Я никогда не знал, что делать с молодостью, с жизнью, с деньгами.
– Потому что не умел смотреть вперед.
– А ты умела?
– Я изменилась.
– Пустое! Люди никогда не меняются. Боги создали тебя продажной, такой ты и останешься, даже если перестанешь спать с мужчинами за деньги. А я? Вот уже много лет мне не случалось никого убивать, но это вовсе не значит, что я сделался другим.
– Я думала, тебя давно нет в живых, – помолчав, промолвила Амеана.
– Ты всегда на это надеялась.
Он вдруг понял, что не ревнует Амеану ни к ее настоящему, ни к ее будущему. Возможно, что-то и впрямь изменилось? Мелисс повернул голову к стене, словно бы собираясь заснуть, и женщина не видела его ничего не выражающих, равнодушных, тусклых, не пропускавших света глаз.
…Карион вышел на улицу и остановился. Высоко в небе мерцали звезды, и он смотрел наверх, очарованный бесконечностью, ее отчасти усыпляющей, торжественной, таинственной тишиной. В своем воображении он словно бы качался в невидимой, мягко провисающей паутине посреди Вселенной, и перед ним лежала, как на ладони, вся прошлая, настоящая и будущая жизнь. Он был объят опьяняющей внутренней дрожью, охвачен предчувствием страсти – и в то же время где-то в глубине души удовлетворен, спокоен.
Он вернулся домой не спеша, наслаждаясь вечерней прогулкой. То далекий, то близкий немолчный гул – реки, чьих-то шагов, разговоров – казался ему чуть ли не голосом сошедших на землю небожителей.
Карион застал дома одну лишь Тарсию, она сидела при свете масляной лампы, и было так странно видеть ее замершей, неподвижной. Впрочем, что в ней застыло уже давно, просто Карион не замечал или не хотел этого замечать – в силу возраста и своих эгоистических устремлений.
– Привет, мама! Ты одна? Элия еще нет?
– Нет. Как ушел утром, так не возвращался.
Карион благодушно улыбнулся:
– По-моему, у него появилась подружка!
– Может быть, – устало произнесла Тарсия. Карион сел.
– Я все решил, – внезапно произнес он. – Мы уедем вдвоем.
Тарсия тихонько вздохнула.
– Ты говоришь о своей подруге? О Кирис?
– Да. – В его голосе были мечтательность, твердость и едва прикрытое спокойствием блаженство.
Он миновал тот период, когда чувство было молчаливым и скрытым, теперь ему хотелось поделиться своей радостью. Он был открыт, в нем не чувствовалось ни тени свойственного более зрелому возрасту страха перед непроверенным, непрожитым, страха перед будущим.
«Ты слишком искренне принимаешь жизнь», – как-то сказал ему Гай Эмилий, и это было правдой.
Хотя Тарсии не хотелось ни о чем говорить, она преодолела себя и пошла ему навстречу.
– Наверное, я должна познакомиться с ней? – спросила женщина и слегка удивилась, когда Карион ответил:
– Это лишнее. Ты не поймешь…
– Не пойму чего?
Молодой человек молчал. Что-то словно бы царапало его сердце, он не мог понять, что. Прекрасная Амеана… Это сочетание игривого ума и заметной разочарованности в жизни…
– Как же все-таки ее настоящее имя? Это ты можешь мне сказать?
– Могу. И сказал.
– Амеана?! – воскликнула Тарсия.
Карион усмехнулся, чуть уязвленно, самолюбиво. Он словно бы не замечал внезапно вспыхнувшего тревогой и ужасом взгляда матери.
– Так ты знаешь? Конечно, в Риме не может быть двух столь известных женщин с таким именем!
– Дело не в этом, – сказала Тарсия, поднимаясь с места. – Ничего не может быть хуже того, что случилось с тобой. Скажи, ты с ней спал?
– Если и да, то что?
– Скажи! – крикнула она, возвышаясь над ним, вне себя от горя и гнева. Кариону почудилось, будто мать хочет его ударить.
– Еще… нет, – тихо ответил он.
Женщина перевела дыхание. Она сникла, и в то же время что-то укрепилось в ее душе, затвердело. Она усмехнулась, быстро убрав с лица выбившуюся из прически рыжую прядь.
– Странная вещь… эта жизнь. Думается, вытянешь воз и все, больше не сможешь. Но нет…
И стала рассказывать. Тарсия говорила долго, и сухие, даже жестокие слова в ее устах звучали как-то по-особому, ибо она обладала даром верной интонации, скромной выразительности и искренности, идущей прямо от сердца.
Карион сидел и слушал. Он испытывал странные чувства. В какой-то миг ткань действительности треснула, образовалась дыра, он смотрел туда и ничего не понимал. Теперь он знал наверняка только одно: с этого момента ничто и никогда не будет прежним.
«Знания нет, есть лишь видение». Кто это сказал? Кажется, Гай Эмилий.
– Неужели ты ничего не помнишь? – спросила Тарсия. – Тебе ведь было года три, не меньше.
– Нет.
– Наверное, ты просто очень хотел забыть.
– Возможно… Так значит, Элий – ваш с Элиаром сын? А я – твой приемыш?
– Элий… Его настоящая и… давно умершая мать из тех, кто отдается римским воинам за улыбку, за кусок хлеба. Элиар принес его с войны.
– Мне всегда казалось, они очень похожи.
– Элиар и Элий? Да, их вполне можно принять за отца и сына. Но ты понимаешь, в таких обстоятельствах ничего нельзя знать наверняка. – Она посмотрела ему в глаза. – Так ты не догадываешься?
Он съежился, словно боясь себя, и еле слышно прошептал:
– Нет.
– Амеана и есть та женщина, у которой я тебя взяла. Она твоя настоящая мать.
Тарсия ожидала чего угодно, но он взял ее руку в свою и прижал к груди так сильно, что женщине стало больно. Губы Кариона были крепко сжаты, а глаза странно сухи: казалось, в его душе что-то раз и навсегда выпито до самого дна.
– Наверное, я убила в тебе нечто очень важное, но пойми, этим я спасаю тебя.
Он молчал. В его душе эхом звучали слова Гая Эмилия: «Порою мы можем что-то остановить, но не останавливаем и при этом ошибочно полагаем, будто идем вслед за надеждой. На самом же деле – повинуемся необъяснимому стремлению к самоуничтожению».
…Спустя сутки, поздно вечером Карион стоял на двухарочном мосту, одном из самых красивых римских мостов, ведущих от Марцеллова театра на Тибрский остров. Под ногами бурлила река; клокотала и вздымалась, широкими потоками обегая вбитые в дно опорные столбы и сваи. Над головой висело черное небо.
Он не собирался бросаться вниз – он думал, без конца вспоминая свой последний разговор с Амеаной.
– Скажи, у тебя были дети?
– Нет. Тот образ жизни, что я вела, не позволял мне…
– Понимаю. Я спрашиваю о другом: когда-нибудь ты производила на свет ребенка?
– Какое это имеет…
– Неважно. Отвечай!
– Да… однажды.
– И где он сейчас?
– Он… умер.
– Кто это был? Девочка? Мальчик?
– Мальчик.
– Сколько бы ему было лет, останься он жив?
– Не помню. Около пятнадцати.
– Не лги. Нервный смешок.
– Ну… возможно, немного больше. Я не такая старая, как тебе кажется.
– Ты дала ему имя? Как его звали? Тоже не помнишь?
– Помню. Карион.
– Почему ты никогда не спрашивала, как меня зовут… по-настоящему?
– Не знаю. Я совсем забыла об этом. Я привыкла называть тебя Гаем Эмилием. Кстати, я вспомнила: точно так же звали одного юношу, который приходил ко мне… очень давно. В нем было что-то особенное, необычное, тогда он нравился мне… больше всех. Но он родился патрицием, и, конечно, у него была другая судьба.
– Ты с ним спала?
Тогда Амеана впервые улыбнулась, немного жалко, хотя ее взгляд оставался невозмутимым и жестким.
– Я со всеми спала, мой мальчик.
…Карион закрыл глаза, чувствуя легкий ветер на своем лице, словно прикосновение неких шелковых крыльев.
Окружающего мира не существовало, была лишь беспредельная пустота, замершие мысли, парализованная воля. У него оставалась одна маленькая зацепка, сродни надежде… Гай Эмилий Лонг в самом деле мог быть причастен к его появлению на свет. Карион знал привычку Тарсии («Моя мама!» – с не остывающей нежностью повторял он) вспоминать то, что говорил ее отец. И сейчас он тоже мог позволить себе думать о том, что произнес тот, кто дал ему так много, чьи представления о жизни тоже были несколько искаженными, неправильными.
«Для творчества нужно не так уж много, – утверждал он. – Всего-то – уметь четко воспринимать внешние формы и обладать способностью постигать внутреннюю сущность вещей. И если выдуманный мир заменяет тебе остроту подлинной жизни…» «Реальная жизнь, – сказал себе Карион, – оказалась сильнее». Сейчас ему чудилось, будто он никогда не станет прежним, что эта рана всегда будет болеть, пусть даже под слоем повязок, наложенных временем, новыми впечатлениями… «Где мне брать силы, если случится что-то непоправимое?» – однажды спросил он у Гая Эмилия. Только теперь Карион обратил внимание: Гай не сказал, что непоправимого не существует. Он ответил: «От матери-земли, как сын Посейдона и Геи, великан Антей». «От земли, – прошептал Карион одними губами, – от земли!» Он радовался жизни, он нес в себе огонь и, ему это нравилось, но сейчас то неровно мечущееся пламя, в какое превратился былой свет в душе, тяготило и беспокоило его, ему хотелось темноты. И забвения. «Ты можешь убить себя, но свое творчество, свои будущие стихи – не имеешь права», – сказал бы Гай Эмилий. «Все самое лучшее в моей жизни уже состоялось, – мысленно отвечал Карион. – И обернулось пустотой».
Он прицельно посмотрел вниз. Вода. Слишком холодная и быстрая для того, чтобы безропотно принять еще сохранившиеся в нем частички человеческого тепла. Он сделает это иначе. Не то чтобы он не хотел жить – просто больше не видел в жизни никакого смысла. Лучше умереть сейчас, чем страдать до конца и быть собственной тенью.
Той ночью он не вернулся домой, он остался наедине с внешней – и своей собственной пустотой. Он думал. Он все еще пытался решить.
…Солнечный свет – он был везде, заливал все вокруг, бесстыдно лез во все щели, пробивался сквозь занавеси, обжигал кожу, слепил глаза. Но даже если б на Рим внезапно опустилась ночь, Элий бы этого не заметил. Они с Дейрой поднимались по лестнице, спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу, опьяненные бесчисленными поцелуями и ожиданием еще больших радостей, какие надеялись получить в пустой квартирке, в роскошной, зовущей полутьме, за закрытыми ставнями и дверями.
– Дома, правда, никого нет? – опасливо допытывалась девушка.
– Никого! Мать в эти часы всегда уходит на рынок. Карион тоже где-то бродит со своими стихами.
– А тот человек, с которым живет твоя мать?
Элий нахмурился, на мгновение задержавшись на ступеньке.
– Он исчез. Мать не хочет ничего говорить, а я и не спрашиваю. Мне он никогда не нравился. Как посмотрит, так сразу понимаешь: хорошего не жди.
Они вошли в квартирку. Сильно нагретый тяжелый воздух. И едва уловимый запах заброшенности, странным образом поселившийся здесь в последние дни, несмотря на то что в комнатках было чисто убрано, а все вещи лежали на своих местах.
Элий остановился перед Дейрой и замер, слушая бешеный толчки сердца в своей груди. Девушка пытливо смотрела на него своими темными глазами.
– А ты женишься на мне… потом?
– Женюсь! – пылко прошептал Элий.
Если бы в эти минуты она попросила бы его совершить восхождение на Олимп, он согласился бы и на это.
…Они не помнили, сколько времени провели в любовном угаре, обретая то, что обретаешь лишь раз в жизни, в юности, пока Элий не уловил что-то постороннее. Он словно бы почувствовал толчок – на самом деле это был внезапно раздавшийся звук – и понял, что задремал. Лежащая рядом Дейра испуганно приподняла голову; ее пальцы вцепились в измятые простыни.
Кто-то вошел в дверь и пересек помещение уверенным шагом. Все еще с трудом соображая, Элий быстро протянул девушке ее тунику и кое-как оделся сам.
– Наверное, это Карион! – шепнул он Дейре.
Ее глаза округлились.
– Что же делать?
– Ничего. Возможно, он уйдет.
Они затаились в жаркой тишине, обратившись в слух. Временами в соседней комнате раздавались приглушенные звуки, иногда они исчезали, потом появлялись снова… Карион не уходил, он что-то делал, и в конце концов у Элия лопнуло терпение. Что с того, если он привел сюда Дейру? Он уже взрослый и способен отвечать за свои поступки. Он жестом велел девушке молчать и оставаться на месте, после чего осторожно выглянул в соседнее помещение и – в следующую секунду резко бросился вперед. Его взгляд метнулся к столу; мгновением позже Элий протянул руку, схватил нож и, приподнявшись на цыпочки, одним махом обрезал веревку. Его сознание обжег звук упавшего тела – юноше почудилось, что это стук чего-то неживого. Но нет… Закашлявшись, Карион инстинктивно схватился за шею и даже не зажмурился от хлесткого удара по щеке, каким наградил его Элий.
– Хотел бы я знать, кто из богов лишил тебя рассудка?! А если б это увидела мать?!
Побелевшие губы Кариона шевельнулись, а мучительно расширенные темные глаза уставились на вделанный в потолок железный крюк, к которому некогда была подвешена колыбель, а теперь болтался обрывок веревки. Потом перевел взгляд на Элия и увидел рядом с лицом брата лицо незнакомой девушки, смотревшей с любопытством и испугом.
– Это было… неправильно, – прошептал он и прибавил: – Я завтра же уеду в Афины.
– Это не неправильно, а глупо! Или, пожалуй, не глупо, а расчетливо! Ты привык все делать напоказ, тебе нужно было покрасоваться даже… в смерти! – яростно вскричал Элий. – И поразят меня громы Юпитера, если я позволю тебе уехать в Афины прежде, чем ты окончательно приведешь свои мысли в порядок!
– Мысли? А как быть с чувствами? Повисла пауза.
– Тебе что, некого любить?
Внезапно Карион слабо улыбнулся и, отыскав руку брата, легко сжал ее в своей.
– О да!
ГЛАВА IX
Ливия лежала и думала, глядя на косо падающие в полуоткрытую ставню солнечные лучи и тонкие прозрачные тени на полу и стенах и наслаждаясь приятной тишиной. На какие-то мгновения (в последнее время это случалось все реже) шумный суетливый мир остался там, за стенами спальни, здесь же царил почти осязаемый мягкий покой.
Вчера она слишком поздно вернулась домой и потому, вопреки обыкновению, позволила себе немного понежиться в постели.
Сейчас Ливий не хотелось никого видеть. Она представила, как после умывания и завтрака проскользнет в сад и будет бродить между облитых неярким утренним светом теплых колонн знакомых с детства платанов, удивляясь их спокойному величию и впитывая их силу.
Она ездила в имение к Дециму и вернулась совершенно опустошенная и в то же время странным образом просветленная – и что-то понявшая для себя. Благодарение богам, оно почти ушло, то, появившееся в свете последних событий чувство, будто в самой сути жизни заложено некое трагическое начало, будто с течением лет человек только теряет: молодость, чувства, близких людей. Себя.
Веллея родила девочку и при этом осталась жива. Она лежала в постели, такая худенькая и бледная; казалось, будто видны лишь неподвижные черные глаза и окаймлявшая лицо полоска темных волос.
Она так измучилась, что у нее не осталось сил даже для радости, а Децим плакал в соседней комнате в объятиях Ливий: то ли от раскаяния, то ли от сознания миновавшего несчастья.
– Пусть девочка, – говорил он, – все равно я больше не заставлю Веллею рожать. Как я вел себя, Ливия, и что делал, ты даже не представляешь! Я мог оскорбить ее и без конца попрекал тем, что она не может выносить хотя бы одного ребенка, тогда как другие женщины рожают по десять. Я переспал со всеми молодыми рабынями, какие есть в имении, – Веллея прекрасно знала об этом и все терпела. Я обвинял ее в том, что моя жизнь не удалась. И… что теперь? – Он беспомощно уставился на сестру.
Ливия не удивилась. Она сказала:
– Теперь исчезнет все наносное, ты перестанешь попусту растрачивать себя.
Децим в сомнении покачал головой:
– Не знаю, не знаю. Помнишь, однажды ты вспомнила, как я сказал: «Наше будущее уже существует»?
Ливия кивнула.
– И мы, – продолжил Децим, – существуем в нем – такие, какими нас создали боги, какими нас сделает прожитая нами жизнь. Ничего не меняется: мы – это и есть наши слова, мысли, достоинства и недостатки. Все совершенное, передуманное мною – это и есть я. Разве я смогу избавиться от этого? – И прибавил со вздохом: – Судьбу-то в кости не выиграешь…
– Вы можете переехать в Рим. Сейчас у нас два дома; мы вновь поселимся у Луция, а ты станешь жить в отцовском, – сказала Ливия, хотя была уверена в том, что Луций не придет в восторг от такого предложения.
– Нет, – невольно отстранившись, ответил Децим, – основная часть моей жизни прошла здесь, мне уже не оторваться от нее. Я и не заметил, как они вошли в меня – эти пейзажи, этот воздух, эти тихие сумерки, весь тот уклад, что издавна существует здесь. Рим манил меня все эти годы, но то был зов призрака, заглушивший голос настоящего. Он научил меня ненавидеть даже тебя. Мне казалось, ты удачливее, тебя любят боги…
Ливия думала о том, что время все расставило по своим местам, можно сказать, многое решило за них. Вот и она знала наверняка, что будет жить с Луцием Ребиллом до скончанья своих дней, и ничуть не жалела об этом. Ее любовь превратилась в воспоминания, приятные, иногда печальные, но – не слишком тревожащие душу.
Женщина потянулась в постели и вдруг вспомнила, как впервые взяла на руки свою племянницу, крошечную Ливиллу, и заглянула в ее похожие на кусочки гладкого темного мрамора непроницаемые глазки, и тут же почувствовала, что жизнь открывает новую дверь – туда, где полно неожиданных, забавных и приятных впечатлений. И света.
«Никогда не плачь!» – мысленно произнесла она, обращаясь к девочке.
…Ливия улыбнулась, вспоминая эти минуты. Как все-таки прекрасна сельская жизнь, прекрасна именно своей безыскусностью, особенной изящной простотой! Эта матовая песочная штукатурка стен в жилище, безо всякой росписи, окрашенная то в неяркие таинственные тона сумерек, то отражающая густые, глубокие и тревожные цвета заката, то отливающая золотым сиянием дня! А краски природы, а этот воздух, вызывающий почти чувственное наслаждение, особенно в первые часы приезда из Рима, а эта всеобъемлющая, глубокая, казалось, порожденная самой вечностью тишина… Возможно, она, Ливия Альбина, тоже когда-нибудь поселится там…
Тихонько вздохнув, женщина поднялась с постели. Пора возвращаться в прежнюю жизнь. Она уже собиралась кликнуть рабынь, как вдруг в дверь тихо постучали, и следом за этим, не дожидаясь, ответа, в спальню вошла Аскония. Ливия постаралась не выдать удивления.
– Садись, – предложила она после приветствия.
Девушка присела с едва слышным вздохом. Несколько секунд мать пристально смотрела на дочь. Асконию нельзя было назвать красивой, она также не обладала ни тем непобедимым очарованием, каким могут похвастать иные молодые римлянки, ни живым воображением, ни сильным характером, ни пытливым умом. Ей всегда как будто бы чуточку не хватало чего-то, ее не приучили высказывать свое мнение, она привыкла опираться на общепринятые суждения, и могла стать хорошей исполнительницей чужой воли: послушной женой, мудрой матерью семейства. Зачастую Ливий было трудно понять, в каком настроении пребывает дочь, – Аскония всегда казалась собранной, серьезной. Она обладала замкнутой натурой, и порой женщине думалось, что это – следствие недостатка особого сердечного внимания. Ливия любила своих детей, переживала и болела за них, но… боги не наделили ее способностью растворяться в этой любви, позабыв о себе. Ливия прекрасно справлялась с ролью матери, но… какой матерью она была на самом деле?
Нынешним летом Асконии исполнилось шестнадцать лет – вполне возможно, у нее возникали вопросы, на которые ей было сложно найти ответ. И Ливия не знала, что посоветовать дочери, что сказать; женщина вдруг обнаружила, что не может представить себя такой, какой она была в этом возрасте, ей приходилось восстанавливать тот мир искусственно, что было явно недостаточно для полноценного живого общения.
Ливия знала, что перед отъездом в Афины Карион разговаривал с Асконией. Вообще-то он пришел попрощаться со своей благодетельницей, но тут неожиданно появилась девушка, и Ливия оставила их на несколько минут. О чем они беседовали?
– У тебя ко мне дело? – с намеренной небрежностью произнесла женщина – Говори, а то я уже собиралась вставать.
Аскония слегка тряхнула головой – закачались, тихо звеня, серебряные филигранные серьги. Глядя на эту девушку, можно было уловить отзвук чего-то далекого, печальный шелест ветра в сухой осенней траве, представить никогда не виданную северную страну. Сейчас, в этом слабом полупрозрачном неверном свете она выглядела беспомощно хрупкой, почти прелестной…
– Вчера отец сказал, за кого меня выдаст, – вдруг сказала Аскония.
Ливия удивилась и возмутилась одновременно. Луций не посоветовался с ней! Такое случалось нечасто.
– За кого же? – спокойно спросила она.
– За Публия Ведия Трепта.
Ливия немедленно задала следующий вопрос:
– Он объяснил, на чем основывается его выбор? Аскония ответила также быстро и четко:
– Да. Публий Ведий Трепт богат, он сенатор, его хорошо знает наша семья.
– Он был женат и овдовел года два назад. У него есть взрослые дети, – медленно произнесла Ливия. Потом спросила: – По-видимому, ты не согласна с решением отца?
– Да.
– Ты сказала ему об этом?
– Нет.
Женщина помолчала, собираясь с мыслями.
– Ты бы хотела связать свою жизнь с кем-то другим? Она заметила, как в лице девушки что-то дрогнуло.
– Не знаю. Я не могу воспринимать Публия Трепта как… мужа. Он приходил в наш дом, когда я была еще маленькой…
– Да, он старше тебя на добрых тридцать лет. Но такие браки нередки.
– Значит, я должна согласиться?
Ливия привлекла дочь к себе и сразу заметила, как послушно обмякли ее напряженные плечи.
– Нет. Просто я хочу узнать, что у тебя на сердце. О чем вы говорили с Карионом?
Девушка печально вздохнула:
– Ни о чем. Он только сказал, что уезжает и что боги сыграли с ним злую шутку. Он… я никогда не видела его таким.
Ливия пристально посмотрела ей в лицо, в ее серьезные и сейчас странно глубокие серые глаза:
– Карион понимает случившееся не так, как должно. Боги тут ни при чем. Просто он сам не хотел замечать некоторых очевидных вещей, не желал видеть истину, возможно, потому, что предчувствовал, насколько она разрушительна. Ты видела «Царя Эдипа»[36]36
По сюжету драмы Софокла находящийся в неведении относительно своего происхождения Эдип убивает своего отца и женится на собственной матери.
[Закрыть] и, будь ты старше и опытнее, это произведение открыло бы тебе очень многое. Во всем виноваты не боги, а мы сами. Постигая истину, человек нередко разоблачает самого себя.
– Разве мы можем предвидеть последствия своих поступков?
– Конечно, нет. Не всегда. Мы должны жить и строить свой мир, согласуясь со своими желаниями. Просто старайся побольше думать о том, что с тобой происходит и почему. И будь готова к любым неожиданностям, – сказала Ливия, а после прибавила: – Не беспокойся, я поговорю с отцом. Надеюсь, он даст тебе время для размышлений и не станет неволить.
Завершив туалет, Ливия наскоро перекусила и отправилась на поиски мужа. Он был в таблинии, и там же находился Луций-младший. Последние дни Луций-старший неважно себя чувствовал – побаливало сердце – и потому не выходил из дома. Зато теперь он мог вдоволь поговорить и позаниматься с сыном. Мальчик почти оправился после смерти Марка Ливия, в доме снова слышался его веселый смех.
Ливия услышала спокойный голос мужа.
– Право есть воплощение власти. У великого государства должны быть великие законы.
– Это и называется справедливостью? – немедленно спросил мальчик.
– Да, если учесть, что справедливость может быть понята по-разному. Нельзя забывать о том, что право, общее для всех народов, не есть римское право. Рим установил свои законы, законы подчинения, благодаря силе.
– А если говорить об отдельном человеке, отец?
– Здесь стоит вспомнить о «природном разуме». Есть нечто, заложенное в каждом из нас изначально, от природы, то, через что мы просто не в силах переступить.
– Но ведь существуют насильники, воры, убийцы!
– Да. Конечно, было бы лучше, если б все люди имели правильный разум. К сожалению, мир несовершенен. Для того и созданы законы, призывающие карать тех, кто виновен в преступлениях!
В этот момент Ливия отодвинула занавеску и вошла в таблиний.
– Я искала тебя, – сказала она мужу.
Потом улыбнулась сыну, а тот улыбнулся ей. Он казался таким прелестным! О нет, этот мальчик никогда не будет так красив, как, скажем, Карион или… Гай Эмилий. Но… в его лице всегда присутствовала особая, глубокая, янтарная ясность, глаза и улыбка излучали не замутненный ничем свет жизнерадостности и любви к окружающему миру.