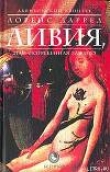Текст книги "Любовь и Рим (По воле рока)"
Автор книги: Лора Бекитт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
А Мелисс… Это был человек из другого мира, с ним она могла вспомнить себя прежнюю, настоящую. Было ли это хорошо или плохо? Кто знает! С ним она вновь испытала мимолетную остроту чувств – это было все равно что, вырвавшись из города, бегать на лугу под необъятным небом по росистой траве.
И, как ни странно, она ничуть не удивилась и не возмутилась, когда он сказал:
– Хочешь, уедем куда-нибудь вместе? Предлагаю первый и последний раз. Мне все надоело, да, пожалуй, все… кроме тебя.
И она лишь молча покачала головой.
Покинув дом Амеаны, Мелисс очень скоро понял, что ему совершенно нечего делать и некуда идти. Несколько дней он провел в бездумном праздном шатании по улицам и площадям Рима. Ел в самых дешевых тавернах, где можно было пообедать за два асса, где стояла невыносимая жара и царила ужасающая грязь, где подавалась вареная свекла под соусом из вина и перца, грубый ржаной хлеб, жареная чечевица с луком и чесноком и отвратительного вкуса вино. Здесь он и спал – среди воров, убийц, беглых рабов и всякой рвани.
Однажды, бесцельно шляясь по улицам, точно в бесплодных поисках чего-то безвозвратно утерянного, Мелисс случайно забрел на окраину Рима и помимо воли угодил в толпу, которая текла неведомо куда и увлекла его за собой. Множество тех, кто окружал Мелисса, было в пропахших дымом и потом туниках из грубой небеленой шерсти, с нерасчесанными и немытыми волосами, дочерна загорелых и косноязычных. Один старик держал в руках связку чеснока, другая женщина несла две тростниковые корзины. Временами движение замедлялось, потом опять начинались невероятная давка и шум.
Дул холодный осенний ветер, на небе громоздились тяжелые, замысловатого оттенка тучи, вдали виднелась темная кайма холмов. Далеко впереди, на спешно возведенном помосте стояло несколько человек в белых тогах с пурпурной каймой; один из них что-то негромко говорил: в него впивалось множество взглядов, множество губ шептало какое-то имя. Иногда раздавался гром рукоплесканий, возгласы возмущения или восторга.
– Кто выступает? – спросил Мелисс какого-то плебея.
– Консул Цезарь Октавиан, – важно отвечал тот, не отрывая взгляда от говорящего. – Он сказал, гражданская война окончена, а после возвращения из похода против парфян будет восстановлена Республика.
Презрительно хмыкнув, Мелисс бесцеремонно протолкался поближе к помосту, на котором в окружении большого количества приближенных и вооруженной охраны стоял молодой человек с жестковато-холодным выражением лица и зорким недоверчивым взглядом. Его фигура казалась хрупкой даже под тяжелыми, плотными одеждами, но поза была исполнена достоинства. В нем угадывался высокий ум и скрытая проницательность.
– А хлеб?! – пронзительно выкрикнул кто-то. Октавиан негромко ответил, и люди стали возбужденно передавать друг другу его слова. Очевидно, было сказано, что увеличат хлебные раздачи.
– Неужели будет как при Цезаре? – прошамкала какая-то старуха, и почти тотчас раздался единый, точно ропот реки, одобрительный шум.
Мелисс не верил в перемены. «Наверху» может бушевать мрачный шторм или торжествовать лазурная гладь – «дно» не меняется, оно остается дном.
Это было головокружительное и страшное зрелище: множество человеческих лиц, отмеченных общей для всех печатью убогости, слепого подчинения, странного сочетания безнадежности и веры.
Мелисс с трудом выбрался из толпы и поспешил прочь. В эти мгновения ему открылось нечто важное: сначала он это почувствовал, затем признал рассудком. Он понял, что больше не хочет служить тем, кого презирает, как служил сначала Клавдию Пульхру, потом – Сексту Помпею и Манадору. И он не знал, что станет делать. У него не выработалось ни малейшей привычки к труду, не было никаких привязанностей и целей. Время остановилось – он был тем нищим юношей, только что получившим свободу и не знающим, как ее использовать, и тем изгнанником, который покинул этот странный, похожий на мрачный водоворот город несколько лет назад, и тем человеком, который стоял сейчас посреди улицы и которому все былое казалось сном.
…Прежде он много раз разыскивал нужных людей, потому для него не составило труда вновь проявить свои способности – через несколько дней он нашел рыжеволосую женщину, живущую на Субуре вместе с мальчиком по имени Карион.
Мелисс прошел по узкой улочке, без отвращения вдыхая давно ставший привычным запах сырости и нечистот, поднялся по деревянной лестнице и несильно толкнул дверь. Он вошел и замер; стоявшая у печки женщина, по-видимому, не слышала стука, потому что не повернулась и продолжала возиться с глиняными горшками. Она была молода – Мелисс понял это, глядя на красивую линию прямых плеч и гибкую спину. Волосы незнакомки в самом деле были ярко-рыжими, высоко заколотые, они лежали на голове тяжелой массой.
Он сделал шаг вперед, и тут женщина повернулась. Увидев неожиданного гостя, она пошатнулась так, что едва не упала. Их взгляды встретились, и Мелисс с изумлением впился глазами в побледневшее лицо хозяйки дома.
– Ты?! – прошептал он и добавил с каким-то странным облегчением: – Конечно, это ты!
Она молчала, безмерно растерянная, ошеломленная его вторжением.
– Я забыл твое имя, – сказал Мелисс.
– Тарсия…
Он прошел и сел, не сводя с нее темных глаз.
– Значит, ты живешь здесь, и у тебя есть сын.
– Два, – прошептала она.
– Два? Значит, один твой, а другой приемыш?
– Оба… мои.
Мелисс откровенно разглядывал ее.
– А ты такая же. Я сразу тебя узнал. – Он протянул к ней руку, и Тарсия испуганно отпрянула. Мелисс жестко засмеялся: – Не бойся, я просто хочу поговорить.
Молодая женщина подошла к печке, сняла один из горшков и поставила на стол. Ее руки дрожали, и она прятала лицо.
Стукнула незапертая дверь – вбежали дети; на улице дул холодный осенний ветер, и они сразу бросились к жаровне отогревать руки, а потому не заметили незнакомца. Потом повернулись, один за другим, и увидели Мелисса. Младший, светловолосый, остроглазый, уставился на него, приоткрыв рот от изумления, а второй бросил быстрый тревожный взгляд на сжавшуюся от испуга мать. На вид этому мальчику было лет десять, и он выглядел совсем по-другому: правильные черты лица, мягкие черные кудри и какая-то особая невозмутимая глубина в глазах, – точно он видел и понимал то, что неведомо другим.
– Садитесь, – тихо сказала Тарсия детям, – будем ужинать.
– Я могу поесть с вами? – спросил Мелисс. Женщина ничего не ответила. Она разложила тушеные овощи со свининой по трем тарелкам; себе не взяла и села, наблюдая за детьми. Мальчики притихли в присутствии незнакомца; не зная, чем объяснить его появление, не смели задавать вопросов.
Мелисс ел жадно и быстро насытился. Он долго смотрел на Кариона, а потом тяжело произнес:
– Нет, все-таки я ошибался.
После ужина Тарсия отправила детей за перегородку, а сама не двигалась с места и ждала. Глаза Мелисса завороженно смотрели в одну точку.
– Хороший у тебя дом, – медленно произнес он, – у меня никогда не было дома. – И неожиданно предложил: – Будь моей.
– У меня есть муж, – осторожно произнесла молодая женщина, стараясь скрыть дрожь в голосе.
Мелисс резко мотнул головой.
– И где же он?
– В армии Октавиана Цезаря. Он служит в коннице.
– Впрочем, мне нет до него дела, – продолжил Мелисс – К тому же он наверняка редко приезжает в Рим. – Он подошел к Тарсии и легонько приподнял на ладони прядь ее волос – Там, на острове, получилось скверно, я понимаю. Знаю, что ты хорошая женщина, и больше не стану тебя неволить. Я всегда смогу достать деньги. Твои мальчишки не будут голодать. Подумай. Я сниму комнату где-нибудь по соседству и еще загляну к тебе.
Тарсия стояла, опустив голову и едва удерживаясь от слез. От Элиара слишком давно не было вестей, она даже не знала, жив ли он… Деньги заканчивались, и молодая женщина с ужасом думала о предстоящей зиме.
– Уходи, – сдавленным голосом попросила она.
Вновь усмехнувшись, он встал и вышел за дверь. Карион тут же появился из-за перегородки, подошел к матери и совсем по-детски обвил ее шею руками. Молодая женщина дала волю слезам, чего обычно не делала при детях. Прижимая к себе Кариона, Тарсия мысленно повторяла одну и ту же фразу: «Как же все-таки жаль, что у тебя нет настоящего отца!»
ГЛАВА IV
В последующие годы в истомленной войнами, грабежами и конфискациями Италии произошло много важных событий. Октавиан предпринял меры для искоренения разбоя и наведения порядка в стране, благодаря чему его популярность постепенно росла. Укреплению положения наследника Цезаря способствовали и успешные походы против постоянно тревоживших римские границы иллирийских племен: Октавиан храбро сражался в ряду простых легионеров и даже был ранен камнем в колено. Этому человеку приходилось нелегко: где-то там, в вышине, среди множества звездных громад, подобно красной звезде Каникуле (Сириус), согласно преданию, усиливающей жар солнца, сиял образ великого Цезаря, и, дабы стать первым среди всех и недосягаемым, он был вынужден следовать за этим светилом, пусть иногда – даже против своей собственной природы и убеждений. Благо прошли времена, когда, чтобы соответствовать званию правителя бессмертного Рима, приходилось беспрестанно стремиться в просторы мира, потрясая пространство размеренными шагами легионов и звоном мечей. В 723 году от основания Рима (33 год до н. э.) эдилом был назначен близкий друг Октавиана полководец Марк Агриппа, чрезвычайно богатый, честный человек, который восстанавливал на свои средства общественные здания, раздавал населению соль и масло, открывал бесплатные термы. Он ставил перед собой земные, понятные каждому цели, и главное – добивался их. Щедрые раздачи, дорогостоящие игры, долгожданный мир – плебеи были довольны. Куда более сложное положение царило в сенате.
В те годы число сенаторов достигло тысячи, среди них встречались люди незнатные, даже не латинского происхождения, что не могло не возмущать представителей известных фамилий. В отличие от прежних времен, попасть в сенаторские списки не составляло большого труда – имелись бы деньги да связи. Новоиспеченные сенаторы были готовы следовать за кем угодно, лишь бы за ним стояла сила. Между тем приближался момент окончательного разрыва Октавиана с Антонием, и многие из членов сената колебались, не зная, к кому примкнуть. Парфянские походы Марка Антония оказались неудачными, и он вернулся в Александрию, к Клеопатре, на которой женился, разорвав с прежней женой, сестрой Октавиана, Октавией. Он завещал царице и ее детям огромные денежные суммы и колоссальные владения в Италии.
В конце концов Октавиан решил выступить против Египта и объявил войну Клеопатре. Согласно его приказу, Антоний был лишен власти триумвира и консульства на следующий год. Пользуясь патриотическими настроениями населения, Октавиан привел к присяге италийских жителей и все западные провинции, а чтобы собрать необходимые средства, обязал состоятельных граждан сделать «добровольные» пожертвования и ввел всеобщий налог на ведение войны. В конце 724 года от основания Рима (32 год до н. э.) он пересек Адриатику во главе флота из четырехсот судов; всего же в его армии было восемьдесят тысяч пехотинцев и двенадцать тысяч всадников.
Решающее сражение произошло на второй день после календ септембрия 725 года от основания Рима (2 сентября 31 года до н. э.) при Акции, мысе в Амбракийском заливе. Марк Антоний был побежден и бежал обратно в Египет, вслед за Клеопатрой: большая часть его войска перешла на сторону Октавиана, у ног которого лежали некогда подвластные Антонию восточные провинции.
Вскоре Октавиан был вынужден вернуться в Италию, поскольку там начался мятеж давно не получавших платы легионеров, и отбыл на Восток лишь в 726 году (30 год до н. э.) Он возвратился сначала на Самос, потом в Малую Азию, затем направился в Сирию, после чего намеревался появиться в Египте для решающей схватки со своим бывшим союзником и своевольной египетской царицей.
…Полуденный солнечный свет ложился на дорогу сплошным золотым полотном, а застывшие по обеим сторонам горы казались совершенно безжизненными, они походили на развалины чьей-то гигантской гробницы. Далее простирались пригорные участки Сирии, где твердый каменный грунт сливался в огромные ровные площадки, кое-где состоящие из покрытых неглубокими оврагами обширных волнистых перекатов. И всюду – тяжелое слепящее солнце, запах раскаленных скал и отраженный свет, знойный туман и белая пыль.
Шальные порывы сухого ветра разметали гривы лошадей, и не было слышно никаких звуков, кроме ровного стука копыт, да позвякиванья подвесок и блях из луженой бронзы на лошадиных сбруях – привычной музыки похода. Небольшой отряд выехал в разведку около получаса назад, и нужно было спешить, чтобы вернуться, пока не наступит необъятная черная ночь, – расстояния в этих пустынных областях казались несоизмеримыми с теми, к каким привыкли живущие в городах люди.
Впрочем, что расстояния! Элиар усмехнулся и натянул поводья, чтобы придержать лошадь. Оглянувшись, он отдал приказ разделиться на два отряда – второму надлежало ехать по другой дороге.
Расстояния… Зачастую он не помнил стран, по которым проходила армия, не говоря уже о городах и лицах людей, он жил ощущением величайшей силы, мощи той массы, которая не знала препятствий, к которой он принадлежал и которая увлекала его за собой. Мелкая известковая пыль, поднимаемая тысячами ног, смешиваясь с потом, оседала на лицах, превращаясь в некую маску, что делало их похожими друг на друга. Впрочем, не только это… Многие другие чувства и впечатления словно бы изгладились, истлели – стоило коснуться их мыслью, как они рассыпались в прах. Живым, реальным было только одно – бесконечная дорога и война.
В 721 году от основания Рима (35 год до н. э.) Элиар был назначен помощником декуриона, а к 725 году дослужился до командира турмы, отряда из тридцати человек. В те времена подобные должности получали сравнительно молодые люди, и хотя Элиару, как человеку не латинского происхождения, было трудно продвинуться дальше, даже такое положение давало ряд преимуществ: более высокое жалованье, отдельную палатку, большую свободу действий внутри лагеря.
Элиару исполнилось тридцать шесть лет, последние из коих он провел в военных походах, не имея понятия о том, что происходит в Риме, как живут Тарсия и мальчики. Пока армия находилась в Италии, он время от времени присылал ей короткие сообщения о том, что жив, и деньги, но потом это стало невозможным. А теперь он и вовсе не знал, когда попадет домой. Да и был ли у него отныне другой дом, кроме походной палатки?
В 724 году от основания Рима (32 год до н. э.) он в числе других легионеров присягнул на верность Октавиану. Многие говорили, что война не продлится долго, но Элиар в это не верил. Как мрачно пошутил один солдат: «Кто сказал, что Марс может напиться крови? Ведь для него кровь все равно что для нас – вода».
В конце концов никто особо и не ждал конца войны, война была их жизнью. Ждали другого – денег и наград. Перед началом похода против Антония и Клеопатры Октавиан обещал каждому легионеру по двадцать тысяч сестерциев сверх ежегодного жалованья в две тысячи. Элиар помнил, как во время выступления Октавиана перед войском один из легионеров спросил другого: «Где же он возьмет столько денег?» На что тот ответил: «Как где? В Египте! Там навалом золота. Говорят, даже дворцы золотые». В это Элиар тоже не слишком поверил. В мире может быть много несчастья и бедности, но собранные в одном месте несметные богатства – вряд ли. И все-таки он надеялся получить обещанную награду, иначе проделанный путь не имел бы смысла. Тогда Тарсия и мальчики смогли бы найти жилье получше, и Карион продолжал бы учиться… Он повторял себе это как нечто заученное, между тем как время постепенно стирало из памяти образы прошлого, памяти зрительной и – что страшнее – сердечной. К тому же здесь, вдали, он не чувствовал такой сильной ответственности за них…
Нет, Элиар не сделался ни равнодушным, ни кровожадным, он слишком хорошо знал, что делать во время боя, чтобы зря распылять свои чувства, и всегда вполне осознавал близость, пожалуй, даже неизбежность смерти, осознавал слишком ясно для того, чтобы ее бояться.
…Дорога стала ровнее, и отряд ускорил движение. Солнце сияло так сильно, что все вокруг казалось белым, и было некуда деться от этого странного бесцветного пожара. Совсем недавно, когда они проходили через Малую Азию, природа была другой: пышная растительность, сочная лазурь небес, живописные горы, а здесь…
Время от времени кто-то вел наблюдение с возвышенных точек, и не далее как вчера вечером была замечена довольно большая группа мужчин: хотя они не шли строем, а двигались общей кучей, при них было оружие, и, похоже, они хорошо знали свой путь – он пролегал строго на восток. Если это были беглые рабы, их следовало казнить, если остатки вражеской армии, – взять в плен и допросить.
Элиар увидел их первым – они укрылись в углублении скалы возле одной из тех подземных каменных ям, где скапливаются запасы воды из зимних дождей и растаявшего снега, – хотя оттуда явственно доносился дурной запах, эту воду все-таки можно было пить. Он насчитал не сто и не двести человек, а всего лишь с десяток; заметив конный отряд, они взялись за мечи, но отступать было некуда, и Элиар решительно крикнул:
– Кто вы и куда идете?
Они не ответили. Элиар велел своим подчиненным не приближаться и не вступать в бой: в этих странных незнакомцах было что-то настораживающее. Изнуренные лица, беспокойные взгляды – эти люди давно были в пути… Элиар разглядывал их оружие: на двоих были шлемы с забралом, какие не используют в армии, и короткие мечи, такие же, как у римские пехотинцев, но с гардами. В этих атлетически сложенных фигурах и позах полунападения-полузащиты ему почудилось что-то очень знакомое… Это были… гладиаторы! Элиар не верил своим глазам. Гладиаторы?! Но куда и зачем они идут?
Он спешился.
– Если сдадитесь без боя, вам сохранят жизнь! – необдуманно пообещал он.
Ему не поверили. Быстро посовещавшись, незнакомцы решили сражаться. Элиар знал, что они не сдадутся: они привыкли к существованию на грани жизни и смерти, потому не слишком дорожили первой и почти не страшились второй.
Вопреки ожиданиям, все решилось довольно быстро: гладиаторы еще прежде потеряли много сил, к тому же римских всадников было значительно больше. Четверых рабов схватили, остальные были убиты.
Элиар подошел к одному из разоруженных пленников, которого держали два солдата, и приставил меч к его горлу.
– Гладиаторы? Рабы?
Тот презрительно молчал. В его взгляде не было страха, только безмерная усталость.
– Чего их допрашивать здесь?! – не выдержав, воскликнул один из солдат. – Скажут все в лагере, под пытками!
В тот же миг Элиар опомнился и опустил меч. И тогда раб вдруг сказал:
– Ты меня не помнишь?
Элиар вздрогнул. Сейчас он мог убить этого человека одним ударом, и никто не осудил бы его, но…
Немного поколебавшись, Элиар сделал знак своим подчиненным, и те отошли подальше.
– Стерегите остальных. Я хочу поговорить с этим человеком.
Он отвел пленника в сторону. Они остановились под стеной из слоистого известкового камня. Казалось, гладиатор удивлен таким поворотом дел: по-видимому, он ожидал, что будет немедленно убит.
– Кто ты? – с ходу спросил Элиар.
– Я Тимей, а ты… Я забыл твое имя… Мы вместе были в гладиаторской школе, потом нас купил сенатор Аппий Пульхр для личной охраны. А после ты… исчез. Почему-то я часто тебя вспоминал. – Он говорил медленно, спокойно, устало. – Ты же наш, ячменник, верно?
«Ячменник» – таким было презрительное прозвище гладиаторов, которых обычно обильно потчевали ячменем, поскольку считалось, будто этот злак способствует наращиванию мышц.
Элиар молчал. Происходило что-то странное. Смещение событий и времени: казалось, он не понимал, как здесь оказался, – словно бы не было тех многих тысяч стадий, отмеренных его ногами за эти годы, исчезло ощущение бесконечности и тягучести времени. Он будто бы очнулся в определенной точке своего существования, очнулся после долгого сна, ощутив внезапно нарушившийся ритм жизни.
– Не понимаю… – наконец произнес он. – Что вы здесь делаете?
– Мы идем в Египет из Кизика к нашему господину, Марку Антонию, чтобы его защитить. Он готовил нас для игр в честь своих побед, но теперь мы знаем, что его дела плохи. Нам не удалось достать корабль, и мы решили идти пешком.
– Вас что, всего десять?
Тимей не отвечал, а между тем Элиара посетила мысль о том, что если бы его судьба сложилась по-другому, он мог бы оказаться здесь, в это же время, но не с римскими легионерами, а в составе гладиаторского отряда. Он и Тимей напоминали двух муравьев, которые ползли по одному и тому же стволу огромного дерева, но оказались на разных ветках.
«Что же, собственно, изменилось?» – спросил себя Элиар. Сейчас ему казалось, что он всегда оставался тем, кем был изначально, – неважно, назывался ли гладиатором и сражался на арене, или участвовал в военных походах в составе римских легионов. Именно эта мысль и повлияла на его решение.
– Предыдущие гонцы донесли, что вас много, – произнес он. – Вероятно, так и есть. Я вас отпущу, догоняйте своих и скажите, чтобы подождали в укрытии, – пусть пройдет наша армия.
Он хотел спросить, доволен ли Тимей своей жизнью, но передумал. В конце концов, что решил бы его ответ? В каком-то смысле их судьбы казались на удивление похожими. Оба, что называется, были стадными существами, они не выбирали, как жить, какими убеждениями руководствоваться, добро и зло правили ими как некие посторонние силы, путем приказаний и запретов. Но сейчас он сам делал выбор. Сам ли сделал его Тимей, когда решил идти на помощь хозяину, или это сделала за него некая рабская привычка, которой он просто не смог воспротивиться?
– Оставьте их, – сказал Элиар своим всадникам. – Эти люди не опасны. Пусть идут куда шли.
Солдаты подчинились, не без недоумения, а возможно, и внутреннего протеста.
Когда они повернули назад, Элиар произнес: – Я приказываю молчать. Мы никого не нашли. Второй отряд тоже не должен ничего знать. Сто сестерциев каждому из вас и внеочередной отпуск. – И прибавил вполголоса: – Все равно они не дойдут…
Он едва ли не впервые употребил декурионскую власть в личных целях. Элиар был уверен в том, что солдаты не проговорятся: слишком многое в их жизни зависело от такого рода начальников, как он. Именно декурион назначал телесные наказания, определял объем выполняемых в лагере работ… Что касается гладиаторов, Элиар оказался прав: они не дошли до Египта, а были вынуждены сдаться перешедшему на сторону Октавиана наместнику Сирии.
…Элиар ехал верхом, глядя в пустоту неподвижно висящего воздуха и ничего не видя вокруг. Впереди были тысячи стадий пути по обожженной солнцем Сирии и прекрасная Александрия с неподвижно висящим на небе золотым щитом солнца, пышными садами и древней белизною стен.
После окончательного подчинения Египта Риму и превращения его в провинцию армия Октавиана надолго задержалась на Востоке. Легионеры очищали каналы и притоки Нила, проводили новые дороги. Вопреки римским обычаям Александрия не была отдана на разграбление; каждый солдат получил обещанную награду.
…Приближался 727 год от основания Рима (29 год до н. э.) – год триумфов Октавиана, время составления новых сенаторских списков, начала истории принципата.[34]34
Имеется в виду период и система правления Октавиана (Августа).
[Закрыть]
Однажды утром Ливий доложили, что ее спрашивает какой-то юноша. Она была сильно занята и потому немного поколебалась, прежде чем выйти за ограду сада. С тех пор как Луция избрали сенатором, у нее оставалось очень мало свободного времени: в дом приходило много людей, которых нужно было принять подобающим образом, приходилось отдавать множество приказаний рабам, да и дети требовали внимания. Ливия привыкла сама присматривать за домом и детьми, не вполне доверяя управляющим и нянькам, потому ее жизнь подчинялась жесткому ритму. Она чувствовала ответственность и перед Луцием, который никак не ограничивал ее действий, всецело полагаясь на совесть и мудрость своей супруги.
В тридцать четыре года Ливия давно не жила чувствами, жизнь больше не представлялась ей бесконечным полетом птицы с постоянной сменой впечатлений и неизменным ожиданием чего-то лучшего. Она примирилась с некоторыми неизбежными сторонами жизни и во многом утратила к ней вкус, но пока не жалела об этом.
Стояла ранняя осень, было тепло, неподвижная листва на деревьях напоминала крошечные металлические диски. В мгновения, пока Ливия шла по дорожке, ее охватило чувство благодатного покоя и гармонии – теперь, в бесконечном круговороте дел, она приобрела способность сполна наслаждаться редкими минутами отдыха.
У ворот стоял юноша лет пятнадцати-шестнадцати: увидев Ливию, он поздоровался со сдержанной улыбкой.
Помедлив минуту, она с изумлением воскликнула:
– Карион!
Ей стало неловко оттого, что она не сразу его узнала. Три или четыре года назад Тарсия неожиданно перестала приходить к Ливий. Та порывалась узнать, что случилось с бывшей рабыней, но, к сожалению, так и не собралась это сделать. Время без видимых причин разлучило их, развело в разные стороны. Но теперь Ливия искренне обрадовалась приходу Кариона.
– Идем! – позвала она, и они вошли в калитку.
Ливия повела юношу в перистиль, где им не могли помешать, и по дороге исподволь разглядывала его. С еще не вполне оформившимся телом, по-мальчишески тонкими руками и ногами, он, тем не менее, держался по-взрослому серьезно, с достоинством. И в то же время в нем угадывалась очень привлекательная непосредственность и живость. Нежные, сияющие глаза, прекрасные черты лица. И эта милая вежливость, и светящийся умом взгляд…
– Садись, – сказала Ливия, указав на скамью, и сама села рядом. – Я давно тебя не видела. Как ты поживаешь? Как твоя мать и Элий?
– Они здоровы. Мама прислала меня узнать, можно ли ей прийти поговорить с тобой, госпожа Ливия.
Щеки Ливий слегка порозовели.
– Конечно, пусть приходит, я буду рада увидеться с ней. Вы живете там же?
– Нет, теперь в другом месте. Нашли квартиру получше.
– Вот как! А твой отец, Элиар, он вернулся? Что о нем слышно?
– Ничего. Вот уже несколько лет мы не знаем, где он и жив ли вообще.
Ливия внимательно посмотрела на собеседника.
– Как же вы жили все это время? Твоя мать работала в мастерской?
– Нет, не получалось… – Он слегка замялся, потом сказал: – Быть может, мама сама расскажет о себе…
Карион выглядел растерянным и встревоженным, и Ливия прекратила спрашивать о Тарсии.
– А как ты? – промолвила она – Окончил начальную школу?
– И грамматическую тоже. За то, что я хорошо учился, мне подарили несколько книг.
Ливия улыбнулась.
– Ты пишешь стихи?
– Да, – просто ответил он. – И прошу богов не отнимать у меня вдохновение.
«Не отнимать! – подумала Ливия. – Каково! Многие были бы счастливы, если б боги подарили им хотя бы каплю…»
Она продолжала изучать его лицо. В этом юноше угадывалось сознание какой-то особой свободы, стремление не к счастью и не к покою, а к возможности жить по своему усмотрению. Этим Карион напомнил ей Гая Эмилия. Хотя, кажется, Гай был изначально разочарован в жизни, тогда как этот мальчик явно верил в свою удачу. И вместе с тем в нем чувствовалась незащищенность, некая опасная для него открытость.
– Боги уже сделали для тебя все, что могли, – сказала женщина, – они указали тебе путь. Пожалуй, стоит обратиться к людям. Конечно, тебе не избежать трагической борьбы с собой: таков удел всех смертных. А в остальном… мы должны тебе помочь. Ты что-нибудь прочитаешь… сейчас?
Карион согласился – без смущения, но и без лишней гордости прочитал два недлинных стихотворения, и Ливия наслаждалась плавным течением певучих строк. Все очень просто, никакого нагромождения украшений, а главное – настроение, искренность и неожиданно «взрослые» переливы чувств.
Ливия удивилась, как Тарсия смогла воспитать такого сына. Бывшая рабыня, пусть образованная, но… И как сумел этот мальчик написать такие стихи в трущобах Субуры! Не удержавшись, она задала вопрос и получила ответ:
– Случается, мир, в котором мы живем, изменяется сообразно тем мыслям и чувствам, какие мы испытываем в данный момент…
Женщина поняла: ему было даровано ощущение связи с неким другим, высшим миром, корни Кариона были там, а не здесь. И он знал то, что было скрыто от других людей; неутолимая жажда новых внутренних открытий и питала собой его творчество.
Внезапно Ливия представила, как жестокая рука судьбы берет это прекрасное, живое и сбрасывает с невидимого пьедестала в грязь, смешивает с жестокой толпой. И если он утратит свой дар, то будет несчастен, поскольку никогда не забудет ощущения легкости мысли, полета души.
Ливия была так очарована Карионом, что, забывшись, проговорила с ним более часа и под конец сказала:
– Хочешь пройти в библиотеку? У меня много новых книг.
Он радостно встрепенулся:
– Сейчас? О, да, госпожа!
– Прекрасно. Правда, я должна идти. Тебя проводит Аскония.
Ливия вызвала рабыню и велела ей отыскать девочку. Дочь пришла довольно быстро и, остановившись, вопросительно посмотрела на мать. В раннем детстве они с Карионом играли вместе, но теперь она лишь холодно кивнула в ответ на его дружеское приветствие.
Ливия сделала вид, что ничего не заметила. Она сказала Асконии:
– Ты помнишь Кариона? Покажи ему библиотеку.
Лицо девочки не дрогнуло; ничем не выразив своего неудовольствия, она пошла вперед по дорожке. Аскония всегда чутко улавливала разницу в положении людей и относилась к ним с той степенью уважения, какой они соответствовали. Ее серые глаза смотрели так, как будто видели человека насквозь, и в то же время ей не было дано постичь чего-то очень понятного и простого. Она была не по-детски рассудительна и серьезна, и иногда Ливий хотелось схватить дочь и растормошить. Маленький Луций был совсем другим.
Пять лет назад произошло великое переселение: семейство Ребиллов переехало в более просторный и богатый особняк отца Ливий, а дом Луция сдали одному сенатору, который был родом из провинции и не имел жилья в Риме. Спустя год после рождения внука Марк Ливий без сожаления оставил службу и занялся воспитанием маленького Луция. Луций-старший, которому не хватало времени заниматься с сыном, охотно предоставил мальчика Марку Ливию, и дед сам учил внука грамоте, читал ему историю, прививал необходимые знания, делал полезные подарки: маленький меч, игрушечный щит, деревянную лошадку, а недавно купил ворона, которого они вместе учили говорить. Мальчик был жизнерадостный, веселый, шаловливый, его любили все, от мала до велика. Марку Ливию исполнилось семьдесят лет – возраст весьма почтенный для римлянина, но он был еще бодр, обладал хорошей памятью и ясным умом. С некоторых пор он мало интересовался политикой, считая, что его время прошло: почти все сверстники и соратники умерли, и сама форма правления государством стала иной. Он любил сравнивать себя с островком, который захлестывают волны чужой, незнакомой жизни: с каждым годом все меньше остается знакомой, привычной земли, по которой с детства ступали ноги.