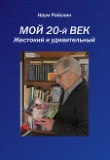Текст книги "Литературная Газета 6346 ( № 45 2011)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Путешествие сенситивных дилетантов
Путешествие сенситивных дилетантов

ЛИТПРОЗЕКТОР

Игорь ДУАРДОВИЧ
Эмигрантская лира : Сборник стихов, переводов и эссе финалистов, членов жюри и иностранных участников. - Бельгия, Льеж, 2011. – 256 с. – 300 экз.
Сегодня существует пугающее разнообразие литературных конкурсов, известных и не очень, и почти в каждом к пьедесталу протискивается хотя бы один графоман. А когда они собираются «шумною толпой», это называется фестиваль.
Всемирный поэтический фестиваль русского зарубежья «Эмигрантская лира» в 2011 году был проведён в бельгийском Льеже в третий раз и стал уже традиционным. Организатор и автор идеи Александр Мельник, члены отборочного и финального жюри добиваются общих целей: привлечь внимание к литературному процессу русскоязычных авторов-эмигрантов, «усилить объединительные тенденции в развитии рассеянной по миру русской поэзии, сблизить поэтов диаспоры и поэтической митрополии».
Одним из способов привлечения внимания и консолидации стал очередной итоговый сборник стихов, эссе и переводов, в котором были напечатаны произведения не только финалистов, но и членов жюри (А. Грицмана, Д. Чконии, А. Радашкевича, О. Горшкова и др.), а также иностранных внеконкурсных участников. Всего около пятидесяти авторов. Но нас будут интересовать конкретно произведения поэтов-финалистов, так как фестиваль позиционирован, напомню, именно как поэтический.
С сорока сороков[?] Стародавних времён
в переулках московских затеряно время[?]
И, светясь на Ордынке в проёмах окон,
март, продрогнув, заходит погреться
в кофейни.
С сорока сороков – гулким отзвуком звон
донесётся, как эхо, до самых окраин,
где машинным сигналам звуча в унисон
вместе с мартом взовьётся
в грачиные стаи.
Стихи Татьяны Скориковой, финалистки в номинации «Неоставленная страна», абсолютно тривиальные, с провальными образами и скучным жизневоззрением. Есть и неловкости звучания, как, например, в заглавном словосочетании «С сорока сороков», выполняющим роль анафоры, где предлог просто «тонет» в числительном.
Лишь воском плачется свеча
За всех ушедших раньше срока,
Прощальный отблеск свой меча
На лики божьи. Ночь глубока[?]
Это строки уже другой финалистки, представленной в эмигрантских номинациях под инфантильным виртуальным псевдонимом ella vita. А стихи всё о том же и, кажется, по-прежнему голословны. С напыщенной церковностью всегда так, и вряд ли она свидетельствует о какой-то глубокой тоске по Родине. Вряд ли вообще сегодня она может о чём-либо свидетельствовать, не важно, сочинил эти стихи поэт-эмигрант или поэт митрополии.
Такими же пошлыми и замусоленными выглядят тексты других авторов, где «Слишком ранняя осень», «Кружится вечер за окном», «Александровский ангел, два белых крыла», «Скрипка и кларнет – души отрада[?]» или блоковская парцелляция (стилистический приём расчленения в поэтическом произведении фразы на части или даже на отдельные слова. – Ред.) «Фонарь. Аптека» – давно примелькавшаяся аллюзия.
Произведения многих участников сборника тенденциозны: герой стихотворений, а иногда стихопрозы выглядит старомодным: «От ностальгии нет лекарства, / Хоть водку вёдрами хлещи. / Перед глазами красный галстук, / В столовой школьной снова щи», а в конце «Запущенная коммуналка, / Полураздолбанный трамвай[?] / И так всей дряни этой жалко – / Хоть водку пивом заливай!» (Наталья Резник). А эти стихи абсолютно ирреальны, будто бы написаны в постнаркотическом воодушевлении: «Ужаленный на голову крестьянин / Среди растений босяком стоит / На страже пограничных состояний / С копьём в руке, и непреступен вид, / А мог остаться просто человеком[?]» – и ещё: «Крестьянин провозил на страх в желудке / Новейшую религию стрекоз[?]» (Ламволь Хейнрих). Во-первых, нельзя «ужалить на голову», хотя оно и понятно, так как автор – иностранец, сочиняющий на русском. Во-вторых, в такого фэнтези-крестьянина не веришь. Любое искусство, не только поэтическое, лишается смысла, когда в нём что-либо «искусственно».
Немного об авторах-победителях: в номинации «Эмигрантский вектор» таковой признана Римма Маркова, в номинации «Неоставленная страна» – Илья Рубинштейн. Маркову можно отличить по строфическому аскетизму, точным рифмовкам и достаточно сильным концовкам: «Вне условностей или условий / с погремушкою в каждой руке[?] / Дай им Бог утешения в слове. / Всё равно, на каком языке». Хотя Маркова в своей номинации немногим интереснее и трогательнее остальных, поэзия её по духу – из семидесятых. Самое слабое звено в подборке автора: «В том городе, где я живу всегда, / в каких бы городах ни проживала, / фонарь, аптека, улица, вода, / и снова – ледяная рябь канала» – опять тот случай с аллюзией к Блоку, когда классик «мстит» своим любителям.
Рубинштейн ничем не примечателен: «Вот и было нам счастье. Пусть самая малость. / В двадцать первом не сыщешь на счастье подков[?] / День Победы и ты – это всё, что осталось / От минувшего века стране дураков...» Читая подобное, остаёшься в лёгком недоумении. Эти стихи версификатора, то есть, по первому определению в словаре Ефремовой, стихотворца, владеющего техникой стихосложения, но не обладающего поэтическим талантом. Они написаны с обывательским безвкусием и дёшево драматизированы. Темы стихотворений Рубинштейна, представленные в фестивальном сборнике: «наследие прошлого», «воспоминания о „битловской“ юности», «танки в сорок третьем – бабушкины воспоминания».
Итоговый сборник «Эмигрантская лира», если выводить общую черту, оказался средним по версификаторскому уровню. Таким образом, читатель становится жертвой чьего-то дурного вкуса и, скорее всего, непрофессионализма членов отборочного жюри. Возможно, именно они в ответе за выбор такого количества сенситивных (неуверенных в себе, застрявших на своих переживаниях. – Ред.) дилетантов.
Обсудить на форуме
Культуре необходим новый закон
Культуре необходим новый закон
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Государственную Думу РФ наконец-то внесён проект нового закона о культуре. Этот документ – плод совместных усилий Комитета Госдумы по культуре, который я до недавнего времени возглавлял, и Российского института культурологии. Текст, как утверждают представители культурной общественности, получился довольно хороший. Конечно, работа над законопроектом будет продолжаться, и я искренне надеюсь, что читатели «Литературной газеты» примут участие в обсуждении этого проекта (текст его размещён на сайте Государственной Думы РФ).
Напомню, что действующий базовый закон – Основы законодательства Российской Федерации о культуре 1992 года – принимался ещё до вступления в силу Конституции России в рамках культурного и правового поля, существенно отличающегося от современного.
Новый проект федерального закона о культуре призван отразить новое понимание культуры, соответствующее реалиям XXI века. Важно изменить отношение к культуре как со стороны государства, так и со стороны самих участников культурной жизни – граждан и культурных сообществ.
Важно понимать, что за десятилетия, прошедшие с момента разработки Основ законодательства Российской Федерации о культуре, изменилась сама структура культуры. Это объективно обусловлено теми изменениями, которые произошли в общественной жизни под воздействием новых тенденций в современном мире, в том числе процессов глобализации, появления и развития различных субкультур, новых информационно-коммуникационных технологий. Поэтому к отношениям в сфере культуры уже нельзя подходить с тем же правовым инструментарием, что и в прошлом веке. Закон о культуре должен соответствовать реально существующей сегодня культурной среде, отражать современное понимание культуры как совокупности присущих обществу или социальной группе отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, находящих выражение в образе жизни и искусстве. Это принципиально новый подход, основанный на мировоззренческой роли культуры, на её понимании как самостоятельной и самоценной сферы человеческой деятельности, формы общественного бытия.
В русле того же подхода исключительно важно закрепление в законопроекте понятия культурного пространства как сферы распространения определённых ценностей, традиций и верований, а также тесно связанного с ним понятия культурного разнообразия.
На основании нового понимания культуры и культурного пространства законопроект реализует переход от «инфраструктурного» подхода к культуре к мировоззренческому, уделяющему особое внимание отношению к культуре, участию в культурной жизни всех членов общества.
Для того чтобы новый закон о культуре действительно обеспечил позитивное изменение отношения к культуре, в нём должны быть использованы соответствующие этой задаче правовые средства. Прежде всего закреплено право каждого на участие в культурной жизни, которое раскрывается и наполняется реальным содержанием. Это – важнейшее право современного человека, которому должны быть доступны самые разнообразные формы участия в культурной жизни.
Принципиально важно право на художественное образование в самом широком смысле, которое должно восприниматься и как часть общего права на образование, и как право на образование в сфере культуры и искусства. Это право должно сопутствовать всей жизни человека, способствовать его личностному и культурному развитию, эстетическому воспитанию. В законопроекте это многогранное право раскрыто во всех его аспектах.
Своё отражение в законопроекте получает важное в современном мире понятие культурного разнообразия. Его следует понимать как неповторимость и многообразие форм культуры, проявляющиеся в особенностях, присущих различным социально-демографическим группам, этническим, территориальным и иным культурным сообществам, в особенности коренным народам и национальным меньшинствам, являющимся общим достоянием и источником развития человечества.
Сочетание единства культурного пространства и подлинного культурного разнообразия – исключительно важная философская и культурологическая идея, которую следует надлежащим образом облечь в форму правового принципа и выстраивать на её основе правовое регулирование культуры в новом её понимании.
Именно поэтому законопроектом предусмотрена обязанность государства создать систему гарантий реализации права на участие в культурной жизни, направленных на поддержку всех форм творческой самореализации личности в условиях культурного разнообразия: широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, поощрение к созданию культурных ценностей и пользованию ими, обеспечение доступа к культурным благам, приобщение к культурному наследию Российской Федерации.
Проект закона особое внимание уделяет развитию государственно-частного партнёрства в сфере культуры, благотворительной деятельности, закладывает гибкие финансово-экономические механизмы, которые будут способствовать развитию организаций культуры. В проекте заложены нормы, ориентированные на всестороннюю государственную поддержку творческих работников и творческих союзов.
У отечественной культуры – огромный потенциал развития, в XXI веке она готова к развитию инновационному, которое положительно повлияет на все стороны государственной и общественной жизни. Принятие нового закона о культуре послужит мощным импульсом для такого инновационного развития культурной среды, культурного пространства. Поэтому я надеюсь, что данный проект будет поддержан всем культурным сообществом и принят в ближайшее время.
Григорий ИВЛИЕВ, заместитель министра культуры РФ
Обсудить на форуме
Изменились имена. Сохранились традиции
Изменились имена. Сохранились традиции
ВЕРНИСАЖ
В ЦДХ завершилась выставка «Союз русских художников. Новое время»

Союз русских художников (СРХ) существовал в России сто лет назад (1903-1923) и оставил яркий след в истории отечественной живописи. Под эгидой данного объединения выставлялись такие мастера, как братья Васнецовы, М. Врубель, К. Коровин, В. Переплётчиков, Н. Рерих, В. Суриков, К. Юон и другие.
В 2008 году дело столетней давности было возрождено инициативной группой художников на тех же принципах и идеях: верность высоким художественным идеалам в искусстве, приверженность традициям русской реалистической школы живописи, неизменное требование выставлять на вернисажах только новые, нигде ранее не экспонировавшиеся картины. Однако для того, чтобы не вносить путаницу, к названиям выставок решили добавлять словосочетание «Новое время».
Своеобразными предвестниками нынешнего Союза русских художников стали два крупных идейных объединения художников-реалистов – «Москворечье» и «Русская живопись», существовавших в России в середине 1980-х и 1990-х соответственно.
В своей новейшей истории союз успел провести три отчётные выставки в Москве и организовать передвижные выставочные проекты по двадцати городам России и Белоруссии.
Торжественное открытие четвёртой московской выставки объединения началось с развенчивания двух основных мифов: якобы СРХ объединяет авторов по национальному признаку и СРХ создан в противовес Союзу художников России. Перед гостями выставки выступило руководство возрождённого союза, отметив, что, как и столетие назад, организация объединяет авторов исключительно на основе приверженности традициям русской реалистической школы живописи, иначе бы ни М. Аладжалов, ни А. Бенуа, ни И. Бродский, ни М. Врубель не выставлялись бы в Союзе русских художников в прошлом, а В. Куракса, С. Пен, М. Фаткулин – в наше время.
Что касается второго мифа, то справедливо было указано, что Союз художников России объединяет тысячи авторов по профессиональному признаку и представляет не только реалистическое направление в живописи, а Союз русских художников – сравнительно небольшое (пятьдесят участников) идейное объединение художников-реалистов, не владеющее ни фондом мастерских, ни собственными помещениями.
В экспозиции четвёртой выставки были представлены произведения 42 художников, в числе которых почётные экспоненты А. и С. Ткачёвы, М. Фаткулин, В. Сидоров. Практика приглашения почётных экспонентов существовала и сто лет назад. Именно в таком статусе в СРХ принимали участие легендарные В. Васнецов и В. Суриков.
Среди двухсот работ выставки каждый зритель мог найти что-то близкое по духу и настроению: жанровая картина на тему православия, русской истории, современной деревни (А. Боганис, С. Гавриляченко, А. Дроздов, Н. Зайцев, И. Каверзнев, С. Смирнов, М. Фаюстов, Д. Шмарин), лирические пейзажи и натурные этюды различных уголков России (А. Алёхин, А. Дареев, Ю. Мокшин, М. Изотов, А. Клюев, В. Орлов, Ю. Орлов, В. Страхов, Н. Третьяков), портреты (А. Дроздов, Ю. Маланенков, Н. Пластов), графика (Н. Зайцева, М. Кочешков, Ю. Ткачёв).
В этом году строго было соблюдено правило выставлять на выставках только новые либо нигде ранее не показывавшиеся картины. Некоторые произведения, не соответствовавшие этому принципу, были сняты с выставки. При этом в союзе, несмотря на то, что там представлены четыре поколения авторов, стремятся в равной степени одинаково требовательно относиться как к художникам, носящим почётные звания народных и академиков, так и к недавним выпускникам художественных вузов, не облачённых регалиями. Считается, что каждый автор должен отвечать перед коллегами и зрителем новыми произведениями и ежегодно заново подтверждать свой творческий потенциал.
Открытие завершилось вручением ежегодной премии им. А. Пластова. Эта премия была учреждена в рамках союза в 2008 году по инициативе его участников и с согласия наследников великого мастера. Несмотря на то, что премия не носит государственного статуса, её значение в том, что она присуждается художниками художнику, а высокая оценка и искреннее признание коллег всегда ценились в мире живописи. Новым лауреатом премии стал представитель Красноярска, член-корреспондент РАХ А. Клюев.
Олег ДЕНИСОВ
Обсудить на форуме
Попытка переворота
Попытка переворота

После того как мы
окончательно потеряли из виду
цель, мы удвоили наши усилия.
Джордж Сантаяна
Шёл на фильм «Жила-была одна баба», уже прочитав многое из того, что было написано о работе Андрея Смирнова и сказано им самим в многочисленных интервью. Вместе с режиссёром обиделся на жюри Монреальского кинофестиваля, которое почти всех участников конкурса хоть как-то наградило, а нашу «Бабу» никак. Тут, правда, несколько запутался, потому что, по мнению режиссёра, фильм не может понравиться коммунистам и фашистам – неужели они оккупировали Канаду? В другом интервью зацепило сетование Андрея Сергеевича на то, что фильм зрители принимают или не принимают, но никто не говорит о его художественных качествах. Потому, устроившись поудобнее в кресле полупустого (странновато для премьерного показа) кинотеатра «Пионер», отрешился от «хвалы и клеветы» и приготовился не «принимать или не принимать», а получать потрясение от искусства[?]
МОТИВЫ ВЫМЫСЛА
Андрей Смирнов, не снимавший 30 лет, говорил о том, как теперь, в отсутствие цензуры, работать было непривычно и радостно. Режиссёр вспомнил вопиющий случай. Советские церберы заставили его переснять финальную сцену «Белорусского вокзала»: надеть майки на голых по пояс ветеранов и беспощадно переснять[?] Но стоп, стоп, вы видели голый торс Евгения Леонова? А вдруг редакторы поступили правильно – непрезентабельная, отчасти юмористическая физиология жировых складок полуголых дядек могла увести в сторону и смазать мощный песенный финал картины?.. Кстати, говоря о «Белорусском вокзале», часто забывают человека, без которого никакого «кина бы не было», – автора замечательного сценария Вадима Трунина. И совсем некстати: «зверства советской цензуры» не страшнее диктата продюсеров в Голливуде – искусству коммерческие препоны преодолевать даже сложнее, чем идеологические.
Однако обратимся к началу начал, к сценарию «Одной бабы». Андрей Смирнов, увлёкшись ещё в 1987-м темой антоновского восстания, писал его много лет. Наконец закончил, дал почитать предпринимателям Абрамовичу, Вексельбергу, Коху, а также Чубайсу, Гозману, Сердюкову, Слиске и другим влиятельным киноманам. Они сценарий одобрили и помогли режиссёру, судя по высказанной им «особой благодарности», его экранизировать[?] Смею утверждать, что в стране докоха-слисковского периода, когда ещё существовали какие-то творческие критерии и огромную роль играл институт редактуры, сценарий не был бы принят на уровне худсовета любой киностудии, и именно (отложим в сторону политику) по художественным причинам.
Нет Истории. Ни одной из ключевых фигур и коллизий «русской Вандеи»: ни Антонова, ни Токмакова, ни Тухачевского, ни большевиков, эсеров – зачем автор столько лет провёл в архивах? Революция, комбеды, развёрстка даны в фильме на уровне обозначений. Но главное, нет человеческой истории. А та, что есть, вызывает множество вопросов.
История же, в которой, надо полагать, должна была отразиться трагедия русского крестьянства, случайна, схематична, выдумана в худшем смысле слова. Героиня с говорящим именем Варвара покорна и безропотна – то ли человек, то ли домашнее животное. Сочувствие ей, постоянно оскорбляемой, возникающее вначале, вскоре замещается досадой и гадливостью. Зачем сценаристу понадобилось так часто и грязно насиловать своё создание? Как Варвара может жить с мерзким Малафеем (талантливый Алексей Шевченков уже не в первом фильме пользует жирную краску: отвратительную гнилозубую улыбку)? Непутёвая сексуальная жизнь героини венчается тем, что она встречает наконец мужчину (Алексей Серебряков), который её удовлетворяет. Она хочет ещё и ещё, называет себя сучкой жадной[?] От долгожданных оргазмов перейти бы к любовной истории, развить, одухотворить интригу, и тогда Варвара после казни сексуального партнёра не формально почернеет (хорошая работа операторов – Николая Ивасива и Юрия Шайгарданова), а оправданно, как солнце в «Тихом Доне». Но нет, автор засовывает героя в конец сценария и вскоре расстреливает.
В финале поток уносит всех поголовно, выбрался из пучины только парень-даун, видимо, сценарист спас его из соображений политкорректности – но тем не менее мечту нациста Розенберга о нечистых народах он в фильме практически осуществил. «Деревню Гадюкино смыло». Метафора в лоб, однако она не имеет отношения к реальности: ведь и тамбовская губерния выжила, дети тех самых крестьян победили розенбергов в 45-м. Да и Россия сейчас, как её ни «умывают», а всё жива. И заливало-то как раз не нас, а Японию, Флориду; на днях Бангкок, Италию в прямом смысле чуть не смыло, а фигурально экономики и Евросоюза, и США тонут, Смирнов же топит Россию[?]
АНДРОИДЫ
Размышляя о сценарии (по мотивам произведений Лескова, Чехова, Бунина и Шмелёва), нельзя, конечно, не вспомнить «Тихий Дон». И время, и среда схожи, но[?] У Шолохова герои – люди (со страстями, характерами, сложными отношениями), в «Одной бабе» – сказочные (оттолкнёмся от имени автора) андроиды, нелюди, придуманные Андреем Смирновым. Народ-скот, грязный, пьяный, беспутный, который к тому же таким, как он полагает, был всегда. Русское крестьянство (уникальный случай, когда в именовании сословия заложена его христианская вера) Андрей Сергеевич изобличил пуще Владимира Ильича с его «идиотизмом сельской жизни».
Режиссёр как-то жаловался, что на Тамбовщине, кого он ни спрашивал, никто не помнит об антоновском восстании. Думаю, дело тут в незнании им менталитета народа, о котором снималась «народная драма». Крестьяне не станут абы кому что-то рассказывать. Нужно было заслужить их доверие, а о том, что на Тамбовщине хорошо помнят свою историю, свидетельствуют многие отклики в Интернете и письма в нашу газету («Скотский хутор», № 42). Автор фильма не учёл, что действительно б[?]льшая часть зрителей в отличие от него во втором, третьем поколении деревенские и знает о сельском быте и трагедиях начала века больше, чем он.
В сценарии один приличный человек – Давид Лукич, местный «Живаго», он ни с красными, ни с белыми, ни с зелёными, но и тут автор сценария не удерживается, заставляя героя утопить в лошадином дерьме подвернувшегося красноармейца.
Чтобы вернуть отнятую кобылу.
Все – звери.
Режиссёра упрекают в клевете на русский народ, но тут я решительно протестую. Тот убогий сброд, что изображён в фильме, к великороссам отношения не имеет.
В «Одной бабе» заняты хорошие актёры, однако с самого начала раздражает разнобой в исполнении. Нина Русланова играет изумительно точно, замечательно «незаметно», задавая камертон правды, но ему почти никто не следует. Роман Мадянов смачно «лепит образ» купца-самодура из Островского, талантливейшие Евдокия Германова и Агриппина Стеклова, почему-то неаккуратно измазанные гримом, «дают типа» под Салтыкова-Щедрина[?] Вообще вся семейка Баранчика, в которую попала несчастная героиня, настолько диковато подла, что доверие к фильму убывает от кадра к кадру. И растут вопросы[?] Если семья зажиточная, то почему так скученно живёт? Когда они работают, если всё время пьют?.. Непонятен муж Варвары в исполнении Влада Абашина, манера его игры правдиво-натуралистичная, но кто его герой, зачем его женят? Почему на Варваре? Он любит другую, или – только водку, или всё дело в его хронической импотенции?.. Тема мужского бессилия, непонятно почему, сквозная в фильме. Очарованный странник-убивец в исполнении Максима Аверина был бы очень хорош, но его таинственно-романтическое явление с отсылами к Китеж-граду вдруг обрывается. Как и пребывание в фильме мужа Варвары. Обрывки, обрывки, история с переломанным хребтом...
Андроиды в отличие от крестьян общины начала века всё время пьют, курят и морды бьют, и вдруг – великолепная эпическая картинка покоса, но она в фильме единственная, очень короткая и находится в непримиримом противоречии со всем остальным, сумрачным и нечистым[?] Никакой духовной жизни автор героям не оставил. Батюшка в исполнении Всеволода Шиловского странно невнятен, но, как и все, грязноват, как и все, сочувствия не вызывает. Зачем он дует самогон с красноармейцами? Почему те палят из пулемёта по толпе – разве кто-то бунтовал? Всё не по-взаправдашнему. И расстрелы у стен храма. Антоновцы – красных, красные – антоновцев. Ни тех, ни других не жалко.
ДРУГАЯ ТЕМА
В русской культуре совершена попытка переворота (к счастью, неудачная): впервые художник ставит крест на целом народе, бывшем в начале прошлого века, и само собой – на теперешнем, не менее униженном, неустанно оскорбляемом и развращаемом[?] Такой вот «подвиг разведчика», профинансированный господами, упомянутыми в начале статьи, при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии. Однако, несмотря на мощнейшую рекламную кампанию, по высказанным причинам народ фильм проигнорировал[?]
И вот о чём стоит задуматься – сам Андрей Сергеевич надоумил, с энтузиазмом вспоминая о революционном съезде кинематографистов 86-го года, его огромном вкладе в демократизацию, борьбу Горбачёва и Яковлева за свободу и гласность[?] Некстати опять, убийственный парадокс: совершив демократическую революцию в кинематографе, революционеры либо не сняли вообще ничего, как выдающийся советский режиссёр Элем Климов, либо что-то, ни в какое сравнение не идущее с тем, что ими же было создано при «кровавом режиме». Бились за свободу и добили отечественную киноиндустрию. А творческой свободы стало больше? А просто свободы? А хороших фильмов?
Отвечая на вопрос о том, как бы отнёсся к фильму его отец (замечательный советский писатель Сергей Смирнов – его книга о Брестской крепости и телеальманах «Подвиг» на многих из моего поколения произвели жизнеопределяющее воздействие), сын ответил, что, скорее всего, из идеологических соображений отрицательно.
И вот наконец – интереснейшая тема для драматического художественного исследования.
Сын предаёт отца – во время революции сплошь и рядом, про это в фильме ничего нет, а в жизни детей лауреатов ленинско-сталинских премий было? У нас же тоже произошла революция – антисоциалистическая. Трагичнейшая коллизия – отцы воспитали сыновей, чтобы те угробили дело их жизни.
Звонкие имена: Алексей Учитель, Павел Чухрай, Дмитрий Светозаров (сын великого режиссёра Иосифа Хейфица), Алексей Герман, братья Михалковы, Виктор Ерофеев, Александр Миндадзе, Марат Гельман и Андрей Смирнов, не так давно интересно сыгравший старшего Кирсанова в «Отцах и детях»[?]
Необходимо понять диалектику отрицания, приведшую к гибели великой страны[?] Отцы, может быть, были наивны, в чём-то заблуждались, совершали ошибки, но у них была цель – построение справедливого общества, они служили, как могли, не Мамоне, а отечеству, народу, социализму, искусству[?] А дети – чему? Кому? Во имя чего?
В заключение возвращаю режиссёру слоган «Одной бабы» «Те, кто не помнит прошлого, обречены переживать его вновь[?]» – святая правда, но одно дело – прошлое далёкое, крестьянское, которое режиссёр, как выяснилось, не помнит, не понимает и извращает, другое дело – совсем недавнее прошлое.
Почему никто из мэтров кино не хочет снять честный фильм о подвиге и предательстве советской интеллигенции, разобраться в современном трагическом конфликте поколений?
Покуда, отталкиваясь от другого афоризма того же Джорджа Сантаяны, можно сказать: окончательно утеряв цель, они врут с удвоенной силой.
Александр КОНДРАШОВ
Обсудить на форуме