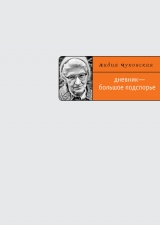
Текст книги "Дневник – большое подспорье…"
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Лидия Чуковская
Дневник – большое подспорье…
© Лидия Чуковская, наследники, 2015
© Елена Чуковская, составление и комментарии, 2015
© Валерий Калныньш, макет и оформление, 2015
© «Время», 2015
* * *
Юрий Карякин. Память как совесть
Работаю над дневниками Юрия Карякина (1994–2007), готовлю их к изданию. Глаз останавливается на страницах из дневника за 1996 год о Лидии Корнеевне Чуковской. Отсылаю их Елене Цезаревне, Люше, как привыкли мы с Юрой называть ее, – вдруг будет ей интересно.
Звонит Люша, говорит, как всегда, строго по делу, коротко. «Я в больнице. В ближайшие дни не смогу работать. Прошу Вас, Ира, передать страницы из юриного дневника для вступления к книге «Дневник – большое подспорье» в издательство «Время».
Вот эти страницы.
Ирина Зорина-Карякина
11 февраля 1996
Похоронили Лидию Корнеевну на Переделкинском кладбище.
Героизм ее привел к гениальности. Л. К. посвятила себя другим людям, отдавала им себя целиком. Началось для нее это с того, что она уже в детстве вечерами читала отцу книги, чтобы он заснул. И потом всю жизнь она верно служила своим близким – прежде всего, конечно, Ахматовой.
Человек чести, совести. И человек справедливости.
Я не знаю, никак не могу найти точного слово – одного, чтобы ее определить. Может быть: ПОРЯДОЧНОСТЬ, порядочность и в уме, и в чести, и в совести. Но – особенно в языке, в орфографии, синтаксисе… Для нее язык русский и был радостным полем и ума, и чести, и совести. Она не допускала неправильного письма и неточно поставленную запятую считала не просто ошибкой, а даже преступлением. Превратить орфографию, грамматику, синтаксис – в мерило нравственности – право, это никому еще, кроме нее, никогда не удавалось. Абсолютная влюбленность, нет – любовь, навсегдашняя, к языку русскому – язык для нее был хранителем, дитем, которого нельзя предать.
Именно она восстановила это абсолютно забытое слово – ПОРЯДОЧНОСТЬ – ПОРЯДОК, т. е. дисциплина и в уме, и в чести, и в совести. Вместо классической умилительной квазирусской беспорядочности.
Реакция на бесчестность, недобросовестность, несправедливость, подлость и на власть у Л. К. всегда была молниеносной, точной и твердой.
Рассказ Люши: Весной 1979 г., уже после того, как вышла «Чукоккала», Л. К. работала над подготовкой к изданию книги Ахматовой, а Люша ей помогала. И однажды она пошла на вечер в Дом ученых, где была объявлена тема: «Библиотека Ахматовой». Это были годы, когда Л. К. была еще под запретом, и имя ее не произносилось публично.
Лектор, какой-то чиновник от литературы, рассказывая о взглядах Ахматовой, все время цитировал книгу «Записки об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской, не упоминая автора и давая даже свои комментарии, порой прямо противоположные цитируемому тексту. Например, Ахматова говорила, что она не любит Есенина. Лектор тут же поправлял: конечно, она высоко ценила Есенина и т. д.
В ходе лекции Люша не решилась встать и потребовать назвать автора цитируемых воспоминаний, выявив безнравственность происходившего. Но в перерыве подошла к лектору и сказала, что надо либо назвать автора цитируемой работы, тем более что на этих текстах была построена вся лекция, либо не использовать этой книги. Лектор первым делом спросил, кто она такая, тут же добавив: «Имя Л. К. Чуковской упоминать нельзя». К удивлению Люши, на нее набросились и слушатели, в основном немолодые слушательницы, которые сочли, что им мешают таким образом узнать, что думала Ахматова.
Придя домой, Люша рассказала маме, что произошло. Реакция Лидии Корнеевны была немедленной и жесткой: «Почему ты не встала и не спросила из зала сразу, кто автор текстов, если ты их узнала. Нельзя же так трусить».
Идешь к ней – страх (не трусость! хотя иногда и трусость) с ней увидеться, с ней услышаться. Всегда – страшный экзамен – экзамен на совесть, на честь, на ум, на слух.
Она – воплощение памяти. Нечистая совесть – это (маскируется!) плохая память. У нее была самая хорошая, самая точная память на Руси, память-совесть.
Однажды, уходя от нее, я навсегда запомнил ее слова: «Я писатель – без читателя»… Позже, много позже, уже прочитав «Записки об Анне Ахматовой», я написал Лидии Корнеевне письмо. Вот оно, нашел:
30 марта 1983
Дорогая Лидия Корнеевна!
Уже то, что в те времена свершила Ахматова своими стихами и Вы – «Записками», – это, конечно, великий и, наверное, беспримерный подвиг, в самом первозданном – русском – смысле этого слова.
Поблагодарим гетевского Эккермана, толстовского Гусева или пушкинского Пущина. Но чтоб такое, что сделали Вы – вместе! – такого еще не бывало.
Две женщины оказались мужественнее – в своих чувствах, мыслях, в своей совести и работе, в Слове и поступках – мужественнее стольких тысяч «мужей», две «рафинированные интеллигентки» – надежнее самых «твердокаменных» и «стальных».
В числе других (оказывается, их было не так уж мало) Вы спасали и спасли честь и совесть нашего народа, честь и совесть русской интеллигенции, русской литературы, честь, совесть и достоинство русского Слова – лучшего, может быть, что у нас есть, Слова, которое было и осталось – делом.
Откуда это? Почему? Я не нахожу пока другого ответа, кроме: это – от культуры, от многовековой культуры (нашей и мировой), ставшей Вашей и Ахматовой второй натурой, это – от верности Пушкину.
Не случайна, конечно, – я не знаю, осознанна ли? – ваша гениальная конспирация: «Я попросила ее почитать мне Пушкина»… Пушкин = «Реквием»!
Полуживые, искалеченные, окровавленные люди выстояли сами, спасали и спасли общенародную культуру, совесть, и… они же «всех виноватей»! И кто обвинители? Те, кого хватают инфаркты не от бед и горя своего народа, а лишь от страха не угодить начальству, потерять место или от ожирения.
Успеете наахаться
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня…
Вы обе научили. Вас обеих шарахаются. И то, что вы обе сделали, – это и есть небывалый РЕКВИЕМ и, одновременно, ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ, написанные буквально под топором.
Я знаю, Вы скажете: «Преувеличиваете…». Но я в этом убежден и благодарю судьбу за то, что она, «в порядке чуда», привела меня к Вам.
Ошибка той старухи, которая спутала Вас с Ахматовой, не так уж безосновательна.
Стихи, сочиненные втайне, произносимые шепотом, записанные на бумажке, которая тут же – после запоминания – сжигается, – я не знаю страницы в истории литературы более страшной, трагической и прекрасной. А потом еще – воскрешение по словам отдельным, по строкам. А беспомощно-требовательное ахматовское – «Вспомните, Лидия Корнеевна!..».
Страшно подумать: не будь всего этого, не сохранись все это…
Если бы у меня был поэтический или музыкальный дар: как мне хотелось бы написать о той, которая создала «Реквием», и о тех одиннадцати, которым она читала его и которые остались ей верны и спасли и ее, и его. Но это сделают и без меня, – я абсолютно уверен. Нам вообще, я убежден, нужна книга не только о тогдашних преступлениях, но и о подвигах тогдашних.
Мне всегда больно, когда я вспоминаю Ваши слова: «Я писатель без читателей», сказанные мне с год назад. Но Вы же знаете, что это и так, и не так. Надеялись ли Вы пережить Сталина? Переписать «Записки?» увидеть их изданными?.. Сейчас у Вас сотни (много тысяч) читателей. Но дело-то главное – сделано! Будут, будут они изданы и у нас. Вы, может быть, сами не представляете, как Вы уже сейчас помогли и помогаете людям. Ваша книга сама выращивает братьев.
Поразительна Ваша беспощадность к себе и к любимому «предмету». Вы – из редчайших людей, которые умеют не лгать, точнее не умеют лгать. Меня всегда обессиливало и бесило, когда сладко-мужественные рожи назидали мне и другим: Чехов выдавливал из себя раба… Сам, дескать, вынужден был признать… Говорилось и говорится это так, будто сами они и не ведают, что такое раб в тебе… Чехов – Чехов! – по каплям выдавливал, а они – пуды лелеют ‹…›
Уже не собственно о «Записках», а о Книге. Какая здесь школа культуры, школа редактирования. «Примечания» – особый гигантский и красивейший труд. ‹…› Вы превратили «примечания» в абсолютно новый, чисто художественный жанр.
Дорогая Лидия Корнеевна! Спасибо Вам бесконечное и – держитесь, держитесь, держитесь. Работы Вам и здоровья!
* * *
Лидия Корнеевна была одна из тех уже немногих, кто остался в России истинным читателем и ценителем книг. Когда она уже не могла читать даже через лупу, она не расставалась с книгой. Ей читала Фина (Ж. О. Хавкина, многолетняя помощница Л. К. Ч. – И. З.) каждый день, и она заказывала книгу на завтра. Последнее, что она собиралась читать – Солженицына.
Сегодня мы уже знаем ее прозу. Эта проза, мемориальная, удивительно и точно художественна. Но при нашей нынешней перенасыщенности всякого рода информацией пока, как мне кажется, прошли нерасслышанными ее стихи. А вот вчитайтесь:
…Опять чужая слава
Стучит в окно и манит на простор
И затевает важный, величавый,
А в сущности базарный разговор.
Мне с вашей славой не пристало знаться.
Ее замашки мне не по нутру.
Мне б на твое молчанье отозваться,
Мой дальний брат, мой неизвестный друг.
Величественных строек коммунизма
Строитель жалкий, отщепенец, раб
Тобою всласть натешилась отчизна,
Мой дальний друг, мой неизвестный брат.
День ото дня седеет голова.
Губами шевелю и снова, снова
Жгут губы мне непрозвучавшие слова.
(январь 1953)
12 февраля 1996
Самая главная беда, самая главная боль – даже не в том, что Лидия Корнеевна Чуковская умерла (чуть-чуть не дожив до 90, – родилась в 1907-м), а в том, что очень мало людей, которые знают и понимают, КТО умер, очень мало и в народе, и в верхах (а там вообще, наверное, нет никого).
На поминках Наталия Дмитриевна Солженицына сказала: «Мы осиротели». К великому несчастью нашему, слова эти относятся (пока) лишь к тем, кто знал ее лично.
Достоевский повторял: у нас святых – полно, а просто порядочных – нет… Вот в ней и был кристалл порядка, порядочности, кристалл дисциплины – и в уме, и в чести, и в совести. Но так и неясно: кристаллики ли эти преобразуют наш русский хаос или, напротив, хаос этот прожует, не заметив, и выплюнет эти кристаллики.
С советской властью, с коммунизмом у Лидии Корнеевны (по наследству от отца, по наследству от всей великой литературы нашей) были не поверхностные социально-политические, идеологические разногласия. Нет – был глубочайший непримиримый стилистический, языковый антагонизм.
Изнасилование русского языка она воспринимала именно как изнасилование народа. «Язык – народ», – говорил Достоевский. И он же писал в «Братьях Карамазовых»: «…тут дьявол с Богом борются, а поле битвы сердца людей…» Для нее таким полем был русский язык.
Однажды, лет десять назад, я пришел к ней (в Переделкино) и она по-детски пожаловалась: «Когда хожу гулять, даю себе задание…» («Задание»! – она всю жизнь давала себе «задания» и всегда их выполняла, здесь она – вся, монашески-рыцарственная, с обетами, которые ни разу не были нарушены.) Так вот, она сказала: «Сегодня дала себе задание – вспомнить “Евгения Онегина”. И – ужас! – забыла две строфы…»
А еще однажды, позвонив мне, она попросила дать сноску на такие слова Достоевского: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее». Я был счастлив, что вспомнил, где это сказано (Ф. М. Достоевский, т. 26, с. 198–199), а главное, что вдруг понял: это сказано – и о ней. Потому-то она, может быть, неосознанно, и искала помощи у Достоевского.
Все мы боялись государственной цензуры и – обманывали ее, а все равно оставался страх, страх, тебя унижающий.
Перед нею тоже был страх, но страх, тебя возвышающий: она была абсолютно нелицеприятным, неподкупным цензором совести.
Всего сейчас не скажешь, что знаешь, что помнишь. Есть, слава Богу, люди, которые знают и помнят больше, чем я. Уверен: будет книга памяти о ней, о могучем роде Чуковских. В России культура хранится и передается в семье. Такую культурную традицию несла семья Чуковских.
По чистоте своей души, по высоте своего духа, по несгибаемости воли своей Лидия Корнеевна навсегда останется рядом – и наравне – с Ахматовой, Сахаровым, Солженицыным. Она была им всем другом, надежным и самоотверженным.
При ней, как и при А. Д. С. и при А. И. С., – физически невозможно было говорить нечестно, несовестливо, неумно. И лучше уж помолчать.
Ну не случайно же, что и Солженицын, и Сахаров, и Ахматова были ее лучшими и надежными друзьями, как и она – их.
Высшей награды – быть не может.
Публикация И. Зориной-Карякиной, декабрь 2014
От составителя
Лидия Чуковская вела подробные дневники. Сохранились ее записи с 1938 по 1995 годы. Первую попытку их частичной публикации Лидия Корнеевна предприняла в начале 1960-х гг. после смерти своей близкой подруги Т. Г. Габбе. Она выбрала из дневника записи о Тамаре Григорьевне, собрала небольшую папку и показала ее Маршаку. Маршак прочел и сказал: «Это Ваш жанр».
Его высокая оценка записей имела большое значение для Л. К., которая считала Маршака своим учителем. Мнение Маршака подвигло ее на продолжение работы в том же жанре. Следующей ее работой, сделанной на основе дневника, стали трехтомные «Записки об Анне Ахматовой», над которыми она работала начиная с 1966 года и до февраля 1996-го.
На основе своего дневника Лидия Корнеевна составила выборку о Борисе Пастернаке, напечатанную в журнале «Литературное обозрение» (1990. № 2, с. 90–95) и в сборнике «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (М., 1993).
Дальнейшие публикации из дневника печатались лишь посмертно. Тут надо назвать «Ташкентские тетради» (М.: Согласие, 1997, с. 343–515), записи об Анне Ахматовой, сделанные в первые месяцы после ее похорон «После конца: Из “ахматовского” дневника» (Знамя. 2003. № 1, с. 154–167). Позже были напечатаны «Полгода в “Новом мире”», а также «Иосиф Бродский», «Александр Солженицын» и «“Софья Петровна” – лучшая моя книга». Все эти публикации, появившиеся сперва в журналах, вошли в последний том ненумерованного Собрания сочинений Лидии Чуковской (Из дневника. Воспоминания. М.: Время, 2014).
В настоящую публикацию вошли записи, отобранные под другим углом – это впечатления от читаемых книг, записи о литературных событиях, общие взгляды на обстоятельства жизни, судьба авторских работ в советских и зарубежных издательствах, мысли о своем дневнике и его предназначении. Большое место в дневнике занимают портреты современников.
Все публикуемые дневниковые записи печатаются впервые. Сохранено написание названий книг, газет, журналов, учреждений с прописной буквы, как у автора.
Дед (отец Л. К.) пишется то со строчной, то с прописной буквы, тоже как у автора.
Для удобства читателя бесспорные сокращения развернуты без угловых скобок. Многочисленные инициалы упоминаемых лиц даны с фамилиями в списке сокращенных и уменьшительных имен, а иногда в тексте дневника в квадратных скобках. См. также указатель имен.
СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ И УМЕНЬШИТЕЛЬНЫХ ИМЕН, ЧАСТО УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ:
АА, А. А. – Анна Андреевна Ахматова
А. Д. – Андрей Дмитриевич Сахаров
А. И. – Александр Исаевич Солженицын
Б. Л. – Борис Леонидович Пастернак
Ваня – Иван Игнатьевич Халтурин
Геша – Герш Исаакович Егудин
К. И. – Корней Иванович Чуковский
Люша – Елена Цезаревна Чуковская
Н. Я. – Надежда Яковлевна Мандельштам
С. Э., Сарра – Сарра Эммануиловна Бабенышева
С. Я. – Самуил Яковлевич Маршак
Туся – Тамара Григорьевна Габбе
Фина – Жозефина Оскаровна Хавкина
Фрида – Фрида Абрамовна Вигдорова
Шура – Александра Иосифовна Любарская
Э. Г. – Эмма Григорьевна Герштейн
Благодарю Л. А. Абрамову, Л. А. Беспалову, Е. В. Иванову и М. А. Фролова, прочитавших рукопись и сделавших мне ряд полезных замечаний. Сведения, сообщенные М. А. Фроловым для примечаний, отмечены в ходе изложения.
Елена Чуковская
«Дневник – большое подспорье…»
17/XI 38. Марксисты много писали о зависимости идеологии от корысти. О, как они правы.
«Буду думать так, потому что так мне удобнее и спокойнее». «Заткну уши».
(Но разве ты не слышишь кожей?).
«Буду думать так, потому что иначе окажется, что моя жизнь нечиста, неправа».
Буду подгонять мысль к ответу, потому что иначе ответ, опровергаемый фактами, полетит к чертям собачьим, а мне без него неуютно. Он утешает меня. Он делает меня стойким, сильным, даже гордым. Как мало людей, которые имеют мужество стать выше собственной выгоды – хотя бы в мыслях. Не материальной выгоды – моральной. Как дорого ценят люди душевный комфорт. Душа во что бы то ни стало хочет чувствовать себя праведницей.
Впрочем, цепляется человек и за материальный комфорт – и даже, конечно, в первую очередь. Столовая карельской березы. В кабинете гостям: «это павловский диван». Если позволить себе додумать мысль до конца – ту, которая непринужденно растет из окружающих фактов – и, главное, если иметь смелость дать ей наименование, назвать ее словами – хотя бы себе самому – куда денется душевный уют? И диван?
30/IV 39. «Человек – система, замкнутая на себя». Об этом часто мы говорили с Гешей[1]1
Геша – Герш Исаакович Егудин (1908–1984), математик, друг М. П. Бронштейна и Л. К. Чуковской еще с довоенных времен.
[Закрыть]. Это так, конечно; этому меня нечего учить. Но всё, что на земле прекрасно – искусство, любовь, лейтенант Шмидт – все возникло из героической попытки человека преодолеть замкнутую систему. Трагические поражения на этом пути – Блока, Маяковского, Толстого – оставляют после себя великие победы искусства.
В любви на этом пути только поражения, пожалуй. Но не всегда. И поражения даже, грустные, горькие – как они создают человека, помогают постигать себя, людей, мир. Крупность человека рождается из его попыток установить связь с миром – любовью ли, жертвой, поэмой ли, проповедью.
30/X 39. Долосы. Мирон[2]2
Мирон Павлович Левин (1917–1940), критик, поэт. О нем см. Приложение «Из пояснений 1966 года»; а также: Лидия Чуковская. Прочерк. М.: Время, с. 2009, с. 146, 147, 164–167, 315–320.
[Закрыть] не встретил меня в Ялте, как мы условились.
Из гостиницы я позвонила наверх, в Долосы.
– У Левина температура 39 с десятыми, – ответила мне дежурная сестра. – Обострение.
А он хотел показать мне горы и сосны. Какие-то особые места, где валуны во мху и сосны низкорослые, японские.
Горы, горы, машина трудно идет вверх. И вдруг на каком-то повороте внизу открывается синева цвета неба за плечами у Мадонны Litta. Это море.
Синее небо вверху, синее море внизу, а между ними сосны. Но не японские, а скорее финские, мачтовые.
Прозрачность. Густая синева. Тишина. И нисколько не нарушая синевы и тишины, навстречу машине вдруг выбегает санаторий. Это белые домики, опоясанные широкими балконами. Балконов множество, они под парусиной, там видны люди, но тишина остается ненарушимая. Голосов человеческих не слышно. Я вглядываюсь, ища на балконах глазами Мирона, хоть и понимаю, что при 39° он наверное лежит в палате.
В маленьком вестибюльчике мне выдали белый халат. Я поднялась по лестнице и нашла пятидесятую палату.
Лежит. Белый бинт вокруг шеи, худое, узкое, длинное лицо. Поздоровался со мною шепотом.
Вот почему здесь так тихо. Все они наверное не могут говорить, могут только шептать.
Понимаю сразу: это не обострение, это конец.
И он наверное понимает. И пытаясь за грубостью скрыть тревогу свидания, произносит весьма светски и совсем нелюбезно:
– Приехали? Очень рад. Вот если бы Ираклий[3]3
Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990), писатель, историк литературы, актер.
[Закрыть] приехал, я выздоровел бы наверняка.
Но Ираклий не приехал, приехала я, и Мирон сам, к моему ужасу, начинает давать мне представление à la Ираклий… У него новые мысли и новые песни. Лежа, шепотом поет и показывает. Он сильно вырос с тех пор, как мы не виделись, и репертуар обогатился.
Рассказ Ольшевской о Полонской 6/Х 41
6/Х 41. Записываю рассказ Нины Антоновны Ольшевской о Маяковском.
«Полонская – моя лучшая подруга в то время. Мы вместе учились в Художественном. Нам было что-то около 20[4]4
Вероника Витольдовна Полонская (1908–1994) и Н. А. Ольшевская (1908–1991) учились в театральной школе при МХТ с 1924 г. (и Ольшевской, и Полонской было по 16 лет). В их группу входили: В. В. Полонская, И. С. Анисимова-Вульф, Н. А. Ольшевская, И. Ф. Кокошкина, В. В. Грибков (так и занимались впятером весь курс). Эти сведения – из беседы Л. А. Шилова с Полонской 11.01.1991, снятой С. Филиповым на видеокамеру. – Сообщил М. А. Фролов.
[Закрыть]. Мы были девчонки, и она от меня ничего не скрывала.
В Художественном Маяковского терпеть не могли. Нас всячески им пугали – им и Есениным. Оба считались хулиганами. Есенина потом простили, потому что он подружился с Качаловым через Толстую[5]5
Софья Андреевна Толстая (1900–1957), внучка Льва Толстого, последняя жена Сергея Есенина.
[Закрыть]. А Маяковский остался хулиганом.
Мы с Норой как-то слыхали его с эстрады – он перекидывал папиросу из одного угла рта в другой, очень грубил публике и нам не понравился.
На дому Норка увидала его в первый раз когда ее пригласили сниматься для кино в плохой вещи Л. Ю. Б.[6]6
Л. Ю. Б. – Лиля Юрьевна Брик (1891–1978).
[Закрыть] «Стеклянный глаз». Норка тогда была так красива, что все столбенели. Л. Ю. пригласила ее, т. к. она понравилась Осипу Максимычу, а у Л. Ю. на горизонте уже маячил Примаков[7]7
Примаков Виталий Маркович (1897–1937, расстрелян), советский военачальник, муж Л. Ю. Брик.
[Закрыть]. (Кстати, он действительно очень дурно относился потом к Маяковскому, уверял его, что он исписался, что он «не наш» и т. д.). Норка побывала у Л. Ю. и вдруг Маяковский ей очень понравился, она мне таинственно в этом созналась. Но ее долго приглашал туда О. М. А потом хозяйке понадобилось «отвлечь Володю» и тогда она «повернула» Маяковского на Полонскую.
Так начался этот роман. По указанию Л. Ю.[8]8
В. В. Полонская познакомилась с Маяковским 13 мая 1929 года на бегах, куда приехала с О. М. Бриком.
[Закрыть]
Маяковский называл Нору «желторотик» и «Норкушка».
Она – очень хорошая, прелестная, правдивая женщина. О ней говорят всякие гадости, «кукла» и пр. Но это неправда. Ардов[9]9
Ардов Виктор Ефимович (1900–1976), писатель-сатирик, муж Н. А. Ольшевской.
[Закрыть] написал о ней целую тетрадочку и отнес в Музей Маяковского.
Роман этот очень быстро стал для Норы мучением. Маяковский нравился ей только в самом начале. А потом она уже хотела порвать. Он мучил ее. Дело было в том, что Маяковский ее ревновал и любил, но всегда подчеркивал, что близка ему дружески, по настоящему, только Л. Ю. Полонской это было тяжело. Потом он хотел на ней жениться – под конец – но она не хотела.
Все это описано в ее воспоминаниях[10]10
Воспоминания В. В. Полонской см.: Вопросы литературы, 1987. № 5. Полнее: сб. Серебряный век. М.: Известия, 1990.
[Закрыть]. Она отдала их в Музей с тем, чтобы их не вскрывали до ее смерти.
Она была у него и торопилась на репетицию «Первой молодости»[11]11
«Первая молодость» – имеется в виду пьеса С. Карташева «Наша молодость» по роману В. Кина «По ту сторону» (вопросы личности и долга в комсомольской среде в эпоху гражданской войны). Это была первая крупная роль Полонской в МХАТе.
[Закрыть]. Он не хотел, чтобы она ехала. Она вышла в переднюю и только успела надеть одну калошу – раздался выстрел. Когда она вбежала в комнату, он еще падал. Он упал лицом вниз, ей в колени.
Я потом провела с ней вместе целый месяц, не отходя от нее ни днем, ни ночью… Она была очень больна. Она не спала месяц, и я не спала месяц.
В первый период их романа мы все виделись очень часто. Маяковский водил нас с Норкой по всяким местам, «просвещал» нас. Никогда не забуду, как мы ходили с ним слушать Уткина[12]12
Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт.
[Закрыть] в Политехнический Музей. Мы опоздали. Уткин уже красовался на эстраде. Контроль не пропускал нас, Маяковский двинул плечом вперед, сказал: «Маяковский», прошел, провел нас.
Мы шли по залу гуськом, мы впереди, он за нами, и весь зал шикал нам, «нечего опаздывать» и демонстративно хлопал Уткину, который как раз окончил какой-то стих. Маяковский сел, мы по обе стороны. Он долго слушал, все поворачивал голову с одного плеча на другое. Потом вдруг громко, на весь зал, сказал «пошляк!» и поднялся, и мы снова прошли через весь зал к выходу, гуськом, и зал отчаянно шикал.
В домашней обстановке он был необыкновенно добр, нежен, мягок, похож на большого неприкаянного медведя.
Болея, он каждое утро посылал Полонской записочки со стихами – но требовал, чтобы она непременно рвала их.
Я помню одну:
После ночи насморка и чиха
Шлю вам привет, прелестная врачиха.
Очень тяжкое впечатление незадолго до смерти произвел на него провал «Бани» – провал среди друзей. Он страшно был увлечен этой вещью, верил в нее, всё ходил читать куски Мейерхольду, и Мейерхольд был в восторге. Маяковский считал, что это – начало нового театра, новой революционной драматургии и прочее. Мы с Норкой были на домашнем чтении «Бани», скромно сидели на тахте в уголку и молчали, а Асеев и другие высказывались. Маяковский прочел с запалом, шикарно. Нам очень не понравилось, но мы, конечно, не показывали – а господа друзья критиковали по всем правилам, серьезно и как-то вяло. Видно было, что Маяковский ожидал восторга и был озадачен. В последующие дни он говорил: «завидуют, сволочи». И был страшно огорчен.
С нами он вообще был очень откровенен, потому что мы были только провинциальные дурочки, а не литераторы. Ему было у нас хорошо, весело и просто.
Л. Ю., прилетев на самолете после самоубий-
(Продолжение записи на корешке следующей тетради):
6 октября 41. ства, всячески терроризовала Нору. Она пришла к ней в день похорон и сказала, что Полонской не следует идти на похороны, т. к. это будет тяжело для Володиной матери. Она настояла на том, чтобы Нора отказалась от своей части наследства – тоже, якобы, для матери.
* * *
10/I 43. …в нищете горе переносить гораздо легче, чем среди комфорта. Никакой труд, самый вдохновенный, не в силах так занять голову, как нищий быт.
Может быть, потому в Ташкенте мне много легче – душевно – чем было в Ленинграде.
19/V. Читала Шолохова (в «Правде»)[13]13
М. А. Шолохов. Правда. 1943, 5–8 мая. Опубликованы главы из романа «Они сражались за Родину».
[Закрыть]. Нет. Описание людей, описание природы, описание разговоров… Хорошее описание – это только первая стадия художества. Высшая: не описать предмет, а чтобы он сам присутствовал на странице.
И точность в выполнении заданий! Нет, нет.
20/V 43. Утром в ЦД, у Н. Я.[14]14
…в ЦД, у Н. Я., т. е. в ЦДХВД (Центральный дом художественного воспитания детей). Надежда Яковлевна Мандельштам и Л. К. вели там кружки.
[Закрыть] за рукописями. Теперь она уже всегда раздражает меня. Она (как и, напр., С. А. Толстая – на которую она нисколько не похожа) есть нечто паразитическое, и этого я не могу вынести. И та и другая жили только чужой душой. С. А. была великой труженицей – но душевный паразитизм привел ее к истерии, насильничеству, гнусности; Н. Я. – умна, тонка, все понимает – и не способна трудиться ни на волос, ничего не умеет, ничего не хочет уметь, чувствует себя ровней А. А. и О. Э.[15]15
А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам.
[Закрыть] – и отсюда смешные претензии при совершенном ничтожестве.
У Лиды[16]16
Лидия Львовна Жукова (1907–1985), ташкентская знакомая Л. К., ее соавтор по книге «Слово предоставляется детям», автор «Эпилога». О ней см. также: Записки. Т. 1, с. 546–547 (примеч. к дате 4/XII 42). Здесь и далее используется сокращение Записки для издания: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М.: Время, 2007.
[Закрыть]. Какую беспомощность я всегда чувствую, какую преграду между людьми. Тата [дочка Лиды] погибает от tbc. Лида в этом виновата – кругом. Но научить ее тому, что я знаю так хорошо, невозможно: пробовала еще во время Татиного тифа – не доходит. А теперь молчу, потому что ей и без того тяжко.
С очерком о Фархаде Лида подводит меня, как всегда в работе. Работать с ней нельзя, она не знает, что такое ответственность.
Как быть, когда виноват перед людьми? Покаяться. Но как быть, когда прав: Это гораздо сложнее. Простить? Легко.
24/V. Утро началось с электрических пыток. Когда это было налажено, и мы позавтракали – пришел Валя Берестов[17]17
Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998), поэт. Подростком он был эвакуирован в Ташкент, где познакомился с К. И. Чуковским и с Л. К., у которой занимался в ЦДХВД. Об этом времени Берестов написал в своих воспоминаниях «Светлые силы» // В. Берестов. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых; Вагриус, 1998, с. 170–258.
[Закрыть]. Я очень торопилась в госпиталь, но все же выслушала его новые стихи и поговорила с ним о книгах. Стихи про возвращение хорошие. «Освобожденные огни»… В сущности, я люблю только таких мальчиков: одержимых интеллигентностью.
Простившись с Валей, я рванулась, было, в госпиталь, но выяснилось, что туфель у меня такой драный, что идти нельзя. Пошла зашивать на последние 10 р.
26/V. С наслаждением читаю Стендаля. Вот бы написать книгу под видом Дневника. Но для этого мне нужны мои подлинные дневники.
* * *
Итак, сегодняшний день погиб – весь ушел на магазин, обед, и пр. Мыла Люше голову. Завтра наверно погибнет тоже, потому что мне нужно добыть справку из Домоуправления о количестве иждивенцев (без нее не дадут сладкого) и какую-то справку в Союзе для милиции: идет новая перерегистрация.
Бюрократы опутали население целой сетью дел, и население не работает, а только бегает за справками и стоит в очередях.
28/V 43. Пальто не продается, платье неприлично разлезается при всех, денег нет. Долги мучат, давят. Поворачиваю шеей, будто у меня на шее петля.
А я эти дни все думаю – как-то смутно, но постоянно о новелле «Нихонно моно» (Лидочка, не будь нихонно моно, – говорил Митя), и о портретах военных людей, и о романе в форме Дневника, и об «Исповеди» – сборнике стихов… И еще – тоже смутно – мне кажется, что скоро я уловлю формулу жизни (!); что-то воскреснет во мне из юношеских разговоров наших с Тамарой (Бассейная; Знаменская; без конца у ее ворот) о поэтическом решении жизни, а не только искусства. (Мы так не говорили, но мы говорили об этом – споря о любви, о чистоте мыслей, о многом другом.) Туся близко подводила ко мне эту мысль – например, в разговоре об экономической структуре каждой страны после грядущей революции. (Это – накануне войны.) Очень это понимал Герцен, когда в противовес николаевщине хотел найти другое решение русской государственности. Он был не прав, как и славянофилы, как и Достоевский, но они верно угадывали, что поэтическое решение – оно сложно и индивидуально, а прочие – просты, прямы, но зато реакционны.
Мне кажется, я вот-вот набреду, пойму. Мне бы Тусю на один день. Очень ясно видно, что заставить мальчишек нашего двора не ломать деревьев, можно не запрещением, а только положительным средством: обогатив их. (Сейчас на крыльце стоит управдомша и отчитывает их… А им бы – работа, книги, театр, игра.)
Победительность поэзии в том, что она всегда идет вот этим непростым, кружным, трудным путем обогащения, приобретения, а не отсечения, запрещения.
Жизнь решает вещи поэтически, (сложно, богато, неожиданно), а мы часто пытаемся решить их бюрократически. Очевидно, этика должна быть тоже наподобие стихов, а не наподобие устава. (Недаром Библия такова.)
29/V. Сегодняшний мой день интересен лишь гигантским количеством чуши, опутавшей меня. Я на ногах с 7 часов – сейчас 8. Итого 12. И ни одной минуты на работу.
Утро: каша, вода, ведра, уборка. Должна была Лида принести очерк, но конечно не пришла. (Со сборником из-за нее не миновать скандала. Я виновата сама: как могла я ей поверить после стольких обманов и подвохов – с книгой, сценарием). Я – в ЦДХВД. Получила там 40 р., 3 листа бумаги, хлебные карточки. Оттуда в библиотеку САГУ:[18]18
САГУ – Среднеазиатский государственный университет (название Ташкентского университета).
[Закрыть] сдала книги. Оттуда домой – Лиды нет. Оттуда к Фриде Абрамовне[19]19
Т. е. к Ф. А. Вигдоровой (1915–1965), которая тоже была в эвакуации в Ташкенте.
[Закрыть], которая просила меня зайти. Милая, милая, еще верящая и уже неверящая. Она рассказала мне, как развиваются события в тех Детдомах, о которых я писала в ЦК Юсупову[20]20
Юсупов Усман Юсупович (1900–1966), советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана (1937–1950).
[Закрыть] месяц назад: в № 10 – завхоз и директор изнасиловали 4-х девочек; в № 18 – умерла еще одна девочка от истощения и мать, приехавшая с фронта добилась тюрьмы для того самого Измаилова, о котором я писала; в № 18 Ташкентском, у Степановой, 10 % смертности и пр. Наркомпрос торопливо передвигает людей, прячет хвост. Я просила Фриду собирать документы – и пошлю всё в Москву, хотя не верю в успех. Даже если Москва и пожелает что-нибудь сделать – тут банда сплоченная[21]21
Л. К. входила в ташкентскую Комиссию помощи эвакодетям.
[Закрыть].
Я ушла от нее в отчаяньи.
Продолжение 30/V 43. Вернувшись, пошла в ЦДХВД. Удивительная смесь ханжества и снобизма в Над. Як. Впрочем, она умна и тонка. Мальчик Эдик Бабаев[22]22
Эдуард Григорьевич Бабаев (1927–1995), впоследствии литературовед, профессор МГУ.
[Закрыть] прочел стихи с хорошими строками, что-то о крике звезд и вое луны.
* * *
Мучительно, сквозь все, думаю о детях. Только не наивничать. Послать материал в Москву – об этих убийцах, растлителях? Не хочу наивничать. Союз убийц и растлителей всемогущ. (А Короленко? Вотяки?)[23]23
В 1892 г. в качестве корреспондента В. Г. Короленко принял участие в заседаниях суда по делу крестьян-удмуртов (вотяков) из села Старый Мултан, ложно обвиненных в ритуальном убийстве. Короленко выступил с защитительной речью, вызвавшей большой общественный резонанс. Всего об этом деле он написал десять статей. Подсудимые были оправданы.
[Закрыть]
Не с кем про это.
Читаю Стендаля. И впервые с полной отчетливостью поняла – еще ни один писатель не написал о любви так, как я ее чувствую – я, Шура, Зоя[24]24
Шура, Зоя – Александра Иосифовна Любарская (1908–2002) и Зоя Моисеевна Задунайская (1903–1983), сотрудницы маршаковской редакции ленинградского Детиздата.
[Закрыть] – интеллигентные женщины нашего поколения. Все, написанное до сих пор не о нашей любви, даже Чехов. Не говорю уже о Стендале. «Дамы берут себе любовников» «кавалеры серванты» – о чем это? о ком? про что?








