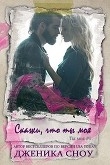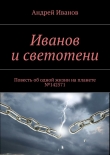Текст книги "Воспоминания. Книга об отце"
Автор книги: Лидия Иванова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Большое исследование Вячеслава о «Дионисе и прадионисийстве», написанное и опубликованное в Баку, было основано на богатом материале, собранном в течение многих лет до революции. Книга – разные ее проекты – была задумана давно. Но в Баку не было никакой возможности познакомиться с литературой, появляющейся на Западе после Первой мировой войны.
Вячеславу хотелось спешно узнать, что было найдено, что опубликовано западными учеными. Он возвращался к Четырем фонтанам с тетрадками, наполненными бесчисленными выписками на разных языках. Несколько лет позже этот материал был им переработан для немецкого перевода его бакинской книги – перевода, им задержанного для дальнейших пересмотров и до сих пор не изданного.
Параллельно с работой над Дионисом появлялись другие мысли и планы. Вячеслав пишет статью о «Ревизоре», которую обсуждает в Риме с Мейерхольдом [112]112
«”Ревизор“ Гоголя и комедия Аристофана». Статья датирована «Рим, сентябрь 1925 года», появилась в 1926 г. в вышедшем под редакцией A. A. Гвоздева, Мейерхольда и др. сборнике Театральный Октябрь, № 1 (Л. – М.), с. 89–99. Немецкий перевод, сильно переделанный автором, вышел в Corona, Heft 5, München‑Zürich, 1932–33 и в книге W. Iwanow, Das alte Wahre (Suhrkamp, Frankfurt, 1955); IV, 387–398 и 752–754.
[Закрыть] . Он задумывает статью об «Идиоте», о которой просит Горький [113]113
12 декабря 1924 г. Горький сообщил Иванову, что его «Римские сонеты» были отправлены в редакцию журн. «Беседа», и просил его прислать для последующих номеров журнала статьи об Идиоте и о Пушкине (текст письма напечатан в моей публ. «Из переписки В. Ф. Ходасевича» – «Минувшее», вып. 3, 1987, с. 267). 29 декабря 1924 г. Иванов писал В. Ф. Ходасевичу, соредактору «Беседы»: «Пишу для ”Беседы“ об ”Идиоте“. Не присоветуете ли чего‑нибудь относительно изданий? Привет!» («Новый Журнал», № 62, 1960, с. 286). Стихи не появились, потому что журнал внезапно прекратил существование в мае 1925 г. на № 6/7; статья не осуществилась по той же причине. Собранные материалы вошли в главу об Идиоте в немецкой книге Иванова о Достоевском
[Закрыть] . Ему смутно мерещится новая трагедия, «Антигона». Но он не уверен ни в сюжете, ни в возможности быть услышанным современниками.
О возможности «заинтересовать» и быть «услышанным» мы много с Вячеславом разговаривали. Дневник от 5–го декабря 1924 г.:
Пробуждаясь от послеобеденной сьесты, прислушиваюсь к музыкальному «бормотанью» Лидии и начинаю от души смеяться. Открываю к ней дверь, поздравляю с превосходной страницей музыкального юмора: она рада его сообщительности и тоже смеется. Когда я признался ей, что «брожу как вол, ужаленный змеей», влюбившись в нелюбимый замысел, не могущий никого захватить, и что благодаря смуте, внесенной в умы большевиками, никого и ничем вообще не могу заинтересовать, так как миросозерцание мое нынешнему в основе чуждо, – Лидия, по обыкновению драчливым тоном и вместе тоном непреложного оракула, изрекла: «Если сам заинтересуешься, то и другие заинтересуются, а если не заинтересуешься сам, не будет силы и других заинтересовать; миросозерцания же меняются каждые 10–12 лет и ровно ничего не значат; нужно, чтобы не миросозерцанием сильна была художественная вещь, а чистым золотом своего искусства, это золото в цене не падает». Таков приблизительный смысл; а слова ее разве передашь?
Одной из первых забот Вячеслава было продолжение моего музыкального образования.
– Вы едете в Рим? Там вы найдете Респиги, – говорил мне Александр Борисович Гольденвейзер, у которого я окончила курс московской консерватории по фортепьяно.
Респиги знали в России и сам он ее очень любил. Он ездил два раза в Петербург, учился у Римского – Корсакова и одновременно работал в императорском оперном театре, где получил по конкурсу место альта – солиста.
Мы приехали в Италию осенью 1924–го года, как раз к открытию курсов в римской консерватории «Санта Чечилия». В этом году Респиги был ее директором, а также профессором класса высшей композиции. Мы пошли к нему с Вячеславом, и я прихватила пачку своих работ, фортепьянных и вокальных. Он был чрезвычайно любезен, взял мои вещи с собой для более подробного ознакомления. При вторичной встрече он долго сидел с нами в своем классе, был очень внимателен, заставил меня играть ему мои композиции и особенно заинтересовался фортепьянной сонатой.
Ему было тогда 42 года – веселый, солнечный, черты лица похожи порой на льва, а порой на Бетховена.
– Ну, как он тебе понравился? – спросил меня Вячеслав.
– Не знаю, не легкомысленный ли?
– А мне он чрезвычайно понравился.
Я же была удивлена простотой, открытостью, полным отсутствием педантизма, которым нередко отличаются педагоги.
В Италии на факультете композиции учатся десять лет. В первые четыре года изучается гармония, в 5–6–ой и 7–ой год – контрапункт и фуга, и, наконец, на старших трех курсах – оркестровка и свободное сочинение.
Респиги записал меня на девятый, предпоследний год, засчитав все мои экзамены в России и, что самое главное, экзамен фуги, который я так мучительно сдавала два раза в Баку.
Через месяц начались занятия. Первый студент, которого я встретила в классе Респиги, был Фернандо Джермани, будущий знаменитый органист. Мы с ним всегда вместе возвращались из консерватории домой. Годом старше (уже на 10–ом курсе) был тогда Марио Росси, будущий известный дирижер. Всего нас было в мое время человек девять. Все сделали карьеру.
На первом уроке Респиги велел мне начать писать струнный квартет. Я уже написала в Баку две – три странички, но вещь остановилась и дальше не шла. Чтобы принести в класс что‑нибудь, я выучила несколько тактов и сыграла Респиги. Он выслушал, потом встал, подошел к окну и, отодвинув большую белую штору, так, что класс залился ослепительным римским солнцем, сказал мне улыбаясь:
– Почему Вы так озлоблены? Взгляните, какое чудное солнце!
Действительно, я приехала из России, хотя внешне радостная и молодая, но в глубине как бы с немного помятой, испуганной душой. И это темное, надломленное прорывалось в моих первых творческих опытах. Слова учителя о солнце руководили всей моей дальнейшей работой в Риме.
Старый квартет был брошен в ящик, и Респиги дал мне полную свободу писать то, что мне хотелось.
У него был редкий дар вслушиваться в сокровенный художественный замысел ученика. Он к нему относился с необычайной осторожностью, абсолютно замыкая в себе всякую попытку повлиять, даже просто подсказать какой‑нибудь прием, достигнутый им при его колоссальном опыте.
Много лет спустя, уже после моего учения в консерватории, я приносила ему свои сочинения. И несмотря на это, к моему огорчению, ни на одной из рукописей нет хотя бы самой легкой отметки его карандаша. (Единственная памятка – короткий список тесситур медных инструментов.)
Мы сразу занялись постепенным изучением инструментовки.
– Напишите что‑нибудь для струнного ансамбля. – Или в другой раз: – Для ансамбля деревянных инструментов.
– А какие руководства существуют для этого? Откуда мне узнать приемы и возможности таких ансамблей? Не самой же мне их выдумывать!
– Да, именно самой.
А то, как‑то позже, прихожу к нему:
– Маэстро, как мне сделать, чтобы получилось море?
А он в ответ только смеется. Подразумевается: «Ищи сама». Он просматривал, что ему приносили, и делал очень короткие технические замечания:
– Это неисполнимо на данном инструменте, это вне его диапазона.
Или:
– Этот пассаж слишком труден по такой‑то причине.
Такой метод требовал от нас большого творческогонапряжения. Мы посещали репетиции симфонических концертов, библиотеку, добывали себе партитуры. У меня было впечатление, что никто мною не руководит. К тому же, за два года моего учения в консерватории Респиги сделал две длинных гастроли по Америке, предоставив нас на время своего отсутствия совершенно ничего не умеющим дать своим заместителям. Когда я была на девятом курсе, он занимался с нами около 5 месяцев, а за время десятого – всего полтора месяца в начале учебного года, и полтора в конце. Я помню, как на уроках чтения партитур один профессор, завистник Респиги, старался убедить меня переменить педагога.
– Вы теряете драгоценное время. Он ничего вам не дает, да и вообще все время пребывает в Америке.
Меня сильно волновала мысль о предстоящих экзаменах. На девятом курсе требовалось написать на заданную тему первую часть струнного квартета. А на десятом, выпускном экзамене нужно было представить оперную сцену, по заданному либретто.
Я ни одного струнного квартета и ни одной оперной сцены до экзаменов не написала. Но вышло, что метод свободной и упорной работы привел к тому, что технически я оказалась подготовлена. Большой неожиданностью для меня оказалось первое публичное исполнение наших сочинений в конце года. Мы все писали каждый свое, все были очень разные. А во время концерта явно выступило, что все ученики Респиги носили на себе яркий отпечаток его школы, а ученики других классов отличались схоластичностью и отсутствием индивидуальности. Как приобретался этот отпечаток, для меня тайна. Он конечно относился главным образом к технике оркестровки.
* * *
То, что Респиги нам давал полную инициативу в работе и ограничивался лишь старанием угадать, почувствовать наши искания, развивало в нас, с одной стороны, силу творческого устремления, а с другой – полное чувство свободы в сочинении. В Риме я впервые почувствовала себя в музыке как бы свободной гражданкой. До этого я ощущала себя в рабстве: какие‑то правила, законы, синий карандаш преподавателя; к этому еще присоединялось специальное старание русских педагогов развивать в ученике смирение, сомнения, недоверие к себе. Трудно определить это ощущение, но теперь, хотя я и понимаю свой скромный масштаб в поле искусства, но гуляю по этому полю как свободный его член, – не как раб.
К концу моего первого учебного года (девятого курса) у меня было сильное драматическое переживание: я представила на ученический концерт маленькую поэму для камерного ансамбля, вдохновленную гетевским «Рыбаком» («Der Fischer»). Ансамбль (около шестнадцати инструментов) состоял из учеников консерватории, которые на первой репетиции играли с листа и врали, кто во что горазд, причем я сама, дрожа от испуга, ими дирижировала (что у меня не выходило): после репетиции я не знала, куда мне спрятаться.
– Боже мой! И эту позорную какофонию написала я? Стало быть, нужно сразу бросить занятия композицией. Все было иллюзией! Провал! И какую же неприятность я причинила Респиги!
Вечером мы пошли с Вячеславом и Димой на площадь Сан Пьетро. Был огромный праздник и купол собора был освещен живыми огнями факелов (это делалось раз в 25 лет). Мы стояли перед грандиозным разливом не то звезд, не то ручьев драгоценных камней, пронзающих взор лучистыми стрелами. От красоты захватывало дыхание – а внутри, в душе у меня ад.
На следующее утро иду, пристыженная, к Респиги, чтобы извиниться за свою позорную композицию и заявить, что бросаю консерваторию. С первых же моих слов Респиги начинает смеяться и говорит:
– Авторам никогда не следует ходить на первую репетицию, хотя обыкновенно они не выдерживают и идут. Не бойтесь, ученики разучат свои партии и все наладится.
И в душе сразу ожила надежда. Концерт сошел прекрасно.
Респиги любили не только его собственные ученики, но и вся молодежь консерватории. Помню бесконечную репетицию заключительного концерта 1926–го года, на котором исполнялась и моя поэма для большого оркестра «La Nuvola» (Облако) на поэму Шелли «The Cloud». Как всегда, почти весь оркестр состоял из учеников консерватории, неумелых, неопытных, и только перед самым концертом приглашались профессиональные музыканты, чтобы пополнить недостающие инструменты.
Июнь месяц, жара удручающая, руки не поднимаются от усталости, часы проходят за часами, конца – края не видно. Ученики пытаются дезертировать, но инспектор закрыл выходные двери на ключ. Вдруг кто‑то провозглашает:
– Идет маэстро Респиги!
Волна радости, спины выпрямляются, усталость исчезла, пассажи вдруг выходят.
В мое время (теперь это упразднили) старшие курсы композиции заканчивались «клаузурными» экзаменами (от итальянского
«clausura» – «уединение», «монастырское уединение»). Кандидата запирали на ключ в пустом классе с роялем. Если нужно было выйти, звонили, являлся сторож, провожал вас до двери уборной, а потом возвращался с вами обратно и запирал на ключ. Обед приготовлял швейцар и присылал его к нам на четвертый этаж. Только во время обеда кандидаты могли встречаться. Выпускной экзамен был самый длинный – нас заперли на трое суток. В классе была поставлена постель. Тюфяк и белье кандидаты доставляли сами; за перевозку платила консерватория. Мы должны были написать оперную сцену – арию со вступлением на данный нам отрывок либретто. Помню, что дело шло о какой‑то Марии, которая Бог весть почему очутилась посреди ночи одна в базилике Сан Марко в Венеции, да еще с бурными переживаниями: ее возлюбленный только что убил ее брата, – страсть, месть, упреки совести…
Для усиления впечатления я вставила в конце хор мертвецов под звуки ксилофона. Требовалось сочинить музыку и оркестровать ее. Говорили, что новый директор консерватории не зачтет экзамена, если партитура будет не закончена. В первую ночь я спала два или три часа, а во вторую и глаз не сомкнула. Помню, что написала двадцать семь страниц насыщенной оркестровки. Я была изнурена и сознавала, что, если экзамен не окажется действителен, второй раз в жизни у меня не будет сил его повторить.
За это время Респиги зашел к каждому из нас только на две или три минуты. И я еще раз испытала, какую силу он может излучать одним фактом своего короткого появления.
За эти три дня – маленький инцидент. Ко мне вдруг постучались и вошла комиссия профессоров. Меня начали допрашивать: подходила ли я к окну.
– Да, я выкурила папиросу у подоконника.
– И Вы ничего не видали?
Оказалось, что в соседнем классе один кандидат держал экзамен фуги, спустил с четвертого этажа в переулок на веревке корзиночку и потом ее вновь поднял. В корзиночке была кем‑то написанная для него фуга. Кто это сделал? Откуда узнали тему?
* * *
Ясно вспоминаю, в первый год моей римской жизни исполнение респигиевской симфонической поэмы «Пинии Рима» («I pini di Roma»). Она была освистана. Свистели в первой части, где игры детей прекращаются нарочито дисгармонирующими звуками трубы: это сторож, возвещающий закрытие парка. В другие разы свистели также в лирической части, где на холме Джаниколо поет соловей. Респиги вставил в свою партитуру пластинку с записью пения настоящего соловья (еще неслыханная новинка!). Респиги воспринял эти свистки весело. Чувствовалось, однако, что у него были враги в публике.
Среди музыкантов были две партии: одни стояли за Респиги, другие за Казелла. Последний несколько левее по направлению. Будучи ученицей Респиги, я не позволяла себе сближения с Казелла до последних лет его жизни. Это, конечно, было совсем неразумно, т. к. он был большой мастер, очень общительный, так что вокруг него была интенсивная жизнь.
Респиги был веселый, с большим чувством юмора, хотя думаю, что у него была сильно повышенная нервная чувствительность, которую он обуздывал гармонической, средиземноморской уравновешенностью. Его стиль, его вкусы были классические. С нами он обращался как старший товарищ и рассказывал нам все, что его позабавило или взволновало. Помню, как он дивился на первые успехи радио, как он восхищался фильмом Фрица Ланга «Кольцо Нибелунгов», как описывал бразильских змей, как потешался смешным зверьком «ленивцем». Раз он мне советовал пойти на биржу – он только что сам там был:
– Послушайте, какой там рой: завывания, крики, целые аккорды.
Он любил рассказывать смешные эпизоды. Как, например, при его возвращении из Америки на трансатлантике один итальянец тяжко заболел тифом и все плакал: «Вот я умру, меня бросят в море и не увижу я более ”мою Италию“». – «Ах, не беспокойтесь, – утешала его фельдшерица, – теперь это все усовершенствовано. В море не бросают. Вас великолепно заморозят, если нужно забальзамируют, и ваш труп будет выдан семье в прекрасном виде».
Респиги делился с нами своими радостями. Американские гастроли принесли ему немного денег, и он в 1928 купил старый дом на виа Камиллучиа (via Camilluccia) с чудным частным парком, полным роз и певчих птиц. Дом понемногу перестраивался и превратился в очаровательную виллу; был приобретен и автомобиль. Респиги мог спокойно работать в своем маленьком раю вдалеке от города – его шума, его людей. (К сожалению, радость Респиги не долго длилась: он умер в 1936–ом году в полном расцвете творческих сил.)
Помню в углу его богатой и очень разнообразной библиотеки целую полку, занятую романами Амфитеатрова.
– И вы их читаете в подлиннике? – спрашиваю.
Я сомневаюсь, чтобы он мог осилить огромные (хотя и превосходные) романы Амфитеатрова. Кстати, я считаю, что этим автором напрасно пренебрегают. Такие невероятно широкие фрески дореволюционной России могли быть созданы только действительно большим талантом.
Респиги дружил с Амфитеатровым, сын которого, Даниил, учился у него, закончил с блеском курс композиции за год до моего приезда в Рим и уехал в Америку.
* * *
Вячеслав стал совещаться со мной по вопросу о Димином образовании. В какую школу его отдать? В итальянскую, решил он, не стоит: живя в Италии, Дима усвоит язык и дух страны без всякого усилия. Школа же должна будет направить его на все его будущее, определить культуру, которой он будет принадлежать. И тут мы единогласно решили – конечно, французская. К тому же он во Франции родился.
Обстоятельства сложились очень счастливо. По инициативе французского священника, жившего в Риме, – монсиньора Шарля Дюма (Mgr. Charles Duma) – была открыта французская гимназия, состоявшая под ведомством университета Гренобля; учась в Риме, школьники получали одинаковые права с теми, кто учился во Франции. «Лицей Шатобриан» был только что основан, учеников в первые годы было очень мало; подчас в том же помещении профессор одновременно руководил двумя классами из двух – трех учеников. Поэтому уроки получались как бы частные, индивидуальные и живые. Ученики, почти все дети дипломатов, принадлежали к всевозможным нациям.
Пока мы жили у синьоры Плачиди, Дима утром шел в школу пешком и, увы, всегда опаздывал. Путь лежал мимо фонтана «Аква Феличе», где находится огромная и неудавшаяся статуя Моисея. По странному совпадению, этот Моисей казался вылитым портретом Monsieur Bellaco, инспектора лицея. Дима съеживался и старался незаметно проскользнуть мимо огромного обличительного пальца Моисея – Bellaco. В ушах у него звенело часто им слышанное: «Vous êtes encore en retard!» (Вы опять опоздали).
По решению Вячеслава, Дима был полупансионером: из школы он шел с группой мальчиков в красивую, покрытую розами виллу маленького общежития католических монахов. Там мальчики обедали, шли гулять в соседний парк, принадлежащий вилле Боргезе, возвращались в общежитие и садились приготовлять уроки. Появлялся дома Дима лишь к вечеру. Исключением были воскресенье и четверг (четверг считался полупраздником).
В Риме с Димой произошла полная метаморфоза: он учился с увлечением и блестяще. Вспоминается торжественный акт в конце учебного года, 1925. Как всегда, ученики лицея и их родители собрались в большом зале французского посольства, в Палаццо Фарнезе. За председательским столом находились посол, один из французских кардиналов в Риме, директор лицея, профессора, представитель министерства просвещения, приехавший специально для этого из Франции. Посол произнес длинную и очень цветистую речь, которую заключил следующими советами, обращенными к ученикам, и сильно, признаюсь, позабавившими всю нашу семью: «Mes jeunes amis, ayez un idéal… n’importe lequel; mais ayez un idéal» («Мои молодые друзья, имейте идеал… все равно, какой; но имейте идеал»). После официальных речей была раздача премий лучшим ученикам. Премии выдавались отдельно по каждому предмету. Дима должен был много раз проходить под аплодисменты товарищей через весь зал, подходить к председателю, чтобы получить в дар нарядную толстую книгу с золотым обрезом. Он был особенно счастлив большим иллюстрированным томом: «Биография Наполеона». За некоторые предметы награда заключалась в картонных позолоченных лавровых венках.
По поводу занятий Димы в первые наши римские годы прилагаю отрывок письма от 16 июля 1926 г., посланного в Тифлис Жене – вдове Владимира Эрна.
… Живем мы, слава Богу, тихо и поучительно. Дима занимался прыганьем через классы своей французской гимназии, где он учится, и сейчас допрыгался до третьего класса (считай наизнанку), остается теперь ему второй, первый и «Философия». Он очень вырос, завтра будет ему 14 лет, имеет определенную любовь и способности к языкам, преуспевает во французском и итальянском, а главное в латыни. Способности, к сожалению, не практические. Математики не любит, стихов не пишет, имеет попеременные мании, очень страстные и преходящие. Начиная с выезда нашего были: пионерство, коллекции великих людей, коллекции марок, католичество (еще не погасшее), обложки библиотеки и книжная торговля в лавке одного приятеля немца, изучение Рима самостоятельное, разыскивание старых изданий классиков по букинистам, увлечение автомобилями, монетами, вопросами о женской притесненности в Италии, о борьбе Папы с королем и ярая защита первого, и т. д. и т. д. Все вскипает, бурлит и проходит. А сам он очень хороший.
Из дневника Вячеслава видно, как, несмотря на счастье, которое он испытывал от сознания, что живет в Риме, он был угнетен заботой о нашем будущем [114]114
Ср. письмо Гершензона Шестову от 9 января 1925 г.: «Получил я на днях письмо от Вяч. Ив[анова], пространное и содержательное. Живут они очень приятно, он опять, после стольких лет, начал писать, дети хорошо устроены; одно горе: деньги тают, а заработка никакого; эта забота очевидно отравляет его существование. Он хотел бы отсюда иметь работу, но это конечно пустая мечта» («Минувшее», вып. 6, 1988, с. 309).
[Закрыть] . Вот отрывки из его дневника 1924 года, от 1 декабря.
Итак, мы в Риме. Мы на острове. Друзья в России – rari nantes in gurgite vasto [115]115
«Немногие пловцы в безмерной стремнине» (лат.). Цитата из Энеиды Вергилия, I, 118 (в переводе С. Ошерова [1971], ст. 118 читается: «Изредка видны пловцы средь широкой пучины ревущей»).
[Закрыть] . Чувство спасения, радость свободы не утрачивают своей свежести по сей день. Быть в Риме – это казалось неосуществимым сном еще так недавно! Но как здесь остаться, на что жить? Чудо, ожидавшее меня заграницей, чудо, воистину нечаянное, сказочно – нечаянное – еще не обеспечивает нашего будущего. Во всяком случае возвратить в советскую школу моего ненаглядного Диму было бы прямым преступлением. Итак, одному опять нырнуть in gurgite? He значит ли это испытывать судьбу? Нырнул сызнова в пучину спасенный – der Taucher [116]116
Баллада Шиллера
[Закрыть] и уже не вернулсяIII, 850–851 [117]117
III, 850–851
[Закрыть].
От 3 декабря:
Как бы наладить заработок? [118]118
III, 852
[Закрыть]
Перейти на положение эмигранта Вячеслав не хочет. В продолжение многих лет он отказывается печататься в зарубежных русских журналах. Он обещал Луначарскому, при получении визы, что не будет – по крайней мере в начале своей жизни за границей – neчататься в антикоммунистических органах.
Из России приходят предложения вернуться. В письме от 24 августа 1925 г., в котором он рассказывает нам (мы с Димой жили на море близ Рима) про свое посещение с Мейерхольдом советского посольства, он пишет:
Обо мне бесчисленные расспросы и также уговоры возвращаться. Профессор Дживелегов спрашивал, не желаю ли я кафедры в Московском] университете. /…/ играли Протопопов, ученик Яворского, и сам Яворский, о тебе расспрашивавший (он уже знал о твоем концерте, Респиги хвалил, а на мое замечание, что он хороший учитель, но часто отсутствует, возразил, что это и хорошо, – если отсутствует, значит – хороший музыкант!). Я прочитал переводы сонета о «Простуженном коте» и надписи к «Ночи» в честь экскурсантов, вчера видевших Сикстинскую капеллу, а завтра имеющих увидеть «Ночь»: это чтение имело огромный успех, пришлось кстати, и меценатствующие наши Бубусы [Мейерхольды. – Ред.] были мною довольны [119]119
О переводах В. Ивановым «всех поэтических произведений Микель – Анджело Буонароти в количестве 3000 (трех тысяч) строк» говорится в проекте договора между Ивановым и «Издательством при Театре имени Всеволода Мейерхольда». Проект этот был передан Иванову председателем издательства, Зинаидой Николаевной Мейерхольд – Райх 3 августа 1925 г. в Риме (римский архив В. Иванова). О переводах, при их тогдашней встрече, В. И., З. Райх и Мейерхольд много говорили. Но издание не осуществилось. Иванов в августе 1925 г. перевел цитируемые им сонеты «О простуженном Коте», «К Ночи», «Нет замысла, какого б не вместила», «Не смертный образ очи мне пленил». Два последних сонета опубликованы в кн.: В. Иванов. Стихотворения и поэмы (Библ. поэта, малая серия, Л., 1976), с. 389–390.
[Закрыть] . Потом сам Бубус (сверхрежиссер), отказавшись прочесть что‑нибудь из своих старых ролей, произнес длинную речь о предстоящих постановках «Кармен», «Ревизора», «Гамлета», «Цыган», рассказывая подробно свои замыслы [120]120
Из упомянутых замыслов Мейерхольд реализовал только свою знаменитую постановку «Ревизора» (премьера прошла 9 декабря 1926 г.) в ТИМе. Начиная с организации Театра РСФСР Первого и в течение всего существования в Москве театра, руководимого Вс. Мейерхольдом (1920–1938), постановка «Гамлета» значилась в его планах. Существует и план постановки «Кармен» Ж. Бизе (1925; план предусматривал переложение партитуры оперы для трио гармонистов). Пушкинские «Цыгане» не были доведены им до конкретного плана.
[Закрыть] . Я должен был служить переводчиком на итальянский язык, и мне пришлось изложить по – итальянски целую лекцию. /…/А скептический консул [имя неразб. – Ред.], оказавшийся экспромтистом, встал и продекламировал:
Прияла много перемен
В стране Советской сцена,
И Мейерхольд возвел Кармен
На пост Наркомвоена.
О политике за весь вечер ни слова. Разве только один итальянец, депутат и коммунист, сказал, в пустой речи, что «мы» любим реалистическое искусство как в театре, так и в политике. Интернационала не было.
В Москве Петр Семенович Коган надеется, что Вячеслав захочет стать членом Академии Художественных Наук. Вячеслав подумывает даже, не должен ли он один вернуться в Баку. Но позже, в начале 1927 г., весть от университетского друга вдруг снимает все сомнения, и самым неожиданным образом:
Сегодня из полученного от Зуммера письма я узнал, что связь моя с Бак[инским] Университетом], – связь «потенциальная», правда – окончательно разорвана, ибо, по предложению студенческих (!) коммунистических организаций, словесное отделение упразднено,о чем и объявление вывешено. У меня от сердца отлегло сомнение: чего‑де ты в Баку не едешь, для семьи «честным» (?) трудом не зарабатываешь? Nun bin ich vogelfrei, т. е. «волен как птица», как говорилось у немцев об опальных и изгнанниках.
(Письмо Вячеслава к нам из Павии от 7 января 1927 г.)
* * *
Чуть ли не самый первый человек, которого мы встретили в Риме, был наш милый, верный друг и талантливый писатель Павел Муратов. Он был маленького роста, но смелый, средневеково – рыцарский романтик. Друзья звали его Патя. Он жил около пьяцца дель Пополо с сыном и женой. Но это уже была не босоножка Евгения Владимировна с пятилетним мальчиком Никитой, с которым мы дружили в 14–м году в Петровском. Теперь это была другая жена, видная и веселая брюнетка Екатерина Сергеевна с девятилетним сыном Гавриком. Это был живчик, изрядно избалованный, с большими математическими способностями. Гаврик тоже был учеником французского лицея Шатобриан. (Потом он сделался инженером, занимал какое‑то очень ответственное место во Франции.) Семью дополнял всегда возбужденный пес Муцио.
К Муратовым каждую неделю заходили русские друзья, жившие тогда в Риме. Из них помню прежде всего художника Григория Шилтьяна с красавицей женой Лилей. Я любовалась Лилей и красивым цветом ее кожи. С ними у нас дружба продолжалась всю жизнь, даже и сегодня, 12 мая 1983 года, когда я пишу эти страницы, я думаю: какое платье мне надеть послезавтра на званый вечер у Шилтьянов? Они его дают накануне своего путешествия в Москву, где Пушкинский музей устраивает большую выставку Гришиных произведений. Тогда он был совсем молодой, безденежный и голодный, и поверхности его талантливых картин казались вылитыми из металла.
С тех пор его имя, в Италии и вне ее границ, стало все более и более греметь. Его картины – большие композиции, поразительные по технике и внутренней поэзии натюрморты и портреты – висят во многих музеях и в бесчисленных частных собраниях. В театре Ла Скала и в нью – йоркском Метрополитене хранятся его декорации. А на озере Гарда, где он долго жил, открывается музей, всецело посвященный его произведениям.
В первые годы нашего знакомства мы постоянно встречали Лилю и Гришу в римской молодой и веселой богеме. Бывали там и Джорджо де Кирико с Раисой и его брат Савинио, приезжавший из Парижа, и венецианец Де Пизис. Одним из главных центров художественного авангарда были знаменитые Театр – Кабарэ и Галерея, созданные братьями Антон Джулио и Карло Брагалья.
Ходил к Муратову и художник Бренсон, латыш. Он выгравировал портрет Вячеслава, сидящего почему‑то посреди площади дель Пополо, закутанного в большой черный плащ, а в небе – другой сюрприз – летит дирижабль. Бывал ли у Муратова художник и архитектор Андрей Белобородов, не помню. Мне кажется, что наша дружба началась позже.
Ходила к Муратовым Косовская с двумя молоденькими дочерьми Верой и Наташей. Вера, брюнетка с монашескими строгими чертами красивого лица, была ярой православной, читала Хомякова и пылко нападала на католиков. Впоследствии она работала в Париже в Лувре как историк искусства. Наташа была грациозная кошечка, очень кокетливая и неожиданная, с выразительными серыми глазами. Она оказалась позже предметом безнадежной, роковой и рыцарской страсти Павла Муратова.
Заходил к Муратовым и итальянский писатель Альберто Спаини. Он был журналистом «третьей» страницы, где в итальянских газетах печатались литературные фельетоны, беллетристические рассказы хороших авторов. Спаини с определенного дня стал писать рассказы исключительно про кошек, собак и других зверей. «Почему?» – спросили его. – «Единственно это охотно пропускает фашистская цензура».
В первые месяцы нашей римской жизни у меня произошла неожиданная встреча с моей подругой детства Таней Аничковой. Она только что приехала из Америки, вся всклокоченная, с драгоценной породистой черной кошкой в качестве багажа. В Америке сначала она перебивалась работой по исследованию крови в какой‑то лаборатории, затем организовала выставку своих высокоталантливых скульптур, имела большой успех, соскучилась и, бросив все, приехала в Рим, а через некоторое время отбыла в Югославию к отцу. Отец ее, Евгений Васильевич Аничков, был тогда профессором в университете в Скопье. Через много лет Таня появилась опять в Риме, и мы с ней тогда снова сблизились. Она оставила скульптуру, занималась живописью крайне авангардного направления. Ее высоко ценил Лионелло Вентури, знаменитый историк современного искусства, и помог ей сделать выставку. После этого Таня вдруг исчезла, а через много времени оказалось, что она живет в Поццуоли, в семье каких‑то примитивных неаполитанских рабочих и воспитывает их детей. Из Поццуоли она переселилась с этой семьей в Ачилия, под Римом, поселок итальянских беженцев из потерянных Италией после войны территорий на Адриатике. Она приехала к нам оттуда один раз. Ольга Александровна Шор тоже к ней ездила по литературным делам, связанным с ее отцом. Но она всех отстраняла и умерла одна, в одиночестве и нищете.
* * *
В августе 1925 г., совершенно неожиданно, Мейерхольд со своей молодой женой Зинаидой Райх, актрисой его театра, приехал в Рим, получив командировку в Европу [121]121
Мейерхольд выехал за границу (Германия, Италия, Австрия) 2 июля 1925 г. и возвратился в Россию 3 сентября. Целью поездки было знакомство с театрами за рубежом и свидания с рядом театральных деятелей.
[Закрыть] . Они были страшно влюблены друг в друга. Для нее он был муж, мэтр, учитель, создающий ее как актрису; для него она была его последняя радость, солнце его заката, еще яркого, еще сияющего во славе, но все же тускнеющего. Их влюбленность создавала много смешных анекдотов. Например, к нам явилась раз консьержка с протестом:
– Кто эти двое, которые к Вам приходят? У нас дом приличный, мы не можем позволить, чтобы у нас целовались на лестнице!
– Но это муж и жена.
– Нет, этого не может быть. Они слишком влюблены друг в друга.
Мейерхольд ревновал свою Зинаиду, как Отелло. Как‑то раз вечером мы пошли целой компанией друзей есть мороженое в парк виллы Боргезе. Все были веселы, и Зинаида, накинув на плечи новый, только что подаренный ей мужем венецианский платок, шла по тротуару, мурлыкая песенку и подплясывая. Ясно, что группа встречных итальянских матросов, увидев эту легкомысленную красотку, пустилась делать ей комплименты. Никто не обратил на это особенного внимания, но Мейерхольд замолк, лицо у него сделалось мертвым и серым.
– Что с ним?
– Ничего. Это Всеволод «зарезался», – отвечает Зинаида.
Но главное осложнение ожидало нас впереди. По приглашению Мейерхольда мы доходим до Виллы Боргезе и входим в самое шикарное кафе ночного Рима. Кафе переполнено «коммендаторами», фашистскими иерархами, генералами, сливками буржуазии. Мы протискиваемся сквозь них, занимаем два стола, заказываем напыщенному официанту chefs d’oeuvre’ы кондитерского искусства. Вдруг Мейерхольд спазматически вскакивает и удаляется. Вот он посреди столиков, вот он на освещенной площадке, вот он вошел в гущу парка и… исчез. Проходят минуты – его нет; лакей приносит, высоко держа над головами клиентов, два подноса и ставит перед нами. Ни у кого из нас нет денег. «Всеволод зарезался, нужно идти в отель», – уже беспокоится Зинаида, и нам приходится, оставив нетронутыми подносы, позорно встать и, под выстрелами саркастических взглядов общества, пробираться между столами, чтобы удалиться.